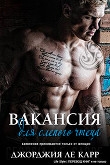Текст книги "Ироническая Хроника"
Автор книги: Тарас Бурмистров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
12 февраля 2001 года Алхимический брак Анжелы Ермаковой
Месяц назад лондонская топ-модель Анжела Ермакова, русская негритянка по происхождению, заявила о том, что отец ее дочери – известный теннисист и миллионер Борис Беккер. На днях в Королевском суде Лондона прошли слушания ее иска, завершившиеся полной победой предприимчивой афророссиянки. Поначалу Беккер, ошеломленный известием о неожиданных последствиях орального секса с русской красавицей, отпирался от своего отцовства, наняв для этого лучших британских адвокатов. Последние держали самую жесткую линию защиты и сами обвиняли Анжелу в том, что она злонамеренно завладела спермой г-на Беккера и оплодотворила себя искусственным образом, причем сделала это с помощью русской мафии. Правда, какой именно была роль русской мафии в этом акте, не сообщалось. Так или иначе, но юридическая поддержка Беккеру не понадобилась: как только стало известно заключение экспертизы, доказавшей его отцовство, теннисист сразу отказался от дальнейшего препирательства. Теперь находчивая мама может рассчитывать на одну шестую капитала Беккера, что на сегодня составляет около $30 миллионов.
Судьба Анжелы Ермаковой доказывает, что в наши дни женщины могут сделать полноценную авантюрную карьеру ничуть не хуже, чем мужчины. Когда на склоне лет г-жа Ермакова соберется, как Казанова, написать свои мемуары, я думаю, что они окажутся еще более захватывающими и содержательными, чем воспоминания знаменитого венецианского авантюриста. Анжела родилась в Москве в 1968 году; ее отцом был студент из Нигерии, которого она так никогда и не увидела (ее дочери повезло больше – она, по крайней мере, сможет видеть своего папу в телевизоре). Окончив школу, г-жа Ермакова овладела несколькими иностранными языками и перебралась на Запад. Осев в туманном Альбионе, наша хваткая соотечественница быстро вышла замуж за некого Ричарда Фрэмптона, который был совершенно равнодушен к женщинам, но зато имел британское гражданство. Ее блестящий замысел, однако, не удался; после нескольких месяцев совместного проживания, омраченного непрерывными ссорами и скандалами, уязвленный Ричард не только отказался помочь Анжеле с гражданством, но и стал угрожать открыть властям ее противоестественный замысел стать британкой. Но уже следующая попытка увенчалась успехом: выйдя замуж еще раз, Анжела наконец стала подданной английской королевы, после чего сразу же бросила своего незадачливого мужа.
Получив вожделенное гражданство, г-жа Ермакова какое-то время подрабатывала в ресторанах, подвизаясь там на единственном поприще, которое ей по-настоящему хорошо удавалось. Потом ей снова повезло: она познакомилась с крупным финансистом, и у нее появилось то, к чему она так долго стремилась – собственная вилла, красивые автомобили и ценные знакомства. Через несколько лет, однако, Анжела опять оказалась у разбитого корыта, и ей пришлось начинать все сначала. Тут-то ей и подвернулся Борис Беккер, большой любитель чернокожих женщин. Они познакомились в японском ресторане, и Анжела оставила очарованному теннисисту номер своего телефона. После этого они встречались только один раз (в бельевой комнате шикарного отеля, что показалось Беккеру ужасно романтичным). Этого раза, однако, оказалось достаточно: ловким трюком г-жа Ермакова сумела закрепить последствия мимолетного свидания, осчастливив недалекого миллионера неожиданным прибавлением в семействе.
Великий кельтский писатель Джеймс Джойс как-то с горечью сравнил ирландское искусство с "треснувшим зеркалом служанки". Судьба Анжелы Ермаковой, на мой взгляд, выглядит не ничуть худшим символом теперешней горестной участи России, также изо всех сил устремившейся к "цивилизованному миру" и претерпевшей на этом пути ничуть не меньшие невзгоды. С каким вожделением мы еще недавно заглядывали за неприступный железный занавес, каким сверкающим и драгоценным представал перед нами западный мир! За этот "жар соблазна", за эти яркие погремушки мы бросили все – свою сверхдержавность, обладание полумиром, владычество над неисчислимыми землями и народами, над которыми никогда не заходила орбитальная станция "Мир". Мы надеялись, что и мы вскоре приобщимся к этому сонму небожителей – а кончилось все бельевой комнатой в грязном отеле (на шикарный отель Запад так и не раскошелился). Как первый муж Анжелы Ермаковой, цивилизованный мир оказался равнодушен к нашим прелестям. Только наши правозащитники все по-прежнему долдонят, что мы еще недостаточно разоблачились, что нам надо шагать и шагать к настоящей демократии, унижаться все больше и больше перед всесильным Западом. Но их уже никто не слушает. Наше отрезвление наступило поздно – но лучше поздно, чем никогда.
16 февраля 2001 года Дружеская переписка Москвы с Петербургом
На днях газеты довольно сухо сообщили о "плановом визите" Владимира Путина на Украину. Визит, против обыкновения, проходил не в Киеве, а в Днепропетровске, родном городе Леонида Кучмы. Президента России сопровождал в его поездке и московский мэр Юрий Лужков, привезший на Украину свой проект строительства моста через Керченский пролив.
Это, казалось бы, совершенно рядовое событие в истории русско-украинских отношений, имеет и свою метафизическую сторону, настолько глубокую, что просто диву даешься, как символично и многозначительно иногда складываются хитросплетения нашей внутренней и внешней политики. По временам появляется такое ощущение, что эти совпадения не могут быть простым стечением обстоятельств, а преднамеренно создаются чьей-то разумной и всезнающей рукой.
Днепропетровск был основан кн. Потемкиным по воле Екатерины II, пожелавшей иметь еще и южную столицу в дополнение к северной (Петербург) и первопрестольной (Москва). Город был назван Екатеринославом (логичнее было бы именовать его Екатеринбургом, но это название было уже занято городом на Урале, появившимся полувеком раньше). Императрица демонстративно подражала Петру Великому и даже в чем-то соперничала с ним (как это видно из ее знаменитой надписи на пьедестале Медного Всадника: "Петру I – Екатерина II"). Как и Петр, она попыталась соорудить на пустынном берегу великой реки, отвоеванном у неприятеля, новый город, пышный и величественный. Обустройством Екатеринослава, ставшего столицей Новороссии, также занимался Потемкин. Развив лихорадочную деятельность, он переселял в этот край колонистов, закладывал города, застраивал улицы, учреждал школы, фабрики и верфи, разводил леса и виноградники. В столице планировались еще и парки, фонтаны, каналы, великолепные храмы, здание суда "наподобие древних базилик", торговые ряды в виде грандиозного полукружия, с биржей и театром посередине, музыкальная академия и университет. Очень скоро Екатеринослав стал "весьма лепоустроенным", как выражались современники; но судьба этого города оказалась далеко не такой счастливой, как судьба Петербурга, гениального создания Петра Великого. Через какое-то время Потемкина сменил новый фаворит Екатерины, Платон Зубов; его брат Валериан перенес столицу Новороссии в Вознесенск, и одна из самых пышных "потемкинских деревень" потеряла свое значение.
Но города, как и книги, имеют свою судьбу. Екатеринослав, при советской власти переименованный в Днепропетровск, был бы совсем заштатным городишком, если бы его изначально задуманная столичность не всплыла неожиданно тогда, когда о ней уже никто не помнил. В позднесоветское время Днепропетровск вдруг начал потоком поставлять руководящие кадры наверх, пока один видный днепропетровец, Л. И. Брежнев, не стал во главе колоссальной советской империи, достигшей в то время вершины своего могущества. В то время был даже популярен анекдот на эту тему, гласивший, что история России делится на три части: допетровская Россия, петровская Россия и, наконец, днепропетровская Россия. Сейчас политические горизонты на Украине резко сузились, но роль Днепропетровска, наоборот, выросла необыкновенно. У власти в Киеве ныне находится то, что местная пресса называет "днепропетровским кланом", и украинская элита едва ли не поголовно имеет днепропетровское происхождение. Дело дошло до того, что НДП (партия власти, наспех сколоченная перед выборами) стала именоваться в массах не "Народно-Демократической", а "Народно-Днепропетровской".
Сходным образом дела обстоят и в России, где к власти пришел, соответственно, "петербургский клан". Интересно, с каким чувством главный представитель этого клана, Владимир Путин пожимал недавно руку Леониду Кучме, главному представителю клана днепропетровского. Русские поэты петербургского периода много изощрялись в сравнениях Петра и Екатерины ("державный дух Петра и ум Екатерины", "Петр россам дал тела, Екатерина души"), но кто мог предвидеть два с половиной столетия назад, что оба детища этих великих монархов так странно проявят себя в конце ХХ века, на обломках окончательно развалившейся Российской Империи?
Как будто специально для того, чтобы полнее оттенить пронзительную символичность происходящего, в Днепропетровск отправился и Юрий Лужков, главный представитель клана московского, едва не пришедшего к власти на последних выборах. Ни один москвич не управлял Россией вот уже триста лет, со времен Петра I (который был весьма неординарным москвичом; так, у него нередко появлялось искушение сровнять древнюю русскую столицу с землей для вящего содействия реформам) – но почему так происходит, объяснить москвичам очень трудно. Я думаю, сейчас неудавшегося президента Лужкова уязвленная гордость терзает уже не так сильно, как раньше, но на действия г-на Путина московский мэр по-прежнему взирает со смешанными, и во многом очень горькими чувствами. Что ж, еще Пушкин сокрушался, что старинные московские боярские роды (к которым принадлежал и сам Александр Сергеевич) хиреют и сходят с исторической сцены, сплошь занятой какими-то петербургскими выскочками.
Между тем старая тяжба между двумя российскими столицами продолжается. Очередным ее эпизодом стала увлекательная словесная пикировка, случившаяся на открытии в Москве экспозиции "300 лет Санкт-Петербурга". Юрий Лужков, обратившийся к ее участникам с приветственным словом, выдержал его в тонах снисходительных и пренебрежительных.
– Тут к нам выставочка приехала, – сказал он собравшимся.
– Юрий Михайлович, а что Москва подарит Петербургу?, – спросили у него.
– К 300-летию Петербурга я отремонтирую все московские дворы и улицы, чтобы их губернатору было на что равняться.
– А я намерен изваять для Петербурга памятник графу Шувалову, который станет подарком лично от меня, – заявил случившийся тут же Зураб Церетели. Но не успел он закончить фразу, как петербургский губернатор Яковлев, видимо, содрогнувшийся от этой перспективы, сказал:
– Предлагаю установить этот памятник у московской Академии художеств.
Дело кончилось тем, что Церетели вызвался ваять сразу два монумента, для Москвы и Петербурга. Учитывая фантастический дар типизации московского скульптора (как известно, его памятник Петру Великому, установленный в Москве, изначально был памятником Христофору Колумбу), можно предположить, что на сей раз обе русские столицы пострадают в равной степени, и самолюбие ни одной из них не будет чересчур задето.
Вообще же надо признать, что уровень дискуссии между Москвой и Петербургом, идущей уже три столетия, изрядно снизился, хотя накал ее и остался прежним. Обмен любезностями между соответствующими градоначальниками – дело, конечно, хорошее, но раньше разногласия между двумя русскими столицами порождали не только перебранки, но и огромный поток художественной продукции: это были книги, картины, симфонии, оперные и балетные постановки. В 1859 году Некрасов написал стихотворение под выразительным названием "Дружеская переписка Москвы с Петербургом", в котором попытался суммировать вековечные претензии двух городов друг к другу. Начинается оно "московским стихотворением":
На дальнем севере, в гиперборейском крае,
Где солнце тусклое, показываясь в мае,
Скрывается опять до лета в сентябре,
Столица новая возникла при Петре.
Возникнув с помощью чухонского народа
Из топей и болот в каких-нибудь два года,
Она до наших дней с Россией не срослась.
Здесь каждый пассаж издевательски пародирует то или иное место из пушкинского "Медного Всадника", этого каталога петербургской мифологии. У Пушкина Петербург – это "юный град", "полнощных стран краса и диво", вознесшийся "из тьмы лесов, из топи блат" на месте былого "приюта убогого чухонца":
По оживленным берегам,
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся.
Некрасов (от имени Москвы) говорит о том же и почти в тех же выражениях, но совсем по-другому:
Театры и дворцы, Нева и корабли,
Несущие туда со всех концов земли
Затеи роскоши: музеи просвещенья,
Музеи древностей – "все признаки ученья"
В том городе найдешь; нет одного – души!
Там высох человек, погрязнув в барыши,
Улыбка на устах, а на уме коварность:
Святого ничего – одна утилитарность!
Ответное некрасовское "петербургское послание" уже пародирует известное стихотворение Гете "Kennst du das Land":
Ты знаешь град, заслуженный и древний,
Который совместил в свои концы
Хоромы, хижины, посады и деревни
И храмы Божии, и царские дворцы?
Это явная реминисценция из Ф. Н. Глинки, который писал о Москве:
Город пышный, город древний!
Ты вместил в свои концы
И посады, и деревни,
И хоромы, и дворцы!
Глинка, в свою очередь, опирался на известное стихотворение Пушкина о Петербурге:
Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит.
Его структуру использовал позже и Владимир Соловьев, когда ему понадобилось раздавить Москву гневной инвективой:
Город глупый, город грязный!
Смесь Каткова и кутьи,
Царство сплетни неотвязной,
Скуки, сна, галиматьи.
Но вернемся к некрасовскому стихотворению о "заслуженном граде":
Недаром, нет! невольно брызжут слезы
При имени заслуг, какие он свершил:
В 12-м году такие там морозы
Стояли, что француз досель их не забыл.
Волшебный град! Там люди в деле тихи,
Но говорят – волнуются за двух,
Там от Кремля, с Арбата и Плющихи
Отвсюду веет чисто русский дух.
Последнее четверостишие я своими глазами видел на плакате в московском метрополитене – оно попало туда, наверное, в общем русле лужковской кампании по поэтическому возвеличиванию Москвы к ее 850-летию. Каким нужно обладать историческим и поэтическим чутьем, чтобы глумливые стихи Некрасова принять за искренний панегирик Москве, а заодно и "чисто русскому духу"! Но не будем отвлекаться:
Все взоры веселит, все сердце умиляет,
На выспренний настраивает лад
Царь-колокол лежит, царь-пушка не стреляет,
И сорок сороков без умолку гудят.
Эту шутку я встречал еще у Чаадаева, который говорил, по свидетельству Герцена ("Былое и думы"): "В Москве каждого иностранца водят смотреть большую пушку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем звонил. Удивительный город, в котором достопримечательности отличаются нелепостью; или, может, этот большой колокол без языка – гиероглиф, выражающий эту огромную немую страну, которое заселяет племя, назвавшее себя славянами, как будто удивляясь, что имеет слово человеческое". Но продолжим цитату из Некрасова:
Правдивый град! Там процветает гласность,
Там принялись науки семена,
Там в головах у всех такая ясность,
Что комара не примут за слона.
Там что ни муж – то жаркий друг прогресса,
И лишь не вдруг могли уразуметь:
Что на пути к нему вернее – пресса
Или умно направленная плеть?
Все повторяется в русской истории. Сейчас, полтора столетия спустя, Москва опять стоит перед той же дилеммой (склоняясь, впрочем, в последнее время скорее к "направленной плети", чем к свободной прессе). Несмотря на то, что каждый муж у нас действительно "друг прогресса", это не слишком помогает делу: прогресса так ни в чем и не наблюдается, и наша история, как кот ученый, все ходит по кругу. Продолжается и противостояние Москвы и Петербурга, о котором и сейчас можно рассказывать почти в тех же самых выражениях, что сто и двести лет назад. Разрешить этот спор, похоже, невозможно, хотя неприятная раздвоенность общерусской жизни и становится иногда чрезвычайно утомительной. Можно, конечно, механически объединить две столицы в одну: перевезти в Москву коллекцию живописи из Эрмитажа, рукописи Пушкина и Гоголя из Пушкинского дома, прах Петра Великого из усыпальницы Петропавловского собора, но как быть с несравненной петербургской архитектурой? Предлагаю компромиссный вариант: стены Кремля надо оштукатурить, выкрасить в приятный желтый цвет a la Rossi, и приделать к ним белые колонны. Я думаю, результат получится потрясающий.
23 февраля 2001 года Политический деструктив
Последний месяц молодую и неокрепшую украинскую государственность сотрясают политические бури, невиданные со времен обретения республикой независимости. Оппозиция обвиняет президента Кучму в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе, труп которого нашли в лесу под Киевом осенью прошлого года. В деле фигурируют кассеты, тайком записанные в кабинете Кучмы и содержащие ценнейшую информацию о современных украинских методах управления государством. Народные массы между тем хлынули на улицы, восприняв происходящее как веселый внеплановый карнавал. В Киев устремились тысячи энтузиастов со всех концов республики, которые теперь занимаются там делом: устанавливают палаточные городки в центре города, водят по улицам ослов и баранов с табличками "я голосовал за Кучму" и время от времени бьют витрины.
Когда накал страстей разгорелся не на шутку, руководство страны выступило с "Обращением к украинскому народу", под которым подписались не только президент, но и премьер-министр и спикер парламента. Это "Обращение" – что-то феноменальное по своей яркой образности, выразительному стилю и эмоциональной приподнятости. Те, кто хотя бы понаслышке знаком со своеобразным слогом пана Кучмы, ни на мгновение не усомнятся, что эту речь президент Украины писал собственноручно. Стилистическая основа этого документа – советский бюрократический слог, осложненный современными порывами украинской элиты к "соборности" и "духовности", а также к так называемой "розбудове державы". "Уважаемые соотечественники", заявляет президент, "обратиться к вам вынуждают попытки поставить Украину перед великими испытаниями, втянуть ее в водоворот нездоровых страстей". В первой части этой формулы явно использована знаменитая фраза Столыпина о том, что "нам не нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия"; что же касается второй, то она, честно говоря, ставит меня в тупик. Помнится, Г. Гумберт, герой набоковского романа "Лолита", протестовал против того, чтобы его юная возлюбленная предавалась со своими сверстниками "здоровым забавам"; это еще как-то можно понять; но что такое "нездоровые страсти", да еще применительно к целому государству? "Причем делается это тогда", продолжает президент, "когда мы начали выходить из долгого экономического кризиса, когда у народа появились реальные надежды на лучшее". Действительно, как не вовремя! Хотя, с другой стороны, когда же и погружаться в "водоворот нездоровых страстей", как не тогда, когда в карманах завелось немного денег? Народу ведь нужен не только хлеб, но и зрелища.
"Будем называть вещи своими именами: против нашего государства развернута беспрецедентная политическая кампания со всеми признаками психологической войны". Блестящая формулировка! Непонятно только, кто воюет "против нашего государства". Ничего не сказано и о том, что представляют собой "движущие силы этого провокационного действа"; президент ограничился одной только грозной сентенцией, что "Украина и мир еще узнают о них". Немного подробнее говорится в документе о "политических силах, для которых не существует ничего, кроме собственных интересов и амбиций, эгоистических устремлений и сиюминутных ожиданий". Они "нагнетают атмосферу истерии и психоза, надеясь на этой волне расшатать законные государственные институции и как-нибудь прорваться к власти".
"Сегодня делается неприкрытый расчет на обманутых статистов", продолжает Кучма. "Поскольку абсолютное большинство украинского народа не откликается на провокационные призывы профессиональных революционеров, им не остается ничего иного, как апеллировать к крайним, экстремистским силам, к возбужденной толпе, используя ее как таран и способ запугивания обывателей зловещими аналогиями. Стоит присмотреться ближе к их символике, к атрибутам, которыми обставляются театральные политические шоу, чтобы убедиться: перед нами – украинская разновидность национал-социализма". Ничего не скажешь, возбужденная толпа, используемая как таран – это сильный образ. Что же касается борьбы с нацизмом, то я могу смело порекомендовать пану Кучме передовой западный опыт противодействия подобным настроениям масс. Недавно германские власти разработали программу по борьбе с нацистскими группировками. Суть ее предельно проста: каждому боевику, отказавшемуся от своих радикальных взглядов, выплачивается денежное пособие на сумму до 50 тыс. долларов. Пока неясно, правда, как именно правительство собирается выяснять искренность такой смены убеждений; но этот вопрос, похоже, волнует его намного меньше, чем быстрый рост нацистских настроений в стране. Как заявил на днях немецкий министр внутренних дел: "если хотя бы один человек готов покончить с экстремизмом, то государство не должно скупиться на расходы". Странно, как это правительства раньше не додумались до столь простого и изящного способа превращать свирепых боевиков в мирных обывателей. Впрочем, он давно уже применяется российскими властями в Чечне: просто диву даешься, когда видишь, какие замечательные главы районных администраций получаются из бывших полевых командиров.
Но вернемся к обращению Леонида Кучмы. "Каждый из вас, уважаемые сограждане", говорит он, "должен понять: единственная надежда этих политиканов, которые сожгли за собой все мосты, на то, чтобы искры вражды, непримиримости и озлобления перекинулись на все общество, ваши дома и ваши судьбы. Силясь возродить угрозу полномасштабного гражданского конфликта, которого Украина избежала на самых сложных этапах своего становления, они надеются, что в обстановке хаоса, неуверенности, безвластия и беспорядка ("безвладдя i безладдя" в оригинале) им удастся удержаться на плаву". В этой сентенции, на первый взгляд такой неуклюжей, на самом деле продемонстрирована фантастическая литературная виртуозность. Для стиля Кучмы характерна повышенная метафоричность, а это – самая сложная и опасная вещь в литературе. Набоков в своем романе "Дар" любил издеваться над писателями типа Михайловского, у которого "легко отыскивалась брюхом вверх плавающая метафора вроде следующих слов о Достоевском: бился, как рыба об лед, попадая временами в унизительнейшие положения". Лотман схожим образом характеризовал "Последние элегии" Некрасова:
Душа мрачна, мечты мои унылы,
Грядущее рисуется темно.
Привычки, прежде милые, постылы,
И горек дым сигары. Решено!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я рано встал, не долги были сборы,
Я вышел в путь, чуть занялась заря;
Переходил я пропасти и горы,
Переплывал я реки и моря.
"Литературные штампы подобраны здесь таким образом", пишет маститый исследователь, "чтобы непосредственные зрительные их переживания читателем исключались. Всякая попытка представить автора с сигарой в руках, переходящим "пропасти и горы" или переплывающим "реки и моря" может создать лишь комический эффект". Не то у Кучмы: в его тексте зрительные и метафорические ряды строго соотносятся. "Политиканы", которые "сожгли за собой все мосты", теперь надеются на то, что искры от этих пожарищ перекинутся на все украинское общество, его "дома и судьбы". В этой "обстановке неуверенности" им теперь не удержаться на плаву, говорит Кучма.
"Безусловно, не стоит драматизировать ситуацию", продолжает он. "В масштабах всего общества, его жизни эта суета – не более чем микроскопические, скоротечные аномалии, и не им обозначать будущее Украины". Выражение "скоротечные аномалии" вызывает в моей памяти лишь одну литературную ассоциацию, и ту не вполне пристойную. Это эпиграмма Пушкина:
Словесность русская больна
Лежит в истерике она
И бредит языком мечтаний,
И хладный между тем зоил
Ей Каченовский застудил
Теченье месячных изданий.
Украинская словесность сейчас, пожалуй, находится в еще более тяжелом положении: в этой стране время от времени останавливается "теченье" даже ежедневных изданий. Впрочем, рассматривать медицинские аспекты современной украинской политики в мои планы не входило.
Концовка обращения Кучмы выдержана в еще более торжественном стиле. "Анархия, произвол и беззаконие не пройдут!", заявляет президент. "Мы будем и дальше направлять усилия власти, всех ее ветвей и органов на обеспечение мирного, спокойного настоящего и ясного, предсказуемого будущего Украины. Единство наших позиций и подходов, однозначную настроенность на решительный отпор политическому деструктиву свидетельствует это обращение".
Пожелаем же украинской власти, со всеми ее ветвями и органами, успехов на этом поприще! Пусть еще не одно обращение к нации засвидетельствует ее "однозначную настроенность" на решительный отпор "политическому деструктиву"!
3 Апреля 2001 года Удавить по-тихому
На прошлой неделе в Москве прошел митинг под неуклюжим названием "в поддержку свободы слова в России и телекомпании НТВ". Ему предшествовало письмо "видных деятелей науки, культуры и политики", созданное с теми же благими намерениями и опубликованное в газетах на правах рекламы. В качестве подписи под этим письмом красовалось больше сотни имен, и каких имен! Без преувеличения можно сказать, что там отметился весь цвет московской и петербургской интеллигенции. В числе прочих в этом списке были Юз Алешковский "товарищ Сталин, вы большой ученый", Белла Ахмадулина "сокровище русской поэзии", Андрей Битов "пушкинский дом", Михаил Боярский "кто на новенького", Михаил Горбачев "процесс пошел", Армен Джигарханян "в мире нет стольких армян", Виктор Ерофеев "русские цветы зла", Филипп Киркоров "зайка моя", Алла Пугачева "женщина, которая поет" (не путать с "человеком, который смеется"), Владимир Соловьев (надеюсь, не тот, который "Оправдание добра") и Григорий Чхартишвили (по кличке Борис Акунин).
Озаглавлено это послание интеллигенции русскому народу "Самое время начать беспокоиться"; этот строгий, дидактический тон выдерживается и в дальнейшем. Пробежав глазами этот документ эпохи, чувствуешь, как тебя охватывает невольная робость. Это не что иное, как выговор – гневный, раздраженный и придирчивый. Хозяева НТВ раздосадованы тем, что общественность так вяло реагирует на притеснения их детища со стороны властей, и считает нужным указать этой общественности на ее священный долг. "Вот уже почти год крупнейшая в стране общенациональная телекомпания НТВ находится под беспрецедентным давлением", пишут авторы письма. "Почти год оно неуклонно усиливается, постепенно приобретая характер репрессий. Обыски, допросы, аресты, запугивания и публичная клевета стали уже рутинными обстоятельствами, в которых работают руководители и сотрудники компании, редакции и журналисты. Политический подтекст этих преследований совершенно очевиден: подавление инакомыслия в стране".
Не очень понятно, каким образом то, что вещает "крупнейшая в стране общенациональная телекомпания" может называться "инакомыслием". Впрочем, это словцо и не должно согласовываться по смыслу с текстом: оно несет в себе куда более глубокое, я бы даже сказал, сакральное значение. В ком из старых советских диссидентов, разбросанных ныне на всем мировом пространстве от Калифорнии до Израиля, не екнуло сладко сердце при чтении этих строк, донесенных до них услужливой печатью или Интернетом? Подавление инакомыслия в стране! Репрессии, обыски, допросы, аресты! Какой неизбывной ностальгией по горячей, романтической молодости веет от этих слов!
"Между тем российское общество", продолжают авторы послания, "все это время наблюдает за происходящим с поразительным хладнокровием. Создается впечатление, будто защита свободы слова – частная проблема телеканала НТВ и его партнеров, а угроза этой свободе – персональная неприятность сотрудников одной корпорации. Это опасное заблуждение". Виноваты, исправимся, батюшка-барин! Грудью встанем на защиту последнего бастиона свободы слова в России!
"Мы уверены, что защита прав граждан на получение объективной и полной информации, на свободное выражение своего мнения – обязанность самих граждан, общества в целом. В этом и только в этом заключается наш интерес к судьбе НТВ". Очень характерно здесь само это слово "обязанность". Уже так называемые "права человека" – изобретение более чем сомнительное; дело принимает, однако, еще худший оборот, когда эти права начинают вменяться гражданам в обязанность. Когда население страны насильно закармливают "правдой о чеченской войне", которую оно по большому счету знать не желает, то при этом исходят именно из этого порочного тезиса. Среднестатистическому россиянину, может, и приятно осознавать, что наша героическая армия пусть и не без усилий, но все-таки взяла мятежный Грозный, однако обыватель вовсе не стремится каждый день смотреть по телевизору, как наматываются на гусеницы танков развороченные кишки. Телеканал НТВ, тем не менее, показывал эти кадры с упорством, достойным лучшего применения. В одной батальной сцене Владимира Соловьева описывается армянское село, разграбленное турками: сожженные дома, потоптанные поля, трупы со вспоротыми животами, и в качестве кульминации "женщина, привязанная к тележной оси, чтобы не могла головы повернуть, лежит с искривленным лицом, явно от ужаса померла, а перед нею высокий шест в землю вбит, и на нем младенец голый привязан – ее сын, наверное, весь почерневший и с выкатившимися глазами, а подле и решетка с потухшими углями валяется". Чувства несчастных российских телезрителей, вынужденных изо дня в день смотреть, как НТВ смакует гибель их сыновей, по-моему, не сильно отличались от предсмертных мучений этой армянки.
Но не будем отвлекаться. "Мы считаем, что самое время начать беспокоиться", заявляют владельцы НТВ. "Более того, очевидно, что пора продемонстрировать это беспокойство публично. Мы полагаем, что вполне уместной формой такой демонстрации станет митинг, инициаторами которого выступят подписавшие это письмо". Так и хочется сердечно поблагодарить их за заботу. Кто бы еще так порадел о том, как именно выражать нам свое недовольство! Что бы мы делали без таких опекунов, а главное – что бы стало без них со свободой слова в России!