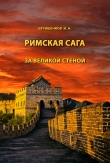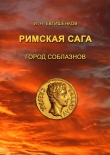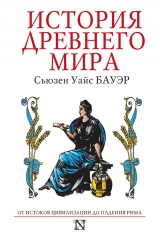
Текст книги "История Древнего мира: от истоков цивилизации до падения Рима"
Автор книги: Сьюзен Бауэр
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 60 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
Царь-философ
В долине Хуанхэ реки в период между 2852 и 2205 годами до н. э. жители древних деревень Китая выбирают себе правителей, но отвергают их наследников
Далеко на востоке от Месопотамии и Индии снова проявляется знакомый нам рисунок событий.
На этот раз заселение началось вокруг Хуанхэой реки (Хуанхэ), бегущей на восток с высокого плато – Тибетского нагорья, теперь называемого Цинхай-Сикан, и впадающей в Хуанхэое море. Далее к югу от нее на восток к берегу моря текла река Янцзы.
В дни, когда Сахара была зеленой, а пустыня Тар орошалась водой из рек, широкое пространство между двумя великими реками Китая было, вероятно, всего лишь лоскутом земли с болотами, озерами и поросшей отмелью. Полуостров Шаньдун был почти островом. По болотам могли бродить охотники и собиратели, но людям не было смысла селиться на сочащейся водой земле.
Затем, за счет потепления в Сахаре, разливы Нила уменьшились, а река, когда-то орошавшая пустыню Тар, исчезла. Многорукавный месопотамский поток постепенно стал двумя отдельными реками благодаря тому, что между ними накопились осадочные породы. Междуречье великих рек Китая тоже постепенно высохло.
К 5000 году до н. э. пространство между реками Хуанхэ и Янцзы превратилось в широкую равнину, на возвышенных местах поросшую лесом. Здесь начали селиться кочевники, и выращивать рис на влажных участках вдоль рек. Количество жилищ росло, появлялось все больше деревень. Первые значительные поселения археологи обнаружили возле реки Хуанхэ. В них постепенно складываются характерные обобщающие черты: люди в соседних деревнях приобретают одни и те же привычки, у них появляются одинаковые методы возведения домов, формируется стиль глиняных изделий и, по-видимому, общий язык.
Цивилизация Хуанхэой реки в долине Хуанхэ, которую мы теперь называем Ян-шао, была не единственной в Китае. На юговосточном побережье, ближе к Восточно-Китайскому морю, образовалась еще одна культура с названием Дапенкен; южнее, в долине реки Янцзы, появилась цивилизация Цинляньган.1 Под гигантской южной излучиной реки Хуанхэ возникла четвертая группа поселений – Луншань. Раскопки открывают, что руины культуры Луншань иногда располагаются над остатками Ян-шао – отсюда возникает предположение, что культура Луншань могла мирно вытеснить, по крайней мере частично, культуру Хуанхэой реки.2424
Здесь автор несколько запутался в периодизации. Культура Ян-шао существовала в четвертом-третьем тысячелетиях до н. э. в Северном Китае (среднее течение реки Хуанхэ). Ее сменила Луншань – группа неолитических культур в Северном Китае (первая половина второго тысячелетия до н. э.). Вначале она охватывала среднюю часть бассейна Хуанхэ, а затем распространилась и на восток (провинция Шаньдун).
За ней следовала культура Хунань. Все эти культуры территориально подразделяются на более мелкие, часть из которых перечислены: Давэнькоу (5000-3000 годы до н. э.) – на юг от Яншао
Мацзябан и Хэмуду (5000-3500 годы до н. э.) – нижнее течение Янцзы (южная часть провинции Цзянсу).
Цинляньган (4500-3000 годы до н. э.) – Восточный Китай (провинция Цзянсу). Цюйцзялин и Даси (5000-3000 годы до н. э.) – среднее течение Янцзы. Дапенкен (5000-2500 до н. э.) – далеко на юге, Тайвань. (Прим. ред.)
[Закрыть]
Мы почти ничего не знаем о жизни и обычаях этих четырех культурных групп. Все, что мы можем сделать – это обозначить каждую из них своим термином, потому как им были присущи разные стили гончарного искусства и различные методы ведения сельскохозяйственных и строительных работ: поселения Ян-шао обносилось рвом, в то время как луншаньская деревня могла быть отделена от окружающих ее пустошей земляной насыпью. Но вне самых общих гипотез – быть может, устройство кладбища возле деревни на южном берегу Хуанхэ намекает на очень раннюю форму древнего культа; возможно, погребение пищи вместе с мертвецом свидетельствует о вере в загробную жизнь – у нас нет иных ключей к истине, кроме рассказов, претендующих на записи ранней истории Китая.
Как и легенды Месопотамии, мифы о раннем Китае были зафиксированы значительно позже событий, которые они описывают. Но до сих пор эти легенды доносят до нас более древние традиции и знакомят с первым царем, который установил во всем необходимый порядок. Его имя – Фу Си. Сыма Цянь, великий историк, который собрал переводы сказаний древнего Китая и превратил их в эпическую историю, сообщает нам, что Фу Си начал свое правление в 2850 году. Он изобрел восьмерку триграмм – рисунок из прямых и прерывающихся линий, используемый для записи и сохранения предсказаний и интерпретации событий. Загадывая на появление птиц и животных, Фу Си
ответ вытаскивал он прямо из себя,
не только брал лишь внешние предметы.
Триграмм восьмерку создал он для нас,
чтоб передать значение пророчеств,
определяя суть всего живого.2
Восьмерка триграмм создана по образцу отметин на панцире черепахи. Первый китайский правитель не спас своих людей от потопа, не получил свою власть от небес и не объединил две страны в одну. Нет, его великое достижение было для китайцев гораздо более важным. Он нашел связь между миром и человеком, между рисунками, созданными природой, и импульсами человеческого сознания, призванного упорядочить все вокруг.
В китайской мифологии Фу Си следовал за вторым великим императором Шэн Нуном – создателем плуга из дерева и первым пахарем. В «Шу-Цзин»2525
«Книга истории» или «Книга документов» – одна из китайских классических книг, входящая в состав конфуцианского «Пятикнижия». Она содержит документы по древнейшей истории Китая (с 2357 по 627 год до н. э.); редакция ее приписывается Конфуцию, который привел в порядок дошедшие до него документы, некоторые из них считаются древнейшим пластом китайской истории и мифологии. Признана аутентичным документом VI века до н. э. (Прим. ред.)
[Закрыть] говорится, что он научил людей находить наилучшие почвы, сеять и выращивать зерно, которое поддерживает жизнь, молоть его, есть полезные растения и избегать отравлений. За царем-земледельцем следовал третий великий правитель – вероятно, самый великий из всех. Это был Хуан-ди, Хуанхэый император.2626
В древних китайских записях нет согласия относительно такого расположении – три божественных царя и следом три мудрых царя. В некоторых изложениях за тремя царями-полубогами – Фу-Си, Шэнь-нунем и Кан Пао – следовали пять императоров, это Хуан-ди, Ди Ку (изобретатель музыкальных инструментов), Яо, Шунь и Ю, который основал полулегендарную династию Ся. За династией Ся в 1776 году до н. э. возникла династия Шан – первая, о которой существуют серьезные исторические записи. (Прим. авт.)
[Закрыть]
Традиционно считается, что Хуан-ди правил с 2696 до 2598 года до н. э. В свое правление он победил брата, Огненного царя2727
Здесь речь идет о предании, гласящем, что Хуан-ди был искусен во владении копьем и щитом и собирался покарать всех правителей, не явившихся к нему с данью. Однако, узнав о его намерениях, Ъсе пришли с дарами. Один только правитель юга – бог солнца Янь-ди (по некоторым версиям, брат Хуан-ди) не пожелал подчиниться. Тогда Хуан-ди. собрал тигров, барсов, медведей и других хищных зверей и сразился с Янь-ди у селения Баньцюань. Хуан-ди вышел победителем. Непокоренным остался лишь один Чи-ю, потомок Янь-ди, которого Хуан-ди победил в битве при Чжолу и казнил. (Прим. ред.)
[Закрыть], и прибрал к рукам и его земли. Но вскоре военачальник Чжи-Ю, который был предан Огненному царю, поднял восстание против победоносного Хуанхэого императора.

Древние китайские поселения
Чжи-Ю имел скверный характер – он придумал войну, выковал первые металлические мечи, грыз гальку и камни своими несокрушимыми зубами, и собрал армию разбойников и гигантов. Он атаковал армию Хуан-ди на поле, покрытом туманом. Хуан-ди пришлось использовать магическую колесницу, снабженную компасом, чтобы найти дорогу к центру сражения (которое он в итоге выиграл).
Конечно, это анахронизм. В 2696 году в Китае не существовало компаса – волшебного или какого-либо иного. Не было еще и городов. В то время как уже процветали Мемфис и Киш, поселения на Хуанхэой реке были жалкими деревеньками, скоплениями мазанок, лишь иногда окруженных земляными рвами и стенами. Люди, жившие в этих поселениях, научились рыбачить, сажать и собирать зерно и (мы уверены) бороться с вторжениями иноземцев. Хуан-ди, если он и вел войну за создание империи со своими братьями и их военачальниками, завоевал не страну блестящих городов и преуспевающих торговцев, а землю, на которой кучки сельских хижин были окружены рисовыми и просяными ПОЛЯМИ.
Но некоторые изменения в структуре китайского управления после завоеваний Хуан-ди все-таки появились. К этому времени в Шумере уже развивалась идея наследования власти. Очевидно, такая же мысль вскоре зародилась и в Китае. За Хуан-ди, последним из трех великих правителей, следовал император по имени Яо. Яо, которого переполняла мудрость (первый из Трех мудрых царей), по-видимому, правил в то время, когда уже было в обычае передавать верховную власть сыну. Вероятно, он понимал, что его сын не подходит для наследования трона2828
Согласно легенде, Яо изобрел игру вэй-чи («облавные шашки»), чтобы просветить своего нерадивого сына. Однако сын так и не проявил интереса ни к чему, кроме вэй-чи. Поэтому, когда пришло время избрать преемника, Яо указал не на собственного сына, а на Шуня, отдав за него замуж двух своих дочерей. Сына же он изгнал в отдаленную провинцию. (Прим. ред.)
[Закрыть]. Поэтому Яо выбрал своим наследником бедного, но умного крестьянина по имени Шан, известного не только своей добродетельностью, но и преданностью отцу. Шан, будучи мудрым и справедливым царем (второй из Трех мудрых царей), повторил модель своего назначе-ни я на царство, в обход сына избрав другого достойного человека – Юя, третьего Мудрого царя, прославившегося в качестве основателя первой династии Китая – Хань.
| Индия | Китай |
| Ранние поселения вдоль Нижнего Инда и в Пенджабе | Ранние культуры Китая: Ян-шао, Дапенкен, Цинляньган и Луншань |
| Кали-Юга, Век Железа (с 3102 года по настоящее время) | |
| Деревни начали разрастаться в города | |
| Ману Вайвасвата | |
| Фу Си (2850 год до н.э) | |
| Шэи Нун | |
| Хуан-ди (2696 год до н.э) | |
| Яо (2598 год до н.э) | |
| Династия Хань (2205–1766 годы до н.э) | |
| Юй |
Иными словами, в Китае самые ранние сказания об императорской власти демонстрируют не отчаянное стремление утвердить наследника-сына, а, наоборот, лишение прав крови в пользу добродетелей. Власть – это прекрасно, но никто не может взять ее просто в качестве подарка по праву рождения. Мудрость, а не происхождение определяет право на власть. У жителей Киша была причина потребовать смены престолонаследования, потому что их царь Этана оказался бездетен. Но у жителей городов в долине Хуанхэ не возникало такого стремления.2929
Любой западный рассказ о китайской истории осложняется тем фактом, что не существует универсальной и общепринятой системы транскрипции китайских знаков латинским алфавитом. Система Уэйда-Джайлса, разработанная между 1850 и 1912 годами двумя кембриджскими учеными (не удивительно, что их звали Уэйд и Джайлс), широко использовалась до 1970 года, когда правительство Китайской Народной Республики официально выбрало систему пиньинь («китайский фонетический алфавит»), дабы попытаться стандартизировать написание китайских имен в других языках. Пиньинь не полностью отвечает поставленной цели. Многие западные исследователи находят эту транскрипцию дезориентирующей (например, Iching [«И-цзин» – Ред.] в ней становится Yi jing; река Yangtze превращается в Chang Jiang) – частично из-за наличия латинской транскрипции Уэйда-Джайлса, которая получила широкое распространение в Европе, а частично потому, что многие китайские имена и названия стали привычными для не-китайцев в форме, которая не принадлежит ни Уэйду-Джайлсу, ни системе пиньинь. Например, северо-восточный район Китая соответственно называется Tung-pey в транскрипции Уэйда-Джайлса и Dongbey в системе пиньинь, но большинство историков готово оставить споры и просто называть его по имени, известному с XVI века – Манчжурия. Так как система пиньинь (насколько я могу судить) выглядит все же наиболее точной из всех систем, я попыталась там, где это возможно, использовать ее. Однако когда другая версия имени кажется настолько более знакомой, что вариант пиньинь может вызвать недоумение, я перехожу к более известному написанию (как в случае с рекой Yangtze – Янцзы). (Прим. авт.)
Главная проблема транскрипции китайских слов заключается в том, что в разных регионах Китая произношение одних и тех же иероглифов может кардинально различаться – причем на слух европейца эти различия будут иными, чем на слух китайца. Транскрипция пиньинь ориентируется на столичное произношение, что выглядит достаточно осмысленным. Транскрипция Уэйда-Джайлса опирается в основном на южные диалекты, в то время как традиционная русская транскрипция – на северные. Вдобавок традиционное для русскоязычной литературы написание многих китайских имен и названий происходит от неверной расшифровки западной транскрипции. Следует заметить, что при написании китайских имен автор не просто смешивает две существующие системы (что создает серьезные трудности для адекватной передачи) – то же имя Фу Си она в соседних абзацах приводит в двух вариантах: Fu Xi (пиньинь) и Fu Hsi (Уэйд-Джайлс). (Прим. ред.)
[Закрыть]
Часть вторая
САМЫЕ ПЕРВЫЕ
Глава седьмаяПервые записи событий
Между 3800 и 2400 годами до н. э. шумеры и египтяне начинают пользоваться печатями и знаками
Письменная история началась около 3000 года до н. э. В начале этого тысячелетия существовали всего две вещи, достаточно важные, чтобы пронестись сквозь пространство и время: деяния великих людей и владение коровами, зерном и овцами. В городах Шумера начала формироваться великая эпическая литература – и сословие бюрократов, чьей задачей была забота об учете имущества.
Люди – это люди. Первым проявлением цивилизации явилась бюрократия. Суть возникновения письменности лежит не в многогранности человеческого духа, а в необходимости сказать с определенностью: «Это мое – а не твое». Но, изобретя искусственный код, позволяющий фиксировать и сохранять сведения об имуществе, бухгалтеры передали этот дар рассказчикам. И это тоже был способ сделать своих героев бессмертными. С тех далеких дней литература остается прочно привязанной к коммерции.
Со времен пещерной живописи люди делали отметки, чтобы зафиксировать счет предметам. Мы можем назвать эти метки зернами письменности, так как метка означает не просто «это метка», а нечто большее. Однако подобные знаки не идут дальше конкретного пространства и времени. Они не имеют голоса, пока тот, кто их сделал, не будет стоять рядом, объясняя: «Эта линия – корова, эта – антилопа; а здесь – мои дети».
Жители Шумера сделали еще шаг вперед. Очень рано обладатели ценного ресурса (зерна, молока и, быть может, масла) начали налеплять на крепко завязанные мешки с зерном глиняный шарик, придавливая к нему свою печать. На печати, квадратной или круглой, был вырезан особый рисунок. Когда глиняный шарик высыхал, метка хозяина («Это мое!») оставалась на глине, олицетворяя собою гарантию владельца и служа залогом неприкосновенности в его отсутствие.
Понимание этих печатей, как и отметок, сделанных пещерным художником, зависело от степени осведомленности окружающих. Каждый, кто видел печать, должен был знать, что она означает чье-то присутствие – еще до того, как она конкретизировала свое послание («Это принадлежит Илшу»). В отличие от меток пещерного художника, печати были не похожи друг на друга. Метка могла означать женщину или овцу, мужчину или корову. Печать же могла представлять лишь одного шумера – Илшу. Самому Илшу больше не нужно было присутствовать лично для такого пояснения.
Таким образом, был сделан первый шаг к преодолению пространства.
Вероятно, одновременно с печатями в обиход вошел еще один тип знака. Как и пещерные художники, шумеры использовали отметины и зарубки, чтобы зафиксировать расчет количестве коров (или мешков зерна), которыми они владели. Зарубки, ведущие подсчет их достоянию, наносились на маленькие глиняные пластинки – счетные таблички. Информация на них сохранялась до тех пор, пока земледельцы владели коровами, и на многие века спустя. Нередко самые богатые шумеры, имевшие много табличек, хранивших сведения об их богатствах, укладывали их на тонкий пласт мягкой глины, оборачивали пласт вокруг таблички и прикладывали печать к образовавшейся упаковке. Когда глина высыхала, получалось что-то вроде конверта.
К несчастью, единственным способом открыть этот конверт было разбить глину – но в таком случае, в отличие от бумажного пакета, он становился непригоден к использованию. Более удобным способом хранения сведений, стало нанесение снаружи на «упаковку» меток, информирующих о том, сколько табличек находится внутри нее, и с их кратким содержанием.
Теперь отметки на «конверте» рассказывали о табличках внутри – а те, в свою очередь, несли на себе отметки, символизирующие коров. Другими словами, наружные метки стали знаками с двойным абстрагированием от представленных ими объектов. Взаимоотношения между предметом и меткой начали перерастать в абстрактные.1
Следующим шагом в развитии письма стал окончательный отказ от простых меток. По мере того как росли шумерские города, собственность принимала все более сложную форму. Можно было владеть большим количеством типов предметов, которые могли передаваться кому-либо другому. Теперь наследники нуждались в чем-то ином, нежели просто отметка о единице собственности. Им требовались пиктограммы – изображения подсчитываемых предметов.
Использовавшиеся первоначально пиктограммы со временем упрощались. Во-первых, их обычно рисовали на глине, которая неудобна для нанесения мелких деталей. Вдобавок было бы пустой тратой времени рисовать реальную корову каждый раз, когда требовалась ее отметка, если все, смотрящие на пластину, и так прекрасно знали, что квадрат со слегка обозначенными головой и хвостом означает корову; так палка-палка-огуречик в исполнении малыша обязательно изображает маму (хотя ее и трудно опознать в этом намеке на человека) – просто потому, что здесь должна быть изображена именно мама.
Все это – система обозначений. Ее еще нельзя назвать письмом. С другой стороны, – это система отметок, которые становятся все более и более сложными.
Затем снова появляется печать – на этот раз передающая совсем новое содержание. Илшу, который когда-то использовал свою печать только для того, чтобы обозначить собственность зерна и масла, мог теперь поставить ее на обороте таблички, пиктографически при сделке. На обороте таблички рисунок Илшу н изображающей продажу коров соседа слева его соседу справа. Не доверяя друг другу, они оба просили его присутствовать при продаже, и он ставил свою печать на табличке как свидетель е говорит больше «Тут был Илшу» или даже «Это принадлежит Илшу». Он говорит: «Илшу, который был тут, наблюдал за этой сделкой и может дать пояснения, если у вас возникнут вопросы».
Это больше не обычная метка. Это развернутое заявление, сделанное читателю.
До определенного момента шумерское «письмо» зависело от хорошей памяти всех участников; оно больше было похоже на нитку, завязанную на пальце, чем на развитую систему символов. Но города торговали, экономика развивалась, и глиняные таблички должны были начать вмещать в себя больше информации, нежели простое указание на количество и вид товаров. Земледельцам и купцам требовалось записывать, когда засеяны поля и каким зерном; какие слуги с какими поручениями и куда посланы; сколько коров было отослано в храм Энлиля в уплату за данные предсказания (на случай, если жрецы просчитаются); сколько податей было отослано царю (на случай его просчета и требований новой дани). Чтобы зафиксировать столько информации, шумерам потребовались знаки, означающие слова, а не просто товары. Им нужна была пиктограмма для обозначения «коровы» – но также знаки для обозначения «послан» или «куплен»; пиктограмма для обозначения «пшеницы» – и знак для указания «посажена» или «погибла».
Нужда в знаках возросла, и развитие «кодов» могло принять одно из двух направлений. Знаки могли множиться, и каждый бы соответствовал отдельному индивидуальному слову – либо же пиктограммы могли преобразоваться в фонетическую систему таким образом, чтобы знаки означали звуки, части слов, а не сами слова; таким путем можно было построить из ограниченного числа знаков любое количество слов. В конце концов, стоило человеку увидеть пиктограмму «корова» и сложить губы в шумерское слово «корова» – тут же возникал звук. Затруднительно было бы употреблять длинное обозначение понятия «корова», и со временем знак стал представлять собой лишь первый звук в слове «корова». Затем его стало возможным использовать в качестве начального знака во всех сериях слов, которые начинались с того же звука, что и «корова».
В течение как минимум шестисот лет шумерские пиктограммы шли по этому второму пути развития фонетических символов.3030
История развития письменности – это предмет, которому посвящено множество томов фундаментальных исследований; эта глава является только попыткой вставить данный предмет в описываемый нами исторический контекст. Более детальное изложение, написанное настоящим экспертом по лингвистике, можно найти у Стивена Роджера Фишера в «Истории письменности» (Steven Roger Fisher, «А History of Writing»); более популярное изложение представлений о самых ранних системах письменности и ее развитии дано в работе К. Б. Ф. Уолкера «Клинопись: читая прошлое» (С. В. F. Walker, «Cuneiform: Reading the Past»), а также во втором томе серии «Египетские иероглифы: читая прошлое» У.В. Дэвиса (W. V. Davies, «Egyptian Hieroglyphs: Reading the Past»). (Прим. авт.)
[Закрыть] Символы, нанесенные на мокрую глину палочкой с клинообразным концом, имели четкую форму – расширяясь сверху и сужаясь книзу. Что шумеры называли своим письмом, мы никогда не узнаем. Почти невозможно узнать, как выглядела постоянно эволюционировавшая технология на своей самой ранней стадии, а сами шумеры никак не отметили введенную ими новацию. Только в 1700 году изучавший Древнюю Персию ученый по имени Томас Хайд дал шумерскому письму название «клинопись», которым мы пользуемся до сих пор. Правда, это название ничем не помогало понять суть шумерского письма. Более того, сам Хайд считал, что аккуратные значки на глине были всего лишь некой декоративной каймой.
В Египте пиктограммами начали пользоваться несколько позже, чем в Шумере. Однако ко времени образования единого государства эти значки стали уже привычными. На плите Нармера справа от головы царя помещена пиктограмма, обозначающая каракатицу – что также означает и его имя.
Не похоже, что египетские пиктограммы, которые мы теперь называем иероглифами, развились из системы счета. Скорее всего, египтяне научились технике пиктограмм от своих соседей на северо-востоке. Но в отличие от шумерских клинописных знаков, которые потеряли свое сходство с оригинальными пиктограммами, египетские иероглифы сохраняли узнаваемую форму очень долгое время. Даже после того, как иероглифы стали фонетическими знаками, обозначая звуки, а не предметы, они все еще узнавались как предметы: мужчина с поднятыми руками, пастуший посох, корона, сокол. Иероглифическое письмо представляло собою смесь знаков – некоторые из них оставались пиктограммами, в то время как другие уже превратились в фонетические символы. Иногда знак сокола стоял как звук, а иногда это был именно сокол. Поэтому египтяне создали символ, названный определителем: это был знак, ставящийся возле иероглифа, чтобы показать, чем тот выступает – фонетическим символом или пиктограммой.
Но ни пиктографическое, ни клинописное письмо так и не развились в полноценную фонетическую форму – в алфавит.
Шумерская письменность не завершила своей эволюции, так как была заменена аккадской (язык захватчиков Шумера). В то же время египетские иероглифы просуществовали тысячи лет, не потеряв своего значения в качестве картинок. Вероятно, загадка кроется в особом отношении египтян к письму: у египтян письменность была ключом к бессмертию. Это была магическая форма, в которой сами линии означали жизнь, могущество. Некоторые иероглифы были настолько сильны, что воспрещалось наносить их в магическом месте; их можно было рисовать или вырезать с учетом особых условий, дабы не привести в действие нежелательные силы. Имя царя, вырезанное иероглифом на монументе или статуе, обеспечивало ему присутствие на земле и после его смерти. Стереть такое имя царя означало убить его окончательно.
Шумеры, более практичный народ, не вкладывали столько смысла в свою письменность. Как и египтяне, у них было божество, покровительствующее письму – богиня Нисаба, которая также была (насколько мы можем судить) богиней зерна. А египтяне верили, что письменность изобретена богом Тотом, божественным писцом, создавшим самого себя силой собственного слова. Тот был богом письменности, но также и богом мудрости и магии. Он измерял землю, считал звезды и записывал деяния каждого человека, приводимого в Зал Мертвых на суд. Он не суетился, считая мешки с зерном.
Такое отношение к письму стало причиной сохранности иллюстративной формы иероглифов, так как сами картинки считались наделенными силой. В действительности далекие от фонетики иероглифы были удобны в том смысле, что не поддавались расшифровке, если у вас не было ключа к их значению. Египетские священнослужители, владеющие информацией, охраняли границы своих знаний, держа этот инструмент в своих руках. Именно тогда умение читать и писать стало признаком силы.
На деле иероглифы были так далеки от ясности, что способность понимать их значение начала пропадать еще тогда, когда Египет существовал как единая нация, мы находим сведения о говорящих по-гречески египтянах. Еще в 500 году н. э., писавших длинные пояснения связей между знаком и его значением. Например, Гораполло в своей «Иероглифике» объясняет различные значения иероглифа, имеющего вид грифа, отчаянно смело (и неверно) пытаясь выразить связь между знаком и его значением:
«Когда они подразумевали мать, зрение, границы или предвидение, они рисовали грифа. Мать – так как у этого вида животных нет самцов... гриф отвечает за зрение, так как из всех животных у него самое острое зрение... Знак означает границы, потому что, когда вот-вот разразится война, он ограничивает пространство, на котором произошла битва, зависая над ним на семь дней. [И] предвидение – потому что... он ожидает много трупов, которыми обеспечит его это кровопролитие»?
Со временем значение иероглифов полностью стерлось, и письменность египтян оставалась непонятной до тех пор, пока однажды отряд наполеоновских солдат, копая землю для закладки фундамента форта, который Наполеон задумал построить в дельте Нила, не наткнулся на 700-фунтовый кусок базальта с тройной надписью, сделанной иероглифами, позднеегипетским письмом, а также по-гречески. Эта скала, теперь известная под названием «Розеттский камень», дала лингвистам ключ, необходимый для начала работы по расшифровке египетской иероглифической азбуки. Таким образом, военные, которые уже и ранее в течение многих веков поставляли ученым материалы, приводившие к открытиям, помогли вернуть возможность прочесть древнейшие поэмы и эпические произведения египтян. Впрочем, великая литература никогда не была независимой от войны – как не может она стряхнуть с себя коммерческую зависимость.
Иероглифы смогли сохранить свою магическую и мистическую природу только потому, что египтяне изобрели для ежедневного пользования новый и более простой алфавит. Иератическое письмо стало упрощенной версией иероглифического написания с редукцией знаков до нескольких быстро наносимых линий (по У. В. Дэвису – «скорописная версия» иероглифического письма). Иератическому письму отдавали предпочтение при ведении деловых записей бюрократы и административные служащие. Его изобретение предварило появление бумаги. Неважно, насколько просты линии – их все равно невозможно быстро писать на глине.
В течение многих веков глина была традиционным материалом для письма и у шумеров, и у египтян. Ее было много, ее можно было использовать снова и снова. Письмо на гладкой поверхности глиняной пластинки, которую сушили на солнце, могло храниться многие годы – но простым намачиванием поверхности можно было стереть запись или изменить ее, исправляя и искажая значение написанного. Записи, которые следовало защитить от подделок, можно было обжечь в огне, превращая отметки в прочный, не допускающий изменений архивный материал.
Но глиняные пластинки были тяжелыми, неудобными для хранения и трудными для переноски с места на место, они сильно ограничивали количество написанного в любом послании (на досуге можно поразмыслить об этом как о способе противостояния многословию, поощряемом появлением компьютеров). Примерно около 3000 года до н. э. египетские писцы осознали, что папирус, использовавшийся в качестве строительного материала в египетских домах (тростник, уложенный крест-накрест, размягченный и размятый в бесформенную массу, а затем тонкими листами высушенный на солнце), также может служить поверхностью для письма. При наличии кисточки и чернил иератическое письмо можно было очень быстро наносить на папирус.
В Шумере, где подобного материала не было, глиняными табличками продолжали пользоваться еще долгие века. Через пятнадцать сотен лет, когда Моисей привел семитских потомков скитальца Авраама из Египта на сухие просторы Ближнего Востока, Господь вырезал скрижали для них на каменных таблицах, а не на бумаге. Израильтянам пришлось изготовить специальный короб для таких таблиц, чтобы их можно было таскать с собой.
С бумагой же было много проще. Послание можно было скатать в трубку, спрятать под одеждой или положить в карман. Широко расселившиеся по долине реки Нил бюрократы нуждались в простом способе связи между севером и югом; посланец же, который передвигался вверх по Нилу с сорока фунтами глиняных табличек, безусловно, испытывал неудобства.
Египтяне воспользовались новой удобной технологией. Иероглифы продолжали вырезать на стенах гробниц, на памятниках и статуях. Но письма и прошения, инструкции и угрозы писались на папирусе, который сминался, намокая, и ломался, постепенно старея, а через какое-то время превращался в горсть пыли.
Мы можем проследить историю семейных затруднений шумерского царя Зимри-Лима по громоздким глиняным таблицам, которые кочевали взад-вперед между опаленными солнцем городами Месопотамии – но мы очень мало знаем о каждодневной жизни фараонов и официальных лиц страны после начала массового использования папируса. Их печали и срочные послания потеряны; написанные ими или для них истории – все это исчезло без следа, как стертый электронный файл. Таким образом, тысячи лет назад человечество впервые обрело не только возможность писать, но и достигло первого технологического успеха, который со временем обернулся в недостаток, отомстив человеку недолговечностью.
Шумерская клинопись умерла, но иероглифы дожили до наших дней. Более поздняя форма, которую мы называем про-тосинайской, появилась в регионах Синайского полуострова3131
Синайское, или протосинайское письмо – один из древних видов письменности; датируется вторым тысячелетием до н. э. Первые ее образцы были обнаружены Питри Флиндерсом во время его экспедиции по Синайскому полуострову зимой 1904-1905 годов. Он датировал эти тексты XV веком до н. э. Это письмо представляет собой нечто среднее между рисуночным письмом иероглифов и буквенным письмом семитских алфавитов. В 1916 году английский египтолог Алан Гардинер выдвинул гипотезу, согласно которой синайское письмо было изобретено семитскими племенами, обитавшими на Синае и работавшими на рудниках фараонов. Эту гипотезу поддержал Олбрайт (1948) и другие видные специалисты. Расшифровка синайского письма до сих пор не завершена. Если датировка надписей правильна, можно предположить, что Моисей пользовался именно этим письмом. (Прим. ред.)
[Закрыть], позаимствовала у египетских иероглифов почти половину своих знаков. Потом протосинайское письмо, в свою очередь, отмерла и была похоронена. Но иероглифы дожили до наших дней. Более поздняя форма письма, которое мы называем протосинайским из-за того, что оно появилось в различно несколько букв финикийцам, включивших их в свой алфавит. Затем греки переняли финикийский алфавит, переделали его и передали дальше римлянам – а затем уже и нам. Так что магические знаки египтян на самом деле подошли к бессмертию настолько близко, как никакое любое другое известное нам изобретение.
Алфавитная таблица. Трансформация трех литер из египетских к латинским. Предоставлено Ричи Ганном