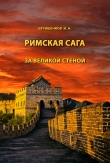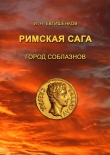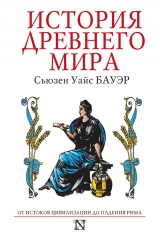
Текст книги "История Древнего мира: от истоков цивилизации до падения Рима"
Автор книги: Сьюзен Бауэр
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 60 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
Темные века Греции
Между 1200 и 1050 годами до н. э вторжение дорийцев приносит в Грецию темные времена
После разрушительной победы в землях Трои микенские корабли медленно, на веслах или под парусами, направились к греческому материку – чтобы обнаружить свои дома обедневшими и отягощенными заботами. Одиссей сражался десять лет, чтобы попасть домой и увидеть, что его дом кишит врагами; Агамемнон вернулся к жене и был убит в собственной ванной ею и ее любовником.
И это оказалось только началом будущих несчастий.
Около 1200 года до н. э. по полуострову пронесся вихрь пожаров. Микенский город Спарта сгорел дотла. Сам город Микены отбивался от неизвестного нам врага; крепость выдержала, хотя и была повреждена, но от домов вне стен остался только пепел, они никогда не были отстроены заново.1 Город Пилос был стерт огнем с лица земли. Выжившие города были уничтожены другими бедствиями.
Археология предполагает, что города были заселены новыми людьми, которые не знали письменности (ее нет в руинах их домов), не умели строить из камня и кирпича, не знали производства бронзы.2 Эти новые поселенцы пришли с северной части полуострова и теперь двигались к югу. Позднее историки назовут их дорийцами.
Оба наших источника, и Фукидид, и Геродот, приписывают взятие микенских городов сильно вооруженным дорийцам. Геродот говорит о четырех вторжениях дорийцев в Аттику (земли вокруг Афин); первое из них произошло в дни, когда «Кодрус был царем Афин».3 Позднее греческий писатель Ко-нон сохранит для нас традиционный рассказ о самом раннем нападении: оракул в лагере дорийцев предсказал беспощадным завоевателям, что они победят в битве Афины, если не убьют афинского царя Кодруса. Когда Кодрус услышал об этом, он переоделся обычным жителем Афин, оставил город и ушел в лагерь дорийцев, где вступил в сражение с вооруженными дорийскими воинами. В буйной стычке он был убит и, выполняя таким образом предсказание оракула, спас город.4
Дорийцы, удивленные таким благородством, сняли с Афин осаду – но отошли только временно. Ко времени, когда вторжение закончилось, как сообщает нам Фукидид, дорийцы были уже «хозяевами Пелопоннеса» (самая южная часть Греческого полуострова).5
Фукидид и Геродот оба писали о жестоком набеге, который распространился по земле героев и разрушил ее. Подобно египетским историкам, которые писали о вторжении гиксосов, они не могли придумать другой причины, почему их великие предки потерпели поражение, кроме превосходства в военной мощи. Но руины микенских городов говорят нам несколько о другом. Пилос и Микены сгорели с интервалом в девяносто лет – это означает, что внедрение дорийцев на полуостров происходило медленно, в течение века. Вряд ли это было неожиданным нападением; микенские греки имели много времени, чтобы организовать какое-либо сопротивление.
Но оборона, которую организовали эти опытные солдаты, была слишком слабой, чтобы защитить их – даже против дорийцев, которые не были ни искушенными, ни закаленными в боях воинами. В некоторых городах совсем нет свидетельств борьбы. Легенды о сопротивлении Афин (среди микенских городов не только Афины хвастались тем, что отразили атаки нападавших) не подтверждаются археологическими данными: никто не нападал на Афины, раскопки здесь не показали ни слоя разрушений, ни следов от пожаров.6
Но даже в таком случае население Афин катастрофически сократилось. К 1100 году, через полтора века после войны с Троей, северо-восточная сторона афинского Акрополя (высокая скала в центре города, его самая безопасная и защищаемая точка) была мирно покинута. Спарта, которую сожгли дорийцы, уже была пуста; ее население ушло за несколько лет до этого.7 Северяне отступили на юг уже ослабленными и дезорганизованными.
Война с Троей, конечно же, имела отношение к медленному распаду микенских городов, о чем Фукидид написал так:«позднее возвращение эллинов из Трои вызвало такие сильные раздоры, что многие микенцы были изгнаны из собственных городов». Но должны были сработать и другие факторы. Плохая погода, стоявшая подряд каждые два лета из трех, уменьшила урожай как раз в то время, когда старые источники зерна из Египта и Малой Азии также были уничтожены войнами. Это заставило микенские города бороться за пищу; голод мог разжечь войны между городами и отправить жителей в ссылку. И действительно, кольца ирландских дубов и некоторых других деревьев из Малой Азии показывают признаки общевропейской засухи, которая наступила около 1150-х годов.8

Дорийская Греция
К микенцам также мог подкрасться и другой, более страшный враг.
В сценах Илиады троянский жрец Хрис просит бога Аполлона наслать болезнь на напавших греков в ответ на кражу греческим воином Агамемноном дочери Хриса. Аполлон сочувствует своему священнику и посылает на греческие корабли стрелы с болезнью. Результат ужасен:
...Наслал он сжигающий ветер
чумы, что вспыхнула в армии: и офицер, и солдат
падали и умирали за зло, сотворенное их вождем.9
Очень похоже, что микенцы, базировавшиеся на берегу, действительно были поражены чумой – которая, вероятно, оказалась бубонной.
Троянцы не больше, чем другие древние народы, были осведомлены о том, как распространяется бубонная чума Но они знали, что болезнь как-то связана с грызунами. Аполлон, который разносил болезнь, почитался в Трое по имени, известном в Малой Азии: он назывался Аполлоном Сминтианом, «Господином мышей».10 «Илиада» также рассказывает нам, что стрелы Аполлона Сминтиана уносили не только людей, но и лошадей, и собак; это сообщение о распространении болезни через животных постоянно в рассказах древних о бубонной чуме. «Этот мор бушевал не только среди домашних животных, но даже среди диких зверей», – написал Григорий Турский пятнадцатью веками позднее.)11
Микенские герои, вернувшись на родину, принесли с собой смерть. Корабль даже без больных людей на борту, приставший к незараженному берегу, мог все равно иметь в трюме несущих чуму крыс. В действительности чума могла следовать за голодом; корабли с зерном из одной части света в другую перевозили крыс из одного города в другой, распространяя болезнь на недостижимые другим способом расстояния.
Чума, засуха и война: трех этих факторов было достаточно, чтобы нарушить баланс цивилизации, которая была построена в скалистых сухих местах, на грани возможности выживания. Когда выжить становилось трудно, сильные уходили прочь. И так делали не только микенцы, но и критяне, и жители Эгейских островов. Они уходили малыми группами из родных земель, ища новые места проживания и поступая там в наемники. Невозможно сказать, какая часть «морского народа», сражавшегося против Египта, была наемными солдатами. Но египетские рассказы свидетельствуют, что в годы, предшествовавшие вторжению Народа Моря, фараон нанимал солдат из эгейцев, чтобы те сражались за Египет против ливийцев Западной пустыни. К середине XI века до н. э. дорийцы, а не микенцы, были хозяевами Юга, и микенские солдаты были доступны только самым обеспеченным нанимателям.
Поселенцы-дорийцы не имели царя и его двора, налогов и дани, не вели заморской торговли. Они занимались сельским хозяйством, они выживали, и у них не было нужды что-либо записывать. Их явление погрузило полуостров в то, что мы называем «темными временами»: мы не можем глубоко вглядеться в них, потому что от них не осталось никаких письменных свидетельств.121121
Кажется, что большая часть китайской и индийской истории, которую мы рассмотрели до настоящего момента, также погружена в темные времена. Но данный термин обычно используется в том случае, когда имелась зафиксированная документами письменная история, а затем ее след вновь теряется – не для времени до того, как широко стали пользоваться записями о событиях. (Прим. авт.)
[Закрыть]
| Египет | Греческий полуостров |
| Девятнадцатая династия (ок. 1278–1212 годы до н. э.) | |
| Рамзее II (ок. 1278–1212 годы до н. э.) |
Темные века Месопотамии
Между 1119 и 1032 годами до н. э. хетты терпят крах, а процветание Ассирии и Вавилона заканчивается
Пока микенцы уходили из своих городов, а дорийцы вливались в них, кризис распространялся на восток, мимо Трои (теперь небрежно отстроенной вновь, но заселенной лишь с тенью ее прошлого величия) и далее на восток – в земли, все еще удерживаемые хеттами.
К этому времени Хеттская империя была немногим большим, чем тенью государства. Бедность, голод и общая смута при правлении Тудхалии IV размыли ее прежние границы, а борьба за трон все еще продолжалась. В то время, пока закатывалась микенская цивилизация, младший сын Тудхалии IV отобрал корону у старшего брата и заявил, что страна принад-лежит ему. Он назвал себя Суппилулиумой II, пытаясь оживить дух великого создателя хеттской империи полуторавековой давности.
Надписи Суппилулиумы II хвастают его победами над Народом Моря. Он провел несколько морских боев у берегов Малой Азии, отбив микенских беженцев и наемников, и смог какое-то время удерживать свой южный берег от вторжения. Но он не смог вернуть золотые дни хеттского могущества, когда его тезка умудрился почти посадить сына на трон самого Египта.
Те же кочевники, которые рвались к Египту, – люди, бегущие от голода или чумы либо перенаселенности или войны в их землях, – стремились и в Малую Азию. Некоторые приходили со стороны Трои, через Эгейское море в хеттские земли. Другие являлись с моря; Кипр, остров южнее хеттского побережья, очевидно, служил им перевалочным пунктом. «Против меня суда с Кипра трижды выстраивались в линию для сражения посреди моря, – записывает Суппилулиума II. – Я разбивал их, я захватывал суда и в середине моря сжигал их... [И все-таки] враг во множестве нападал на меня с Кипра»} Другие враги пересекали узкий пролив Босфор севернее Греческого полуострова, в местности, называемой Фракия – эти племена были известны как фригийцы.
Их было слишком много, а хеттская армия была слишком мала. Пришельцы прошли прямо сквозь войска Суппилулиумы, разбросав защитников, и ворвались в самое сердце царства. Столица хеттов сгорела полностью; ее население ушло; царский двор рассыпался, как пыль.
Хеттский язык сохранился в нескольких отдельных городах на южном конце старой империи; самым крупным из них был Каркемиш. В этих последних форпостах Хеттского царства задержались хеттские боги. Но культура, которая поклонялась им, исчезла.
Упадок трех цивилизаций в западном серпе – хетты, микенцы и египтяне – совпал с внезапным усилением востока. За несколько недолгих лет, пока кочевники и Народы Моря были заняты, изводя запад, Ассирия и Вавилон расцвели.
В Ассирии царь Тиглатпаласар был коронован вскоре после разграбления Хаттусы. Его прадед, дед и отец по очереди правили Центральной Ассирией – перевернутым треугольником с Ашшуром в нижней точке, вверху протянувшимся за Эрбилу на западе и Ниневею на востоке. Это был небольшой уютный регион, процветающий и легко защищаемый, с самыми высокими урожаями зерна во всей Месопотамии. Все три царя довольствовались обладанием этой землей и прежде всего заботились о ее безопасности.
Тиглатпаласар захотел большего. Он стал первым воинственным царем после Салманасара, жившего восемь поколений и сотню лет тому назад. Он выступил против захватчиков и использовал их нападения, чтобы захватить больше земли для себя. В результате на короткое время – немногим менее сорока лет – Ассирия восстановила подобие былого величия.
Фригийцы, пройдя с боями через хеттскую территорию, приближались к Ассирии с северо-запада. В одной из своих самых ранних битв Тиглатпаласар разгромил их. Его надписи хвастают, что он разбил армию из двадцати тысяч фригийцев: «Я сделал так, что их кровь стекала в ущелья и хлестала с вершин гор, – повествует он. – Я сносил им головы и сваливал в кучи, как зерно».2
А затем царь отправился пробивать путь на северо-запад, следуя прямо в лоб надвигающейся волне. Позднее он написал в своей летописи:
«[Я отправился] в земли далеких царей, которые находились на берегу Верхнего моря, которые никогда не знали подчинения, Я повел свои колесницы и своих воинов через обрывистые горы, по их изнурительным тропам, я вырубал путь кирками из бронзы; я делал проходимыми дороги для моих колесниц и войск. Я пересек Тигр... Я рассеял воинов... и заставил литься их кровь»?
Тиглатпаласар сражался тридцать восемь лет. Расширился список городов, покоренных царем, посылавших дань и рабов в ассирийский дворец и страдавших под властью ассирийских правителей.4 Среди них был и Каркемиш; Тиглатпаласар взял его (по крайней мере, согласно его личным надписям) за «один день».5 Другие города сдавались без борьбы, их цари приветствовали приближение Тиглатпаласара, выходя навстречу и падая ниц, чтобы целовать ему ноги.6 Тиглатпаласар сам прошел весь путь до берега Средиземного моря, где он участвовал в охоте с острогой на дельфинов с лодки, на которой гребли его люди.7 Фараон Египта – один из восьми Рамзесов – послал ему в качестве подарка крокодила, которого Тиглатпаласар взял с собой для участия в играх, устраиваемых в Ашшуре.8 Он строил усыпальницы, крепости и храмы, каждое строение свидетельствовало, что наконец-то Ашшур приобрел еще одного великого царя.

Конец хеттов.
Южнее Ассирии Вавилон тоже стал свидетелем взлета великого царя.
Вавилон и окружающие его земли никем не управлялись со времени Бурнабуриаша, который правил в эпоху Тутанхамона, то есть правил двести лет тому назад. Через три-четыре года после восшествия на престол в Ашшуре Тиглатпаласара, ничем не выдающаяся линия Второй династии Исина вдруг выдала генетический парадокс по имени Навуходоносор.122122
Этот Навуходоносор I менее известен, чем его тезка Навуходоносор II. Последний, живший около 605-561 годов до н. э., захватил Иерусалим, отстроил заново Вавилон и (согласно преданию) построил Висячие Сады Вавилона для своей тоскующей по родине жены. (Прим. авт.)
[Закрыть]
Пока Тиглатпаласар сражался, пробивая себе путь на запад и на север, Навуходоносор повернул на восток. В конце концов, статуя Мардука все еще находилась в руках эламитов в Сузах; со времени ее захвата сто лет тому назад ни один царь Вавилона не обладал достаточной мощью, чтобы вернуть похищенное назад.
Первое вторжение Навуходоносора в Элам было встречено стеной эламитских солдат. Тогда царь Вавилона приказал своим войскам отступить и составил для второй попытки хитрый план. Он решил привести своих солдат в Элам на самом пике лета, когда ни один разумный командир не заставит армию идти куда-либо. Вавилонские солдаты, придя к эламским границам, стали сюрпризом для пограничных патрулей и достигли города Сузы, прежде чем кто-либо успел поднять тревогу.
Они совершили набег на город, взломали двери храма, схватили статую и с триумфом направились назад, в Вавилон.
Не ожидая, пока жрецы Мардука прославят его, Навуходоносор нанял писцов и поэтов, чтобы те сочинили легенды о спасении статуи, а также гимны в честь Мардука. Легенды, песни и жертвоприношения текли из царского дворца в храм Мардука, пока бог стоял на вершине вавилонского пантеона; именно в правление Навуходоносора I Мардук стал главным богом вавилонян.9 А согласно классическому циклическому доказательству, Навуходоносор доказывал, что раз он спас главного бога Вавилона, главный бог Вавилона распространил святость на него. Незаметное начало Второй династии было забыто; теперь Навуходоносор имел данное богом право править Вавилоном.
При этих двух могущественных царях Вавилон и Ассирия более или менее сохраняли баланс сил. Отдельные пограничные столкновения время от времени усиливались до настоящих сражений. Два ассирийских приграничных города были разграблены вавилонскими солдатами, и Тиглатпаласар ответил на оскорбление, дойдя до Вавилона и спалив дворец царя.10 На бумаге это описание звучит более серьезно, чем произошло на самом деле. Вавилон находился так близко к ассирийской границе, что большая часть вавилонских правительственных чиновников были уже переселены куда-нибудь. Город оставался разграбленным и больше не был центром власти. А Тиглатпаласар, сделав дело, отправился назад, оставив Вавилон. Он не хотел начинать полномасштабную войну. Два царства были равны по силе, и перед ними стояли более серьезные угрозы.
Перемещение людей с севера и запада не останавливалось. Тиглатпаласар постоянно участвовал в пограничных стычках с прибывающими кочевниками, которые все более проникали в страну, как амореи почти тысячу лет тому назад. Эти люди обитали на северо-западе земель западных семитов, пока их не подтолкнул поток пришельцев с дальнего запада. Ассирийцы называли их арамеями. По свидетельству самого Тиглатпаласара, он создал на западе около двадцати восьми отдельных военных лагерей с целью противостоять вторжению арамеев.
Вавилон и Ассирия также не были застрахованы ни от голода и засух (урожаи здесь тоже падали), ни от эпидемий, захлестнувших всю Ойкумену. Дворцовые записи говорят о последних годах правления Тиглатпаласара как о несчастных и голодных, времени, когда ассирийским жителям пришлось рассеяться по окружающим горам, чтобы находить там пищу.11
Вавилон тоже был в трудном положении, и страдания города стали еще больше, когда двадцатилетнее правление Навуходоносора пришло к концу. Городские проблемы описаны в «Эпосе об Эрре»123123
Русский перевод см.: http://www.vekperevoda.com/1930/vyakobson. htm. (Прим. ред.)
[Закрыть] – длинной поэме, где бог Мардук жалуется, что его статуя не отполирована, его храм разрушается, но он не может оставить Вавилон надолго, чтобы исправить это, потому что каждый раз, когда он покидает город, в нем случается что-нибудь ужасное. Постоянный ужас наводят безобразия находящегося поблизости другого бога, Эрры, который из-за своей природы не может не причинять страдания городу: «Я прикончу землю и буду считать ее руинами, – говорит Эрра. – Я повалю скот, я свалю людей». Сам Вавилон, ссохшийся под ветром, стал как «дикий фруктовый сад», чьи фрукты засохли, не успев созреть. «Рыдайте по Вавилону, – стонет Мардук, – я наполнил его зерном как кедровую шишку, но семя не дало урожая»}2
Засуха и пропавший урожай предполагают голод людей и скота, повторяющуюся кару стрел Аполлона Сминтиана. Болезнь и голод не могли не ослабить защиту города. Ко времени, когда сын Тиглатпаласара сменил на троне отца, арамейская проблема стала такой острой, что ассирийский царь был вынужден заключить договор с новым царем Вавилона. Вместе два царства надеялись победить общего врага.
Попытка провалилась. Вскоре арамеи неистовствовали во всей Ассирии, захватив все, кроме самого центра империи. Они ворвались и в Вавилон. Сын Навуходоносора, великого царя, потерял свой трон, уступив его арамейскому узурпатору.
Арамеи, как и дорийцы, не имели письменности. И так же, как Египет впал в хаос переходного периода, а темнота разлилась по Греческому полуострову, мрак растекся со старых хеттских земель и накрыл Месопотамию. Земли между двумя реками вступили в свое темное время – и на сто лет или около того в этой мгле не проступают очертания истории.
Сравнительная хронология к главе 41
Падение Шан
В Китае между 1073 и 1040 годами до н. э. династия Шан падает к ногам Чжоу
Далеко на востоке By Дин после шестидесяти лет правления передал трон своему сыну. Царство Шан несколько раз более или менее мирно переходило от брата к брату или от отца к сыну. Центром империи Шан была река Хуанхэ, и столица Шана оставалась в Инь.
Ко времени, когда царства Месопотамии начали разваливаться, китайское царство также находилось в кризисном состоянии.
То был совсем иной кризис, нежели тот, с которым столкнулись Навуходоносор и Тиглатпаласар. Владыки Шан и их народ не подвергались вторжениям неизвестных иностранных племен – врагами шанского царя стали двоюродные братья его собственного народа.
Западнее земель Шан в долине реки Вэй жило племя Чжоу. Они не были подданными царя Шана, хотя их глава – «князь Запада» – признавал власть шанской короны целованием. В конце концов, их земля лежала почти в четырехстах милях от столицы. Кости оракула путешествовали туда и обратно между «князем Запада» и дворцом Шан, поддерживая открытой тропу одного языка и одинаковых обычаев. Но знать Чжоу в первую очередь была верна своему собственному господину, а не далекому монарху Шан. Когда вспыхнуло восстание, они ждали приказов только от «князя Запада».
Древние хроники поясняют, что цари Шана сами вызвали к жизни этот мятеж. Они отбросили мудрость – а именно мудрость (а не военная мощь, как на западе) была основанием их силы.
При императоре By И, пятом правителе после By Дина, проявились первые признаки распада. Императора, по словам Сыма Цяня обвиняли, в основном в том, что он был против богов: он создавал идолов, «называл их именами небесных богов» и много играл с ними. Когда он победил, то высмеял богов как паршивых игроков.

Шан и Чжоу
Это было серьезным нарушением его царских обязанностей. При все возрастающем весе ритуала костей-оракулов царский двор стал центром пророческих откровений предков для живущих. Все вопросы к праотцам направлялись от имени царя; он был проводником посланий от божественных сил, и для него издевка над этими силами была недопустима.
Вскоре последовало наказание за преступление: By И ударила молния, когда он находился на охоте. Ему наследовал его сын, а затем его внук, при котором, по словам Сыма Цяня упадок в стране еще более усилился. Затем трон унаследовал его правнук Чжоу124124
Более известен как Чжоу Синь или Ди Синь. (Прим. ред.)
[Закрыть], и власть в Шане пошатнулась.
Чжоу была дарованы многие достоинства – Сыма Цянь отмечает его силу, интеллект, четкую речь и быстрый разум. Но новый царь использовал все эти дары во зло. «Его знаний было достаточно, чтобы противиться увещеваниям, – пишет Сыма Цянь, – а его речь была убедительной, чтобы прикрывать дурные дела... Он считал всех ниже себя. Он обожал вино, был неумеренным в удовольствиях и безумно любил женщин». Любовь Чжоу к вину и удовольствиям привела к росту налогов, чтобы он мог содержать свои охотничьи угодья и парки для игр и развлечений; его любовь к женщинам привела его под власть жестокой и деспотичной куртизанки по имени Да Цзи, чьи слова стали единственными, которые он слышал. Его любовь к зрелищам стала такой всепоглощающей, что он выкопал пруд и наполнил его вином, развесил вокруг мясо, имитируя лес, и «заставлял голых мужчин и женщин гоняться друг за другом» вокруг пруда в этом лесу.2
Причудливые фривольности обернулись жестокой тиранией. Знатных вельмож, заподозренных в нелояльности, укладывали на раскаленную решетку. Чжоу зажарил одного своего придворного, а другого завернул в полосы мяса и подвесил сушиться. Когда его дядя стал увещевать его, царь ответил, что, так как сердце умного человека имеет семь камер, ему нужно глянуть на сердце дяди, прежде чем воспринять его совет – и привел свою угрозу в исполнение. Его жестокость все усиливалась, так что «уже не знала края». Аристократы – «семьи сотни фамилий», к тому же знатных – были «переполнены негодованием и ненавистью».
Наконец он превзошел сам себя. Вэнь, правитель Чжоу, «князь Запада», находился в столице по делу, и царь приставил своих шпионов, чтобы следовали за ним. Когда шпионы сообщили, что «князь Запада» «тайно вздыхает» из-за поведения царя, тот арестовал Вэня и бросил его в тюрьму.125125
Вэнь и By появляются как Вэнь-ван и By-ван в системе пиньин: «Ван» или «царь» становится суффиксом всех царских имен Чжоу. Но я предпочитаю использовать обозначения «царь Вэнь» и «царь Ву». (Прим. авт.)
[Закрыть]
Услышав, что их господин в тюрьме, племена Чжоу принесли царю нечто вроде дани, чтобы смягчить его сердце: ценные предметы и прекрасных женщин. Тронутый Чжоу освободил Вэня. Но «князь Запада» отказался возвращаться домой, не попытавшись защитить подданных Чжоу от жестокостей их царя. Он сказал Чжоу, что у него есть предложение – если тот пообещает прекратить пользоваться раскаленной решеткой, Вэнь подарит ему плодородные земли Чжоу вокруг реки Ло, которая течет на юг и впадает в реку Вэй. Чжоу, который очень выгодно использовал заключение Вэня в тюрьму, согласился на сделку, завладел землей и отправил Вэня домой.
Это оказалось ошибкой. Вэня очень любили в его землях как вождя, который был и хорошим (что видно из его готовности пожертвовать собственными землями для людей), и умелым (более поздний китайский историк и философ Мэн-цзы утверждает, что Вэнь имел рост десять футов).3 Оказавшись у себя на западе, Вэнь начал быстро собирать оппозицию царю. «Многие из феодальной знати восстали, – пишет Цянь, – и повернулись лицом к владыке Запада». Их поддержали предсказатели, которые читали гадальные кости и божественные пророчества: шанские придворные жрецы, забрав свой ритуальный инструмент, покинули царский двор и тоже ушли на запад.
Вэнь, к этому времени совсем пожилой человек (по словам Мэн-цзы, ему было сто лет) умер до того, как смог возглавить поход своих последователей на столицу Шан.1 Но его сын Ву подхватил знамя. Восемьсот феодалов встали за ним, каждый со своими солдатами. Армия Чжоу из пятидесяти тысяч направилась ко дворцу Шана в Ине. Царь приказал своим войскам встретить наступающих – он выставил семьсот тысяч человек.
Две армии встретились в двадцати милях от Иня, в битве при Муе. При любых расстановках имперская армия должна была сокрушить крошечные силы восставших, но Чжоу имели два преимущества. Первое заключалось в тактике: знать Чжоу выставила триста боевых колесниц, в то время как царская армия не имела их вообще.5 Но имелось и второе преимущество – солдаты Чжоу обладали высоким моральным духом, – которое и повернуло битву против царя. Люди царя, испытывавшие отвращение к жестокости своих военачальников, были склонны к дезертирству. Когда линия Чжоу обрушилась на них, солдаты передней линии шанского войска развернулись и атаковали стоявших позади них, заставив обратиться в бегство всю армию.6
Увидев тень неминуемого поражения, Чжоу сбежал во дворец, где взял оружие из нефрита, приготовившись к последнему бою. Но ворвавшиеся силы Чжоу подожгли дворцовые помещения вокруг него, так что ему обжигало уши. Он умер в пламени – символичный конец для человека, который использовал огонь для того, чтобы пытать и убивать людей.
В этой истории чувствуется сильная нота неправдоподобия в том, что касается мятежа Вэня. Древние историки не прославляют свержение тирана, и сам Ву не хвастается, что правит землями от горизонта до горизонта или тем, что кучами наваливает головы врагов у ворот. Его славят не за умение сражаться, а за восстановление правильного порядка.
Мятеж Чжоу – это не совсем непослушание подвластных людей. Еще до мятежа царь Шан имел над Чжоу сомнительную власть. Вэнь был царем со своими правами, но царь Шана мог заключить его в тюрьму и вынудить платить выкуп. С другой стороны, когда Вэнь предложил Чжоу подарить землю, царь с радостью воспринял это как подарок, а не ответил с негодованием, что он уже и так правит ею.
Но древние историки все-таки вынуждены как-то оправдывать неповиновение правителей Чжоу. Чжоу и Шан имели одинаковые культуры, и сражения между ними так же приводят в замешательство, как вражда между Сетом и Осирисом в ранние годы Египта. Несомненно, необходимо, чтобы первый царь Чжоу не являлся бы узурпатором, а был добродетельным человеком, который поднялся над пороками и начал цикл заново. По этой причине правление царя Чжоу датируется не с победоносного Ву, а с его отца, который был несправедливо заключен в тюрьму и по собственному желанию пожертвовал землю за своих людей. Он, а не его воинственный сын, считается первым царем Чжоу.
Получается, что правление династии Шан закончилось не у ворот горящего дворца, а тогда, когда знать и оракулы собрались под предводительством «князя Запада». И захват Чжоу не был вторжением врагов. Собственная необузданность царя Чжоу стала причиной его смерти. По мнению китайских хроникеров, гниение всегда шло изнутри.
Несмотря на все свои добродетели, Ву, заявив о своем новом титуле, водрузил обожженную голову Чжоу на пику и выставив ее на колу у ворот города Инь на всеобщее обозрение. Старый порядок погиб в огне; утвердился новый порядок.
Сравнительная хронология к главе 42