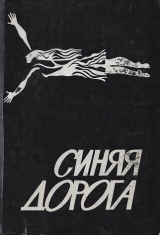
Текст книги "Синяя дорога"
Автор книги: Святослав Логинов
Соавторы: Вячеслав Рыбаков,Евгений Брандис,Галина Панизовская,Феликс Дымов,Галина Усова,Наталия Никитайская,Борис Романовский,Жанна Браун,Светлана Беляева
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
Феликс Дымов
ШКОЛА
ПОВЕСТЬ
В каждом селении по крайней мере один дом имеет собственное суждение обо всем на свете и порой очень нуждается в слушателе. В Дыницах таким домом была Школа.
Ее построили лет за шесть до войны. Поставили на косогоре, в таком месте, где в старину обычно ставили церковь. Куда бы кто ни шел, ни ехал, Школы миновать не мог. Старые учителя, оглядев крутой подъем и переложив высокую стопку тетрадей из одной руки в другую, шутили: «Утром – с одышкой, зато вечером – с припрыжкой…» А ученикам в потеху что прямой, что обратный путь: не один превращенный в салазки портфель потерял свой блеск на веселой заледенелой дороге, не одна пара подошв сгинула по осени в липкой глинистой грязи косогора…
Кирпичное двухэтажное здание под черепичной крышей издали выделялось среди толпы беленых мазанок, полузатопленных вишневыми садами. Неслыханное дело – Школа имела даже черный ход, наглухо, впрочем, заколоченный осторожным завхозом. Однажды летом во дворе вкопали столбы с поперечиной вроде сильно растянутой буквы «П». Навесили шесты, канаты. И Школа осанилась, гордясь единственным физкультурным снарядом на весь район.
Ничуть не меньше Школы новшеством гордился директор – Леонид Петрович Молев, Школе приятно было ощущать эту его внимательную гордость. Ей вообще доставлял удовольствие вид нескладной фигуры Леонида Петровича с широким, чуточку асимметричным лицом и бесцветными выпуклыми глазами. Лицу директора – особенно глазам – откровенно не хватало выразительности. Зато уж чего было в переизбытке – так это золотых зубов во рту, словно бы директор беспрестанно и не ко случаю улыбался. Когда, обходя территорию, Леонид Петрович машинально поглаживал ладонью цоколь здания, обведенный с парадной стороны блестящей черной каймой, у Школы внутри что-то тихо ухало, пупырышки разбегались по штукатурке, сухо першило в дымоходах. В такие минуты Школа не на шутку завидовала кудлатой дворняжке с репьями на хвосте, которая могла повалиться на спину и заскулить от великого счастья у ног своих хозяев Кольки и Котьки Бабичей. Но ведь Школа не дворняжка – где это видано, чтобы дома, даже не такие степенные и симпатичные, торчали кверху фундаментом?!

Помимо наружности, Школе определенно нравились и мысли директора. Не только потому, что половина их была связана с ней самой и посвящена истории отчаянной борьбы за штакетник и лампочки, за новый глобус в учительскую, за списанное в МТС магнето взамен разбитой лейденской банки, за возможность премировать в обход штатного расписания ботаника, который вечерами вел с ребятами мотоциклетный кружок и хор. Но главным образом потому, что директор относился к Школе как к живой. Школа часто видела себя в мыслях директора большим, неуклюжим, требующим заботы существом. Ну, скажем, как неловкая, застенчивая девчонка-переросток. И ключицы-то, и локти у нее выпирают. И сутулится она – не знает, куда руки девать. И ноги у нее длиннущие, тощие, словно две жердины. А все ж для отца-матери нет никого дороже и привлекательней. «Ах ты несмышленыш! – Молев укоризненно покачает головой возле осыпающегося угла и вздохнет: – Опять коленки продрала, не напастись на тебя!» Так и подумает: «коленки». И не успокоится, пока не залечит, не закрасит даже самой пустяковой царапины. За «несмышленыша» Школа не обижалась, хотя давно уж из несмышленышей выросла. И принимая теплые на слух мысли Леонида Петровича, еле сдерживалась, чтобы не вмешаться, не сказать что-нибудь такое, от чего и сам Молев внезапно подпрыгнул бы на стуле в своем тихом-претихом директорском кабинете…
Занимали Молева и иные, совсем уж случайные и прозаические мысли. Например, где раздобыть на воскресенье четвертую лошадь для опыта с магдебургскими полушариями – на три он с председателем колхоза, кажется, договорился… Или как отвлечь дотошного инспектора роно, чтоб не вызвал Сему Воропаева, – парень у доски скорее кол схлопочет, чем вымолвит слово при постороннем…
Сперва Молевы жили в здании Школы. Потом срубили в углу школьного двора приземистый домик, вырыли погреб. Домик этот и погреб Школа посчитала новым своим продолжением и распространила на них влияние, которое ограничивалось до сих пор двором с десятком яблонь, туалетом, кучей угля, потускневшим штабелем досок возле канавы и носатой, обиженно всхлипывающей колонкой, воткнутой в прорезь забора так, чтобы воду можно было брать с улицы. Новые территории ничуть не переменили настроения Школы, хоть и добавили хлопот. А уж если говорить о том, что ее задевало или смущало, так было одно такое обстоятельство, было, чего скрывать: Школа не могла смириться с тем, что ее называли средней. Ведь она ж не какое-нибудь там бесчувственное вместилище знаний. Не кладовка с пособиями. А Школа. Именно так. С большой буквы. Отчего же тогда в ученических тетрадках, на вывеске, а иногда даже в местной газете ее именуют Дыницкой средней?..
Стоя на косогоре, посреди недвижного поселка, Школа смотрела и слушала, как внутри нее сталкиваются эпохи и люди, поют эоловы арфы, громыхают войны, прорастает любовь. Здесь, на скрещении времен, рушились миры и рождались герои. Здесь, в небольших уютных классах потерянное Прошлое и незримое Будущее сливались с Настоящим. Тогда два школьных этажа запросто вмещали целую Вселенную на уроке астрономии, а на физике так же запросто сгущались до размеров атомного ядра. Тогда География таинственно превращала учеников в отряд Ермака, а История проносилась между партами на боевых колесницах. И все это ежедневно с девяти до двух первой смены и с двух до семи – второй…
Постепенно Школа привыкла творить собственный мир – еще необъятнее того, о котором рассказывали учителя. Подобно тому, как историк на уроке из одних только слов и картинок выстраивает в головах детей хронологию человечества, так Школа, соединяя прошлое, настоящее и будущее, формировала новые связи реальности и вымысла. И вымысел становился реальным, а реальность – фантастической, как вымысел. И странные силы гуляли по зданию от стены до стены, теша себя способностью перенести из утраченных времен и пространств и воздвигнуть у школьной доски динозавра, гладиатора или хотя бы первого деревенского тракториста. Но странные эти силы накапливались бесполезно: люди имели свою жизнь и свою историю. И эта жизнь, и эта история, к сожалению, не требовали вмешательства Школы…
Школе не стоило бы большого труда создать новую хронологию человечества.
Если бы только старую преподавал не Леонид Петрович Молев, ее любимый директор. Все менялось вокруг – школьники, тетради, дома. Не менялись только уроки истории: из года в год директор повторял то, что было в учебнике, будто никогда и не существовало в мире Дюма, Мериме, Тарле и Тураева. И хотя для самого Молева история не начиналась и не кончалась учебником, ответы он требовал дословные, от сих до сих…
Мучаясь, считая себя предательницей, Школа постепенно осознала, что на этих уроках ей скучно. И поскольку Леонид Петрович отдавал предпочтение доришельевской Франции – главный его вопрос на экзамене неизменно касался династии Бурбонов, – Школа решила наяву прокатить его в тот уголок Времени, который он так любил. Кое-что она уже умела…
* * *
С вечера Леонид Петрович засыпал трудно: долго ворочался, скрипел пружинами на самом краю кровати, чтоб не потревожить жену. А однажды сон и вовсе не пришел, хотя Леонид Петрович, сбиваясь, трижды досчитал до шестисот. Натянув брюки, Молев выскользнул за дверь. Постоял, прислушиваясь. Уселся на крышке погреба. Раскрыл кисет. Свернул самокрутку… И ощутил себя в каком-то межвременье. Крыльями от висков пошла расползаться вязкая тишина, погасила рокот водокачки, прилетающие издали паровозные гудки, перекличку собак, звон коровьих ботал. Леонид Петрович послюнил пальцы и затушил ржавую искру цигарки.
Тут откуда-то накатила музыка, запылало вокруг множество свечей, повеяло запахом духов и пота – и, к ужасу своему, как он был босиком и в нижней рубахе, так и очутился на возвышении в зале, возле вельможи в эспаньолке и жабо. Внизу кружились красивые дамы и кавалеры. Через распахнутую дверь шумел сад и журчали фонтаны.
– Привет! – Не повернув головы, вельможа щелкнул пальцами над плечом.
Подлетел лакей, вежливо сломался в поясе, повел подносом по воздуху так ловко, что бокал с подноса сам собой прилип к ладони Леонида Петровича. Жидкость в бокале оказалась кислой и вяжущей на вкус, словно лесная груша в начале августа. Но Леонид Петрович аккуратно ее употребил, закушал трюфелем, поставил кверху донышком бокал – в общем, проявил себя вполне на уровне дипломатического приема. Потом улыбнулся, сверкнув золотыми зубами, и поднял руку:
– Бонжур, Генрих Антуанович!
Он все ж таки был историком и Генриха Наваррского узнал без труда. Правда, была в этой сцене некая ненатуральность, условность – как на старинных гравюрах или, пожалуй, в голове слабенького ученика, который судит о средневековье лишь по учебнику да еще по книгам Дюма. Но Леонид Петрович привык быть снисходительным к своим ученикам…
И еще два момента отметило сознание: Леонида Петровича никак не удивило случайное перемещение во Францию шестнадцатого века, не озаботил русский язык, которым почему-то изъяснялись в Лувре.
– Бонжур, бонжур, мосье Молёв! – откликнулся Генрих. – Рад видеть вас в Париже, который… – он хитро прищурился, – стоит обедни… Не правда ли, мон шер, хорошо сказано?
– Погодите, а какой сейчас год? – Леонид Петрович недоуменно свел брови.
– Да вы шутник! Известно какой, одна тысяча пятьсот семьдесят второй… от рождества Христова…
– Вот и попались! – Леонид Петрович назидательно уставил в грудь Генриху длинный учительский палец. – Эти исторические слова вы произнесете только через двадцать лет…
– Жаль. Хорошие слова, Ну да ладно, все равно произнесу, лишь бы случай представился: они у меня с детства на языке вертятся.
– Семьдесят второй, – пробормотал Молев. – Семьдесят второй… Что-то такое важное связано с этим годом… Ах да, послушайте, а число какое?
– Нашли момент календарем короля донимать! Десятое сегодня число. Десятое августа.
– Простите… по старому стилю или по новому? – Леонид Петрович вытер рукавом рубахи выступивший на лбу пот. От волнения он забыл, когда именно происходили реформы летосчисления.
– Не знаю, новый он для вас или старый, но у нас один стиль – барокко! – Генрих самодовольно задрал к потолку острую бородку.
– Ах, это все неважно! – Леонид Петрович заторопился. – Во имя спасения сотен жизней – немедленно откажитесь от свадьбы!
– Какой свадьбы?
– С Маргаритой, сестрой короля.
– Вы с ума сошли, мосье Молёв! – Генрих величественно кивнул кому-то в зале и повернулся к Леониду Петровичу. – Я женат уже целых пять ночей…
– Не может быть! – жалобно протянул Леонид Петрович, теряя голос.
– Мне ли этого не знать? – Генрих выпятил грудь, расправил в обе стороны птички усов. – Крошка оч-чень мила…
– Десять плюс тринадцать… – Семеня кругами по возвышению, Молев принялся загибать пальцы. – Значит, двадцать третье… Но ведь тогда завтра… Какое завтра, уже сегодня наступит Варфоломеевская ночь?.. Опять не успел…

Он двумя руками вцепился в жабо Генриха:
– Срочно спасайте ваших союзников гугенотов! Ночью Париж будет залит кровью…
– Да вы что, прорицатель? Откуда вы это взяли? И перестаньте же наконец меня трясти!
– Он не прорицатель, он испанский шпион! – раздался сзади звучный низкий голос. – Я знаю, он подослан Филиппом…
Из потайной двери вышла властная женщина, с одутловатым, оплывшим лицом.
– Здравствуйте! – Молев машинально поклонился, шаркнув по паркету босой ногой. Екатерина Медичи, мать короля! Рука Леонида Петровича потянулась к верхней пуговице воротника, и он с удивлением обнаружил в стиснутом кулаке обрывки брабантских кружев.
– Ненормальный какой-то! – неделикатно, вовсе уж не по-королевски сказал Генрих, скосив глаза в попытке рассмотреть испорченное жабо. – А еще иноземец!
На миг музыка приутихла, танцевальный зал куда-то провалился или, точнее сказать, нелепым образом перестроился в тесный актовый зал Дыницкой школы, внизу кружились не дамы в кринолинах, а выпускницы в белых платьях, и сам Молев сидел на сцене в президиуме, привычно морща пятерней на столе красное сукно. Рядом, разумеется, сидел никакой не Генрих Наваррский, а немного похожий на него заведующий роно – в косоворотке и очках – и позванивал краем стакана о графин. Леонид Петрович сделал усилие осознать это новое перемещение, как вдруг стены зала опять смешались и разъехались, стол пропал, красная скатерть превратилась в яркое парчовое платье – перед Молевым стояла Екатерина Медичи.
– Гиз! – позвала мать короля, не повышая голоса, однако ее нельзя было не услышать.
– Я здесь, моя королева! – В комнату, держась за шпагу, влетел лощеный придворный.
– Гиз, у нас помечено, где ночуют проклятые гугеноты?
– Белым крестиком на воротах, как вы приказали…
– Надо одним махом со всеми… И побыстрее…
Екатерина скрутила что-то невидимое в ладони и дернула к себе – будто черная крестьянка, подрезающая серпом колосья.
– Намек понял, ваше величество! – злобно прошептал Гиз, пятясь.
– Я совсем не то хотел… – заволновался Молев.
– А этого утопить в Сене! – Екатерина слегка приподняла бровь, и шестеро мушкетеров выросли за спиной Молева.
– Не отчаивайся, Генрих Бурбон! – быстро сказал Леонид Петрович, стряхивая плечом мушкетерскую лапу. – Ты еще станешь основателем династии!
– Спасибо, добрый чужестранец! Держи! – крикнул Генрих, швыряя ему шпагу эфесом вперед.
Рукоять сама плотно влипла в ладонь. Конечно, это была не литая буденновская сабля, но все-таки какое ни на есть оружие. И тем же сабельным ударом, который помнила рука – сплеча наотмашь! – Молев с лета рубанул гибким длинным клинком по двум багровым лицам. Мушкетеры не ожидали этой бурной самозащиты и незнакомого отчаянного удара, замешкались, отстраняясь, и он стремительно промчался между ними в сад. Но за дверью навалились трое, схватили за руки, протащили тусклыми коридорами Лувра, выволокли в темноту. Всюду в парижских улицах угадывалась какая-то возня, доносились стуки и хрипы, приглушенный перезвон не то золотых монет, не то скрещенных шпаг. Город клокотал во мраке, словно перекипевшая каша.
В лицо пахнуло речной сыростью. В ту же секунду за спиной Молева внезапно ослабла хватка конвоиров, послышались пыхтенье, топот, мягкие шлепки, Молева оттеснили в сторону, подсадили в седло, всучили в руку повод, и под быстрый шепот «В Ла-Рошель, за подмогой, пароль «Наварра!», молнией!», нащупав босой ногой стремя, он пришпорил коня.
Он скакал наугад, пригнувшись к шее лошади, доверяясь ее чутью, скакал с каким-то странным ощущением, что когда-то давным-давно это с ним уже происходило, что проезжает он места, давным-давно знакомые и опасные. Тревога не ушла и тогда, когда чуть рассвело.
Оторвавшись от гривы коня, Молев увидел крутой изгиб ныряющей в вымоину дороги, дымчатый накат Рябовской пущи, а справа – сабельную полоску поросшей кугой старицы. Позади нарастал цокот копыт – погоня батьки Гарбуза дробила подковами укатанную до булыжного блеска глину. Молев привстал на стременах. Место было то самое. Сейчас за поворотом внезапно прянет в кусты конь, испуганный выползающим из вымоины броневиком, а сам Ленька Молев вздрогнет от косого прищура пулеметных жал и щербатой ухмылки бойниц, – вздрогнет, уже вылетая из седла, за миг до того, как полунасмерть приложится щекой и подбородком к оброненной с чумацкого воза кирпичине. А потом налетят беляки и не затопчут конями бесчувственное тело лишь потому, что примут его за мертвеца, и только для очистки совести потыкают шашками. И уже много-много позже отвага беззубого юнца толкнет командира Буденного на странный поступок: по его личному приказу в диком южном городишке дрожащий от страха дантист под неусыпным наблюдением двух революционных бойцов за сутки изготовит Леньке Молеву золотой мост. Бойцы будут хвататься за маузеры всякий раз, когда из разинутого Ленькиного рта, в котором начнет ковыряться блестящими штучками недорезанный буржуй, вылетит стон. По окончании работы оба дружно пощелкают языками и потребуют от полкового комиссара охранный мандат; «Именные зубы красного конника Молева никакое не мародерство, а вручены ему за храбрость именем мировой революции как личное золотое оружие!»
Говорят, история не повторяется, но Леонид Петрович безошибочно знал, что за чем последует: время непостижимым образом отбросило его обратно – в лето двадцать первого года. Теперь бы только успеть к нашим, исправить ту застрявшую в памяти неудачу… Только бы на этот раз все получилось!
Не дожидаясь опушки леса, он заворотил коня к старице, и конь, раздвигая грудью кугу, прочмокал к берегу, недоверчиво понюхал воздух, фыркнул и, понукаемый всадником, погрузился в воду. Полоса воды оказалась неожиданно шире, чем представлялось на взгляд. Ближе к середине Молев соскользнул с седла и поплыл рядом, держась за луку и радуясь, что не успел обуться, а так и сиганул с крыльца на чью-то непривязанную лошадь, пока беляки занимались комбедом. Успеть бы, только бы успеть! Коли уж ему довелось снова попасть в пережитый когда-то день и час, может, на этот раз посчастливится привести на помощь своих? Может, удастся даже чумацкую кирпичину объехать?
Конь, оскальзываясь, выбрался из воды на кручу. Молев, прыгая одной ногой, занес другую в стремя. И тут на него из зарослей наскочил десяток мушкетеров.
– Признавайся, что делал за Луарой? – закричал старый длинноусый капитан, приставляя к боку Молева кинжал.
Ошарашенный, Леонид Петрович ничего не ответил. Он бы поклялся, не покривив душой, что вообще на том берегу не был…
Мушкетеры по-своему расценили замешательство пленника:
– Чего с ним цацкаться? Гугенот! К коннетаблю его!
Молева запеленали в плащ, бросили поперек седла на лошадь, долго куда-то везли. Потом втащили в избу, швырнули связанного на пол, бесцеремонно скатили с плаща. Со скрипом задвинули снаружи ржавый засов. Упираясь стянутыми вместе ладонями, Молев перевернулся. Сел. Привалился спиной к стене.
Света внутрь проникало ровно столько, чтобы убедиться: здесь. никогда не жил и не мог жить французский крестьянин: откуда бы в его доме взяться огромной, в полгорницы, печи с синими, слегка закопченными петухами на штукатурке, с широким, продымленным зевом топки? Продолжая свои подлые штучки, время опять переместило Молева. Вляпался! Все из-за этой шкуры Тюшкина, чтоб ему свинцовой галушкой подавиться! Сейчас сюда ворвется главный батькин палач и…
Тонкая жилка забилась в уголке левого глаза. Молев подтянул к груди колени, утопил в них лицо…
Прихлынула неестественная тишина, собралась у висков, сделалась одуряющей и вязкой. Но в следующий момент в ней забрезжили привычные звуки. Вот мерный рокот водокачки ровной строчкой прошил мрак. Вот вплыли состарившиеся в долгом полете паровозные гудки. Взахлеб перекликнулись дворняжки. Вопросительно звякнуло неутешное коровье ботало. Леонид Петрович вновь осознал себя сидящим на крышке погреба, а Дыницы разговаривали вокруг знакомым ночным языком.
Молев торопливо пошарил рядом с собой, нащупывая кисет, скрутил цигарку потолще. Едкий табачный дым защипал в носу, забил горло.
Вместе с отлетающим дымом уходило из тела напряжение, оставляя противную хлипь в коленях.
Как наяву всё.
«Постарел, – подумалось Леониду Петровичу. – Теперь, пожалуй, и малой малости того не перенес бы…»
Он усмехнулся, вспомнив, как в прошлый четверг Минька Гришак, зыркнув на перемене по сторонам, начертил мелом по черному цоколю: «Бурбон златозубый», – из директорского кабинета отлично виден тот угол здания. Молев ни слова не сказал шалопаю. Мел с цоколя техничка тетя Поля стерла мокрой тряпкой. А кто может стереть воспоминания?
Леонид Петрович заглянул к детям. Постоял. Послушал спокойное дыхание Олежки и Кати. Олежка перевернулся на живот и сдавленно вскрикнул. Леонид Петрович подоткнул ему под бок одеяло.
«Вам бы таких снов никогда не видать! – молитвенно пожелал он им то, что желал каждую ночь. – Спите и просыпайтесь без страха…»
Пробрался обратно в комнату. И тихо улёгся на кровать с открытыми глазами, закинув руки за голову.
Школе стало немножко грустно. Она так старалась, творя его именем и знаниями, замещая пять минут его жизни тремя часами растаявшей в прошлом Варфоломеевской ночи!
Но он беспрерывно возвращался в собственную историю.
Тоже минувшую.
И все же навсегда для него живую.
Не перешагнуть человеку через тысячу пережитых Варфоломеевских ночей! Не выкинуть из памяти их. Всем отзвучавшим векам не перевесить любого года жизни из тех, которые довелось хлебнуть крестьянскому парнишке Леньке Молеву.
Школа пробовала подступаться еще и еще раз.
Но память Леонида Петровича оказалась прочной.
Грусть Школы перешла в разочарование. В эти дни на уроках было совсем нельзя заниматься: ни с того ни с сего начала слезиться крыша и на втором этаже протекли потолки, хотя дождя не наблюдалось по крайней мере два месяца. Потом вдруг в здании завелись привидения. Зеленые, светящиеся летучие мыши ростом с теленка дни и ночи свисали с труб, пугая детей и молоденьких учительниц. Пытались обметать их швабрами, прижигали примусами – ничего не помогало. Дыницкие старушки велели окропить здание святой водой и устроить на этом месте церковь. Леонид Петрович ужасно разозлился, затопал ногами: «Неизвестно кого надо водой! Сами скоро от святости прозрачными сделаетесь!» Однажды утром цепочка босых светящихся следов протянулась из Школы прямиком к дому Воропаевых. Под вой и причитание старой Воропаихи Леонид Петрович слазал на чердак и извлек из-под пыльных мешков шестиклассника Сему, зеленого и дрожащего как туманное люминесцентное чудище. «Я хо-хотел снять о-оо-одно, а о-оно не за-захватывается-а-аа, пустое насквозь…» – всхлипывал незадачливый исследователь. Всей семьей мыли Сему в бане, но от горячей воды он светился еще ярче. Выцветал он две недели, и все это время Воропаиха требовала в медпункте бюллетень по уходу за больным ребенком… В тот же день привидения сгинули.
Случились тогда и другие нелепости, впрочем, совсем крошечные. Ну, например, ботаник поздоровался с пятым «б», а из дымохода как польется художественный свист: «Солнышко светит ясное, здравствуй, страна прекрасная!» Учитель заподозрил Миньку Гришака. Но Минька виновным себя не признал: «У меня, – говорит, – от природы щеки вздутые будто я свищу». К тому же выяснилось: этой песни никто не слыхал, ее даже по радио пока не исполняли: Школа перепутала и выдернула из будущего еще ненаписанную мелодию. Нерасследованным оказался случай в физкультурном зале: ровно под Новый год кто-то слепил под елкой снеговика. Снеговик простоял все праздники и растаял незаметно, не оставив после себя луж.
Постепенно, однако, все вошло в норму. Дни, наполненные и ровные, складывались в четверти и полугодия. От каникул до каникул в Школе клокотала жизнь. Да и на каникулах, если правду сказать, ученики не забывали Школу: то утренник, то хор, то мотоциклетный кружок. Потосковав, Школа прекратила эксперименты. А нерастраченную любовь перенесла на молевских ребятишек Олежку и Катю.
Впрочем, трехлетняя Катя мало отличала воображаемое время от реального, поэтому легко променяла смешной Кроличий город под крыльцом – с танцплощадкой и базаром! – на купленную Леонидом Петровичем целлулоидную куклу. То ли у толстой спокойной лупоглазой девчонки полностью отсутствовала фантазия, то ли Школа не ладила с дошколятами…
Другое дело Олег. Школа считала его ровесником – он пошел в первый класс в год ее открытия – и потому сразу нашла с ним общий язык. Сначала были автомобильчики – Олежкиного роста, но с настоящим мотором… Красивый пони для разъездов… Карликовый дирижабль… Гостеприимный капитан Немо на «Наутилусе»… В восемь лет Олег уже на льдине Папанина. А в десять после недолгих, но решительных уговоров волшебница Школа отпускает его в Испанию. Там, к сожалению, Олежке не повезло: во втором же бою ему прострелили ногу навылет. Но три недели в пионерлагере (естественно, лишь об этой отлучке из дому знали родители!) настолько его подлечили, что по возвращении он почти не хромал. Побега его, таким образом, никто не заметил: Школа умела вклеить месяц своего независимого времени в какой-нибудь получасовой промежуток обыденного мира.
События, пережитые Олегом в ледовом лагере Папанина или под пулями фалангистов, имели реальность для него одного, он это без труда осознавал и никогда никого не пытался убедить в обратном, даже невзирая на такие откровенные свидетельства его правоты, как звездчатый шрам под коленом, И все же поинтересуйся кто-нибудь вовремя – знаменитый полярник наверняка припомнил бы удивительный случай, когда к его палатке спустился на парашюте мальчик с подарками от белорусских школьников и через два дня храбро убежал на лыжах к далекому материку. Да и в интернациональной бригаде гарибальдийских стрелков вряд ли позабудут легконогого серебряного горниста. Что перед этим насмеки мальчишек – после того как на уроке географии Олег едва не выдал себя слишком уж подробным рассказом о полярном дрейфе?

Характер у Школы испортился не сразу, во всяком случае, не с того момента, когда в поселке прозвучало слово «война». Она без ропота перенесла потерю стекол – невдалеке бомбили переправу. Вскоре осколки мин исцарапали стены, местами догола ободрали штукатурку, но кожа дело наживное, нарастет. Не взволновал Школу даже неоконченный летний ремонт – не такой человек Леонид Петрович, чтобы учебный год застал его в непригодном здании, успеет. Слово «война», с которым у людей связывались ужас и боль, по-прежнему оставалось для Школы просто словом, вызывало представление не более чем о маршах, подвигах, веселых маневрах и прочей романтике, почерпнутой из того же Дюма да из Купера. Она хотела по привычке послушать мысли директора, но обнаружилось, что он ушел добровольцем и с тех пор не подавал о себе вестей.
Обеспокоило Школу внезапное исчезновение учеников. Август перевалил на вторую половину, а по классам все также штабелями громоздились парты, гулял сквозняк, ветер заносил внутрь запах гари и пыль, хлопала во втором этаже сорванная с одной петли форточка. Конечно, это была не ее забота, на это существовал завхоз. Ее доля следить, чтоб сырость не мешала, не отпугивали детишек неясные шорохи, не давили на стриженые затылки потолки. А уж с этим Школа как-нибудь справлялась.
Но директор и завхоз не появлялись, не возвращались ученики. Детей в поселке осталось совсем мало, да и те крались в тени домов одиночками, без гомона и возни. Канонада прокатилась мимо – больших оборонительных сооружений под Дыницами не возводили. Несколько дней в классах лежали раненые, и Школа, серея от чужой боли, отвлекала их видениями пальмовых пляжей, поила прохладной газированной водой. Потом раненых спешно погрузили в машины и увезли. К зданию подлетели на мотоциклах люди в серо-зеленых шинелях, поговорили на лающем языке, прибили к двери табличку «Комендатура». Язык этот незнакомым, однако, не был: семь лет Школа с каждым новым поколением зубрила превращенные в дразнилки спряжения: «Их бине, ду бине, полено, бревно, что немка дубина мы знаем давно…»
«Немку» Гитель Иосифовну ругали зря. Она была близорука и добра, учила терпеливо, не придиралась и судьбу свою последние годы оплакивала лишь оттого, что приходится преподавать ненавистный большинству жителей предмет, который сама она к тому же любила. Эвакуироваться ей было некуда, и ее едва ли не в первый вечер привели на допрос.
– Юде? – обрадовался комендант, рыжий толстый офицер с засученными рукавами, открывающими крупные веснушки до самых локтей. – Это ест славно… Ми вас будет мало-мало стреляйт… Абшисен…
И звучно прищелкнул в воздухе пальцами.
Говорил он по-немецки каким-то сумасшедшим ломаным образом. Словно иначе эта русише лерерин [1]1
Русская учительница (нем.).
[Закрыть] не поймет. Даже после того как она прочла ему с вызовом, стараясь блеснуть университетским произношением:
Французам и русским досталась земля,
Британец владеет морем.
А мы – воздушным царством грез,
Там наш престиж бесспорен.
Там гегемония нашей страны,
Единство немецкой стихии.
Как жалко ползают по земле
Все нации другие… [2]2
Генрих Гейне «Германия. Зимняя сказка», 1844. Перевод Вильгельма Левика.
[Закрыть]—
он лишь презрительно поднял бровь:
– Хайнрих Хайне? Он не ест наш немецкий поэт…
– Что вам от меня нужно? – спросила Гитель Иосифовна сразу же осевшим и тихим голосом.
– Ми вас тоттен нихт… [3]3
Не будем убивать (нем.).
[Закрыть]Ви будет ест переводчик…
– А если я не соглашусь?
– Кто же вас спросит? – брезгливо спросил офицер, переставая коверкать слова. – Отсюда нет выхода!
Он обвел рукой бывший директорский кабинет, уязвимый и голый после того, как фашисты выбросили прямо через окно работы ребят-умельцев. Лишь макет электростанции, превращенный в пепельницу, сиротливо стоял на отдельном стуле. Своим жестом рыжий офицер как бы давал понять, что имеет в виду не только кабинет и это здание, но весь поселок, и захваченный кусок страны, и насильно водворенный новый порядок, – отовсюду Гитель Иосифовне не было выхода. Он склонил голову к плечу и прищурился. Потом решил, что дал достаточно времени на размышление, и вновь шутовски прищелкнул пальцами:
– Ну вот… Абцилен зих [4]4
Считайте себя (нем).
[Закрыть] кости без кожа…
Школе шутки рыжего не понравились, В тот же вечер он скатился с лестницы, схлопотав на коротеньком пролете два перелома и сотрясение мозга. Его преемник, хлыщеватый, сухой как сигарета, обследовал перила и ступеньки, ничего, кроме обыкновенного гвоздя, не обнаружил, гвоздь приказал вытащить, а по инстанции уведомил, что, по его мнению, «гауптман Краузе во время дежурства был не иначе как мертвецки пьян и по выздоровлении подлежит строгому наказанию за временное дезертирство…». На всякий случай новый комендант переселился в спортивный зал на первом этаже и продолжил беседу, после которой Гитель Иосифовну окатили из кувшина водой и усадили сбоку стола спиной к шведской стенке.
Дыницы были районным центром. Комендатура поэтому тоже была районная. Арестованные оказались из ближних мест, почти сплошь свои. Раненый советский офицер. Избитая хуторянка, у которой он прятался. Мужик со станции, произносивший распухшими, окровавленными губами одни ругательства, но так безразлично и сосредоточенно, что учительница даже не краснела. Двойняшки Колька и Котька Бабичи, науськавшие на солдат свою кудлатую собачонку. Студент Сява, не успевший выбраться из заварухи у переправы. Даже комендант понимал: спрашивать их не о чем, дело до безнадежности ясное. Не представляло труда сообразить и что их ждет: в школьном дворе на физкультурной перекладине раскачивались для устрашения жителей задубелые на ветру веревочные петли. А в углу кабинета молоденький, только-только из гитлерюгенда, фашистик Бинк, прикусив от усердия кончик языка, малевал на фанерках, тщательно сверяясь с бумажкой, русские буквы: «Я ест против немецкий порядок…»







