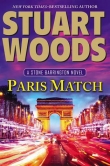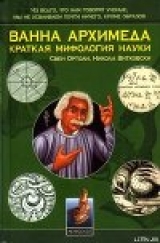
Текст книги "Ванна Архимеда: Краткая мифология науки"
Автор книги: Свен Ортоли
Соавторы: Никола Витковски
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
Во имя науки
Во французской литературе слово «наука» в первый раз встречается около 1080 года в «Песни о Роланде», приписываемой барду Турольду: «Puis sunt muntez e unt grant science». Переводится это так: «Они вскочили в седла, умело направляя [коней]». Речь идет об арьергарде, которым командовал храбрый Роланд, готовившийся, как рассказывает Турольд, к схватке с сарацинами. При заимствовании из латыни слово scientia утратило тот смысл, который оно имело в Риме, а именно – теоретическое знание. Слово вернет себе изначальное значение только три века спустя. Дело не в том, что аристотелевская «эпистема» исчезла на этот период с лица земли. Просто она не практиковалась, или практиковалась минимально, при Капетингах; куда больше – в Багдаде, Пекине или Византии. На Босфоре ее преподавали под названием «квадривий». В эту упряжку, объединившую арифметику, геометрию, теорию музыки и астрономию, иногда добавляли и физику. Ничего общего с той наукой, о которой говорит Турольд, – ловкостью профессионала в обращении с вещами, будь он рыцарь, кондитер или каменщик. Скромное начало для слова, которое спустя тысячу лет, едва произнесенное, будет сочиться сенаториальной важностью и издалека ослеплять множеством своих заслуг и регалий, если верить эпическим песням, исполняемым по телевизору и составляющим главную радость современного вечернего времяпрепровождения.
Одна недавняя телепередача называлась так: «Наука – это то, что меняет нашу жизнь». Хотя легко представить себе в начале предложения множество других вокабул (смерть, вино, любовь…), определение было именно таково. Столь серьезное заявление не могло остаться без последующих уточнений, для получения которых нужно было внимательно просмотреть всю передачу. Оказалось, что она посвящена внезапным переменам, случившимся в течение последних восьмидесяти лет если не благодаря науке, то, по крайней мере, во имя ее.
Первая из этих перемен была (надо полагать, невольно) представлена в той самой дерганой манере, которой пользуются, чтобы стимулировать интерес зрителя, предположительно больше реагирующего на смену мелодии, чем на саму мелодию. А дальше аудиторию пустили в свободное плавание по странному морю, где заставки сюжетов выбрасывались, словно орифламмы победоносного флота: «Эра абсолютной точности», «Транспорт будущего», «Общение со скоростью 300 тысяч км/с». Волна за волной на зрителя накатывались образы: за кадрами из видеоигр следовали террасы на берегах Марны, за энергоблоками атомных электростанций – ведра угля, за гоночными машинами «Формулы 1» – старинные кареты, за атомными часами – брегет на цепочке, за противозачаточными таблетками – церемониал Киусаку Огино.
Во времена Турольда просвещенный продюсер, дальний предок того, кому мы обязаны этим современным продуктом, определенно не стал бы, пожелай он создать образ науки, поминать водяные часы Су Суня – гордость китайского императора, воспроизводящие движение Солнца, Луны и звезд с немыслимой для того времени точностью. Равно как и введение в Испании десятичной формы записи чисел по милости арабских ученых. А также и о том, что Цзэн Гунлян описывал в сочинении «У цзин цзун яо»[46]46
Фрагменты важнейшего из трактатов по военному искусству (кит.).
[Закрыть] железных рыбок, способных указывать на юг. И уж тем более – о решении персом Омаром Хайямом уравнения третьей степени. Он бы, возможно, объявил, что итальянцы научились перегонять спирт, что комета Галлея предрекла поражение при Гастингсе или что новый тип упряжи с жестким плечевым хомутом сильно облегчил тягловым лошадям их задачу. Он поступил бы так вовсе не из невежества, а просто в соответствии со своим восприятием науки как важнейших ноу-хау. И сегодня его потомок также дает определение слова «наука» согласно тому, как он его чувствует. Предлагаемая им картина лишена двусмысленности: наука может вас спасти, наука может вас убить, наука может вас переместить очень далеко и очень быстро; наука может все, что угодно, – угодно оно вам или нет. В сущности, это дух лампы, прислужник птицы Рух, джинн, вызванный Аладдином, чтобы завоевать принцессу и царство.
А вот пример иного рода: таинственный преступник, прозванный Унабомбер, совершил в Соединенных Штатах двадцать три покушения, начиная с 1978 года. Три человека погибли, получив по почте бомбу в посылке. Чарльз Эпштейн, специалист по болезни Альцгеймера и синдрому Дауна, при получении такой посылки потерял несколько пальцев. Давид Гелернтер, создатель алгоритмического языка, красиво окрещенного Ada в честь графини Ады Лавлейс, дочери поэта Байрона и сопроектировщицы первого в истории компьютера, при сходных обстоятельствах остался обезображенным. Единственное, что объединяет все жертвы (генеральный директор авиакомпании, несколько университетских профессоров и два компьютерщика), – это их работа, которая на первый взгляд всегда так или иначе связана с высокими технологиями. Выбор был широкий. В сентябре 1995 года Унабомбер потребовал – и получил – место в газетах для размещения манифеста на 35 тысяч слов, угрожая продолжать рассылку своих смертоносных посланий[47]47
Публикуя свой текст, Унабомбер обнаружил собственный стиль. Этот стиль и опознал его брат. В начале апреля 1996 года ФБР уже допрашивала Теда Кайжинского, выпускника Гарварда, бывшего профессора математики в Беркли, жившего отшельником в хижине в штате Монтана. Он покидал свое убежище только для того, чтобы отправлять чудовищные посылки.
[Закрыть].
Этот манифест об «индустриальном обществе и его будущем» был опубликован в Washington Post. Там, в частности, говорится, что учеными движет вовсе не любопытство и не стремление к благополучию человечества, а жажда власти и что наука развивается вслепую, следу капризам ученых, политиков и коммерсантов. Перейдем к агрессивным мотивам автора манифеста, вычленяя из контекста лишь тот смутный образ, на который направлена его атака. Какой он видит науку? Если судить по целям, то его точка зрения идентична точке зрения продюсера телевизионной передачи, описанной выше. Последний полагает, что отдает должное взрывам познания. Первый же ограничивается просто взрывами – тех, кого полагает слепыми прислужниками того же познания. Добрый осветитель доктор Джекил превращается в истребителя прожекторов мистера Хайда, маньяка-графомана, вооруженного тротилом с динамитом. Простая метафора, чтобы подчеркнуть, что оба персонажа разделяют одно и то же представление о науке, хотя оно будит в них совершенно противоположные эмоции.
Очевидно, что различие между этим полифоническим образом нашей таинственной героини и ее реальным содержанием такое же, как между эпопеей посланника Дюрандаля и экспедицией наемников Карла Великого, предпринятой, чтобы помочь мусульманскому вождю в борьбе с эмиром Кордовы. Того самого набега, по возвращении из которого франкский арьергард с герцогом Бретонской марки Роландом во главе был истреблен то ли баскскими, то ли гасконскими горцами, наверняка не отличавшими добрых христиан от поганых язычников.
Между наукой, какой она видится общественному мнению и прославляется средствами массовой информации, и наукой, какой она предстает ученым в их повседневной деятельности, расхождение ничуть не меньшее, чем между эпосом и путевым дневником. Неожиданным образом это расхождение увлекает нас в самое сердце бездны, разверзающейся меж двух обрывов, в область, которую ученые якобы отдают на откуп историкам и философам, – в область мифа. Она зажата между колоссальной успешностью науки как предприятия и ее странным отсутствием на культурной сцене.
ается в глаза поразительный успех, вызывающий в простом обывателе противоречивые чувства. Верит ли он в науку? Одна из причин, почему он разделяет эту веру, в том, что он может ощутить реальность науки при посредстве техники. Когда маркиз Д'Арланд и Пилатр де Розье 15 октября 1783 года поднялись на воздушном шаре над Мецем, невидимые газы, о которых говорил Лавуазье, стали осязаемы. Когда атомная бомба 6 августа 1945 года разорвалась над Хиросимой, энергия атомного ядра потрясла умы. От мечты Икара к огню Прометея, связь с невидимым проявилась воочию. Впрочем, что техника подтверждает авторитет науки – постулат настолько хорошо установленный, что организаторы фундаментальных исследований не устают ссылаться на него при каждом затруднении с кредитованием. Вот, например, недавнее воинственное заявление Уолера Масси, директора Национального научного фонда Америки: «Публике говорят, что мы держим первое место в науке, и она хочет знать, почему это не улучшает нашу повседневную жизнь. Единственное, что работает в этой стране, похоже, совсем не приносит дивидендов».
Если публика во что-то верит, она требует непрерывной череды чудес. Но в эпоху, когда каждый год приносит обильный урожай выдающихся открытий, она пресыщается. Теряя чувствительность к добродетелям науки, она видит в ней все больше пороков. Все шире распространяется идея, что наука приносит не меньше зла, чем благ. Наука опережает человеческую мораль по скорости развития – с равнодушным смирением признаем мы перед лицом могущества, превосходящего наше сознание, черного ящика, откуда в очевидно случайном порядке появляются то новое средство от мигрени, то лазерная пушка, то сказочный зверинец, в котором царят боги бесконечно малого – от бозонов до кварков – и боги бесконечно далекого: всепожирающие черные дыры, налившиеся кровью красные гиганты, скрючившиеся белые карлики.
Определенно, обыденная жизнь являет немало свидетельств тому, что акции науки растут. В рекламе белоснежный халат ученого служит пока еще символом спокойной уверенности в силе научной рациональности, причастности объективной истине, наделяющей людей науки способностью провидения. Тревога, опасность? У каждой проблемы свое решение, причем всегда одно и то же: наука решит проблему… если обеспечить достаточные инвестиции. Проблема СПИДа – это проблема денег, утверждали лидеры ACTUP/NY[48]48
AIDS Coalition to Unleash Power. Организация по борьбе со СПИДом, расположенная в Нью-Йорке. (Прим. перев.)
[Закрыть] во время демонстраций 1993 ода. Подразумевается: у науки найдутся ответы, вопрос только в деньгах и времени, [47]47
Публикуя свой текст, Унабомбер обнаружил собственный стиль. Этот стиль и опознал его брат. В начале апреля 1996 года ФБР уже допрашивала Теда Кайжинского, выпускника Гарварда, бывшего профессора математики в Беркли, жившего отшельником в хижине в штате Монтана. Он покидал свое убежище только для того, чтобы отправлять чудовищные посылки.
[Закрыть] словно она сводится к стандартному плановому производству, словно существует метод, гарантирующий открытие. Любопытный парадокс: мы больше не надеемся на благоденствие, не основанниое на науке, однако же вполне привыкли к тому, что из черного ящика то и дело выскакивает нечто совершенно неожиданное, в то время как ожидаемое не появляется вовсе.
Но самое удивительное впереди. Обилию открытий и изобретений странно диссонирует, как мы говорили, отсутствие науки на культурной сцене. Симптомом тому служит, например, исчезновение бурных споров, охватывавших некогда ненаучную публику в связи с теорией Ньютона, эволюционизмом Ламарка или Дарвина, теорией относительности Эйнштейна. Крупные потасовки последних десятилетий, запечатленные на обожках журналов, относились исключительно к экономике, этике, догматике или технике. Пронеслась лихорадка по поводу холодного ядерного синтеза как неисчерпаемого источника энергии на фоне эпического полотна, изображающего борьбу Давида-химика с Голиафом термоядерного (горячего) синтеза. Отгремела яростная схватка на предмет наличия памяти у воды (имевшая и своих мучеников, и своих инквизиторов). Справедливо выражалась обеспокоенность генетическими манипуляциями, но это единственный случай, когда общая ссора повлекла за собой выяснение отношений если не по поводу наших представлений о мире, то, по крайней мере, по поводу нашего будущего. Все прочие отражали скорее трения междуучеными и журналистами, но не состояние науки сегодня.
Скажем прямо, задача непростая. Научный язык стал настолько специализированным, что даже в лоне единой дисциплины существуют ответвления и подответвления, представители которых общаются между собой столь же непринужденно, как, к примеру, папуас и индеец племени навахо. Кроме того, прожекторы, направляемые на протяжении доброго полувека физиками, космологами или генетиками, высвечивали в пироде стороны, сбивающие с толку. Так произошло в субатомном мире, где электрон и иные составляющие материи больше не могут быть представлены как объект, локализованный в определенном пространственно-временном объеме, а мыслятся как нечто странное, проявляющееся то как волна, то как частица, не являясь ни тем ни другим. Так случилось в космологии и в физике элементарных частиц, где изучаемые реакции проходят за время в миллиарды раз большее или меньшее, чем допускают пределы нашего воображения. Богатство, как операциональное, так и концептуальное, добытое во всех этих набегах, имеет смысл только для ученых. Им самим приходится пускаться в метафорические игры – настолько сложно исследовать мир, слишком далекий от нашего. Астроном Фред Хойл предлагает историю о том, как жизнь была посеяна на Земле пролетавшими мимо инопланетянами миллиарды лет назад. И Большой взрыв – не последняя из этих метафор, погружающих нас в самый источник мифов. Потому что из всего, что нам говорят ученые, мы не усваиваем почти ничего, кроме образов.
И мы верим в черные дыры точно так же, как франкский крестьянин верил в духов леса. Тот, кто слышит разговоры о странном аттракторе, о теории катастроф, о промежуточном бозоне или о фракталах, с готовностью признается, что для него это все пустые слова, что он и близко себе не представляет, о чем речь, даже если музыка слов ему что-то напоминает. Верх, низ, странность, очарование, красота, истинность – вот вам прозвища кварков. Конечно, вычисления физиков надежно доказывают реальность явлений, но их опыт не выходит за рамки того, что прописано в математических формулах. Для большинства из нас этот мир чужд, если не сказать – потусторонен. Отчуждение культуры вызвано именно этим и поисходит столь же неизбежно, сколь бессознательно. Почему? Потому что, как утверждает Леви-Строс:
В противоположность обществам без письменности, где позитивные знания укладываются в рамки воображения, у нас позитивные знания настолько превосходят способности воображения, что оно, будучи не в состоянии охватить тот мир, о существовании которого ему известно, прибегает к единственному доступному средству, превращая его в миф.
К 1850 году ученые мужи утверждали, что мы движемся от темных веков к Просвещению, потому что наука открывает и впредь будет откывать истину в борьбе с ложными идеями, религиями, традициями, мифами. Они ошибались по всем пунктам. «Как это ни удивительно, – заключил Леви-Строс, – диалог с наукой, противостоящей мифологическому мышлению, снова актуален».
Корабль дьявола
Общество, для которого Донателло – это одна из черепашек-ниндзя, а Сократ – система бронирования мест в железнодорожных поездах, предрасположено к недоразумениям. В том числе и тогда, когда читатель этой книги сталкивается со словом «миф». Сказать, что Джеймс Дин или Мерилин Монро – миф, значит конечно же совсем не то же самое, что «миф полной занятости», вышедший из-под пера пишущего на экономические темы журналиста, или меланезийский миф о сотворении Нугу Ипилой у Мирчи Элиаде. Мало у каких слов значение столь переменчиво. Заявляя, что наука и связанные с ней анекдоты обнаруживают столько же рациональной мысли, сколько мифической, мы предполагаем, что уже определили миф через его функции. Сгруппировали людей вокруг единой картины мира и бытия. Напомнили, как вершится судьба общества. Разрешили противоречия, замяли скандалы. Но какая картина мира, какая судьба, какие противоречия, какие скандалы?
Прежде всего картина мира: например, та, в которой словарь Робера определяет науку как «точное, универсальное, истинное знание, выражаемое законами». Это все та же идея гигантского конструктора Вселенной, деликатные механизмы которой мы способны разобрать или вычертить.
Затем судьба – раскрывать тайны Вселенной. Однако почти все нынешние исследования представляются больше ориентированными на возможности какого-либо воздействия на природу, чем на понимание ее законов. Понимать или действовать? Мы уже давно отдаем предпочтение второму. «Во времена моей юности, – писал биолог Эрвин Шаргафф, – боевым кличем служило знание, а сегодня молодые ученые чаще взывают к силе».
Далее противоречие: кажется, будто рациональное мышление относится исключительно к природе. Оно отбрасывает все, что в природе не проявляется, в сферу религии или мифов. Но ведь научная истина – это еще не вся истина о мире. Миф для того и существует, чтобы сказать нечто такое, что не может быть сказано иначе.
И наконец. скандал: о каком чистом и беспристрастном исследовании можно говорить в исторический период, который видел две мировых войны, Хиросиму, череду экологических катастроф и грозный призрак генетических манипуляций?
Подобного рода сомнения входят важным компонентом в состав того клея, что обеспечивает цельность научных мифов. Оно отнюдь не ново («знание без сознания…») и достигло зрелости еще во времена Рабле. «Змея, символ познания, покорила всю землю, – пишет философ Эрнст Юнгер, – и возникает вопрос: а не прячется ли она за наукой?» То же можно спросить и о символе дьявола. Один писатель сумел выразить общую тревогу точнее прочих, и благодаря ему мы кратчайшим путем приходим к трагедии Франкенштейна. В 1860 году Томас Лав Пикок вложил в уста преподобного отца Опимиана, персонажа романа «Усадьба Грилла», такие слова: «Я пришел к мысли, что конечным предназначением науки является истребление человеческого рода». В подтверждение этому выводу Пикок, друг поэта Шелли и его жены Мэри перечислял вразнобой всевозможные беды своего времени: пожары на пороховых фабриках, взрывы корабельных котлов и метана в шахтах, совершенствование револьверов, ружей и пушек, отравления отходами, загрязнение Лондона до такой степени, что «скоро ни одно живое существо не сможет вздохнуть безнаказанно», безработица, вызванная внедрением сложных машин, разрушающих ремесла и притягивающих людей в города. Но превыше всего он проклинал катастрофы и кораблекрушения, причину которых видел в безумном пристрастии к скорости, «столь обычном среди тех, кто уж совершенно точно не найдет чем заняться по завершении гонки, и все равно несется, словно Меркурий с личным письмом от Юпитера».
Откуда эта грустная филиппика? В 1819 году Пикок поступил на службу в Восточно-Индийскую компанию, извлекавшую прибыль из следующего треугольника: опиум с плантаций в Бенгалии, чай, покупаемый у китайцев – потребителей опиума, деньги, получаемые от англичан – любителей чая. Пикок быстро поднимался по служебной лестнице, пока не достиг к 1836 году завидного положения главного инспектора. В этом качестве он активно внедрял канонерки новой серии, украшением которой в 1840 году стала «Немезида». Изящная, шустрая, маневренная благодаря двум моторам по 60 лошадиных сил, с небольшой осадкой, позволяющей подниматься по рекам, и главное – с неожиданно мощным для ее размера вооружением: десять малых пушек, две – 32-го калибра, мортиры и даже реактивный бомбомет. Все это тщательно упаковано в броню. Одним словом, восторг, а не лодка.
Но в отличие от коммерческих королей из Сити, британское адмиралтейство косо смотрело на этот невзрачный утюг на углях, прячущийся среди громадных белых лебедей его флота. Надо сказать, что для моряка стальная обишвка представляет ощутимое неудобство. Из-за такого количества металла все компасы сходят с ума. И что же? Фея науки снизошла на королевского астронома Джорджа Эри и просветила его разум. В 1838 году он нашел способ компенсировать магнитное возмущение, создаваемое обшивкой. И тремя годами позже бронированная суперзвезда поднялась по реке Перль, сея такой ужас от Кантона до Вампоа, что солдаты Поднебесной окрестили ее «кораблем дьявола»… Так была выиграна первая опиумная война.
В этой истории уже содержатся все ингредиенты рецепта, пользовавшегося впоследствии большим успехом: возьмите несколько новых технических решений, пароходные колеса и бронированные башни и передайте их в руки нескольким светлым головам, способным превратить их в орудие власти, пригодное для извлечения прибыли. Добавьте доходный рынок по вкусу: рынок опиума был лишь первым из многих. И разумеется, дело не обошлось без вмешательства известного ученого, начальника королевской обсерватории Гринвича, – стало быть, находящегося в прямом подчинении у адмиралтейства и имевшего главной задачей межевание звездного неба в целях морской навигации. Вот с какой натуры рисовал Пикок. Его угрызения не сочтешь неуместными – но есть ли за что бичевать ученого? Неужели астрономы – это прячущиеся в тени виновники воинственных порывов повелителей морей? Инженеры и хозяева заводов, где начиналась эта смертоносная стальная стрела, – занимают ли они привилегированные места на скамье подсудимых? Короче говоря, как опознать отца монстра? Неужели доктор Франкенштейн? В чем же еще повинен этот несчастный?!
Во время путешествия, позволившего «Немезиде» продемонстрировать свои таланты, Пикок указал виновника: это наука. Изложенные сегодня с минимальными изменениями, его взгляды никого бы не удивили. Потому что главный вопрос, волнующий мир, далекий от научных изысканий, именно в том и состоит: не состряпает ли наука нам монстра почище всех предыдущих. Страхи преподобного отца Опимиана вовсе не утратили своей актуальности.
На протяжении всей этой книги мы играли с некоторыми концепциями, олицетворяющими далеко выходящие за их пределы мифы, стараясь, понять тех, кто эти концепции разрабатывал. К персонажам давних времен Архимеду и да Винчи присоединилась внушающая доверие фигура Эйнштейна; НЛО тоже могут нас ободрить, так как пришельцы из нашего (технологического) будущего доказывают, что оно у нас, наверное, есть; за ними следуют хаос на крыльях бабочки Лоренца и «принцип» неопределенности, светящейся в глазах кота Шрёдингера. Сюда же можно было бы добавить немало других сюжетов, начиная с динозавров, обладающих очарованием в меру своей монструозности и также олицетворяющих миф о конце света, который предполагает их история. Но все они демонстрируют обстоятельство столь же простое, сколь парадоксальное.
Наука и миф – вовсе не два чуждых друг другу мира. Если бы не было мифологической и религиозной форм мышления, то не было бы и науки. Кеплер был астрологом в не меньшей степени, чем астрономом[49]49
И это вовсе не ходатайство в пользу лженауки. Только во Франции ею живут от 40 до 50 тысяч человек; зарегистрировано около 6000 астрологов и 500 астрологических серверов минителя. Для сравнения: Национальный центр научных исследований (CNRS) объединяет около 11 000 исследователей и инженеров.
[Закрыть]. Ньютон занимался алхимией. Бор выбрал «средний путь» (путь дао), Шрёдингер прекрасно разбирался в индуизме, и так можно нанизывать имя за именем – от Парацельса до Гильберта, включая Гарвея и Глаубера, перечисляя тех, кто, веря в anima mundi[50]50
Душа мира (лат.).
[Закрыть], в божественную гармонию звезд, являлись тем не менее пионерами современной науки. Но вся эта литания, разумеется, затеяна не только затем, чтобы доказать, что ученые тоже люди (высунутый язык Эйнштейна на плакате большого формата прекрасно напоминает об этом, если нужно), но и чтобы подчеркнуть, насколько наука, участвующая в формировании наших представлений о мире, сама подвержена непрерывному перелицовыванию миром, который ее окружает.
А то, что наука, со своей стороны, служит хранилищем наших мифов, – это скорее признак ее силы. Обратное означало бы атрофию, неспособность в итоге реставрировать в оттенках нашей эпохи великий проект, стоящий у истока современной науки, ее своего рода основополагающий миф. Если стереть черную краску с лопастей радиометра Крукса, то он перестанет вращаться.