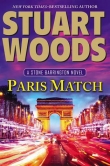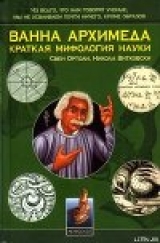
Текст книги "Ванна Архимеда: Краткая мифология науки"
Автор книги: Свен Ортоли
Соавторы: Никола Витковски
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Яблоко Ньютона
Это самый знаменитый объект научного фольклора. Ансамбль «Битлз» даже превратил его в логотип своей звукозаписывающей компании. Одна известная компьютерная фирма выбрала себе символом его немного надкусанную модификацию. Его же мы находим – как залог универсальности – в «Рубрике брака» Марселя Готлиба нарисованным непосредственно перед падением на череп Ньютона, одетого по моде эпохи, со всеми вытекающими последствиями. Уже упавшим, как и отсутствующим в современном словоупотреблении, мы встречаем его также в «Исторической справке» энциклопедии Ларусса. Незабвенное яблоко, увиденное однажды в свободном падении в одном из фруктовых садов Линкольншира, в точности столь же знаменито, как и сам Исаак Ньютон, и во всяком случае знаменито гораздо больше, чем всемирное тяготение, существование которого оно, как принято считать, столь удачно помогло обнаружить. Это правда, что яблоко можно подать под любым соусом – музыкальным, компьютерным, политическим, и всегда с гарантированным успехом. Потому что яблоко – это не фрукт, но некий совершенный плод, напоенный всеми сельскими добродетелями и едва отделимый от библейского фона, придающего ему возбуждающий привкус первородного греха.
История яблока настолько действенна, настолько совершенно символизирует концептуальный переворот, следующий из наблюдения самого обыденного объекта, что кажется почти невозможным в ней усомниться. Блез Сандрар на вопрос одного друга, спросившего, действительно ли он путешествовал на Транссибирском экспрессе, ответил: «А что тебе за разница, если благодаря мне ты сам на нем ездил?» Все биографы великого физика тем не менее соглашаются в одном: если Ньютон и видел падающее яблоко, то только в 1726 году, накануне смерти, легенда же помещает это событие в 1666 год, когда он – снова по свидетельствам гораздо более поздним – «простер силу притяжения до лунной орбиты». В самом деле, отделить яблоко от нашего спутника никак невозможно, поскольку исходный вопрос звучит так: если яблоко падает, почему же не падает Луна? И ответ на этот вопрос таков: Луна не просто падает (тело, движущееся по кругу, непрерывно падает по направлению к его центру), но падает по тому же закону, что и яблоко, только с поправкой на удаленность. И как только Луна возвращается на свое место (вслед за яблоком), можно спрашивать о правдоподобии легенды и ее обстоятельств.
Уильям Стакли, будущий автор «Воспоминаний о жизни сэра Исаака Ньютона», относит эту историю к 15 апреля 1726 года:
После ужина мы, соблазнившись ясной погодой, вышли выпить чаю в саду, в тени нескольких яблонь. Среди прочего он упомянул в нашей беседе, что пребывал как раз в аналогичном положении, когда ему в голову пришла мысль о гравитации. Она возникла из-за упавшего яблока, когда он однажды сидел в задумчивости в саду.
Самого Ньютона, человека холодного и заносчивого, намеренно делавшего свои тексты неудобопонятными, заполняя их уравнениями так, чтобы «его не беспокоили посредственные математики», трудно себе представить автором такой очевидно популяризаторской метафоры. Стакли, кичившийся знанием математики, был немало удивлен яркостью содержащегося в анекдоте образа, столь далекого от заумного тона бесед, которые с ним обычно вел сэр Исаак; он, несомненно, понял, что история сочинялась с расчетом вовсе не на него и что он, скорее всего, отнюдь не был ее первым слушателем. Только личность достаточно невежественная в делах науки и достаточно близкая к Ньютону, чтобы пользоваться его доверием, могла «вытянуть» из него нечто подобное. По всей вероятности, такой личностью могла быть только его любимая племянница Катерина Кондуит, единственный человек в семье, к кому он относился с чем-то вроде теплоты, и единственная женщина, к которой он когда-либо вообще приближался. Современные им карикатуристы не могли удержаться от того, чтобы не обыграть в своих рисунках странное сочетание абсолютного женоненавистничества старого дядюшки (биографы утверждают, что он никогда не знал физической близости с женщиной) и знаменитого на весь Лондон обаяния юной и прелестной Катерины. Джонатан Свифт тайно вздыхал по ней («Я люблю ее, как никого на свете», – признавался он в своем дневнике), а Ремон де Монмор, член регентского совета, говорил прямо: «Я получил самое прекрасное впечатление от ее ума и красоты». Даже сам Вольтер писал: «В юности я думал, что Ньютон обязан своими успехами собственным заслугам <…> Ничего подобного: у Исаака Ньютона была прелестная племянница – мадам Кондуит, завоевавшая министра Галифакса. Флюксии и всемирное тяготение были бы бесполезны без этой прелестной племянницы». Лорд Галифакс действительно покровительствовал Ньютону и, вполне возможно, был любовником Катерины, но нужно обладать двуличностью Вольтера и его неспособностью противостоять соблазну «красного словца», чтобы приписать успеху теории всемирного тяготения такую причину.
Логика тем не менее спасена: за историей о яблоке скрывается женщина, а сама история, может быть – но нам никогда не узнать наверняка, – придумана от начала и до конца. Дело на этом не закончилось. Катерина присутствовала при смерти дяди. Они даже взяла на себя обязанности душеприказчицы и сохранила, кроме всего остального, чемодан, с коим Ньютон не расставался с момента отъезда из Кембриджа, где великий ученый провел первую часть своей жизни. Епископ, которому доверили изучение содержимого чемодана, после короткого осмотра захлопнул крышку и воскликнул: «Чемодан полон кошмара!» Так что чемодан этот оставался в семье до 1936 года, пока лорд Лимингтон, потомок Катерины, не продал его на аукционе. Знаменитый экономист Джон Мэйнард Кейнс, возмущенный таким «небрежением семейным долгом», купил большую часть содержавшихся в чемодане рукописей: тысячи страниц, посвященных алхимии и теологии!
Объем этих эзотерических писаний примерно равен объему всех научных трудов Ньютона. В своей кембриджской лаборатории он предавался вовсе не «обычной химии», а поискам секрета жизни. Окруженный ретортами и раздувающий печи, горевшие, по свидетельству единственного допущенного в святилище помощника, «непрерывно на протяжении шести недель весной и осенью», сэр Исаак пытался выделить vegetable spirit, компоненту материи (живой или минеральной), «исключительно тонкую и невообразимо неприметную, но без которой земля была бы бесплодной и мертвой». Среди кабалистических диаграмм, представляющих философский камень, Кейнс нашел также index chemicus[15]15
Химический указатель (лат.).
[Закрыть], в котором перечислены все известные алхимикам тела, а также длинный свод фраз из Священного Писания, упорядоченных в соответствии с их значениями в различных языках.
Ньютон был убежден, что древняя религиозная доктрина была со временем искажена, и искал ее изначальный смысл с неизменным упорством, проявляя ту же глубину анализа, что характеризует его научные работы. Несомненно, это один и тот же Ньютон ищет философский камень и открывает секреты гравитации («она похожа на очень тонкую субстанцию, скрытую в материи тел») и света (состоящего из «множества корпускул, обладающих невообразимой скоростью и неприметностью»). По иронии истории гравитация стала сейчас еще более таинственной, чем философский камень: в отличие от всех прочих сил природы, которые объединяются в рамках единой теории, гравитация остается загадкой, лишившей физиков покоя.
Отчего же говорят, что Ньютон был магом? – спрашивает Кейнс. – Из-за его взгляда на Вселенную и на все, что она содержит: это одна большая загадка, тайна, которую можно разгадать при помощи чистой мысли, направляемой некими мистическими указаниями, оставленными Богом в мире для того, чтобы предложить эзотерическому братству своего рода охоту за философским сокровищем.
К черту истории о яблоке! Настоящие секреты Ньютона были в том самом чемодане; и нам о них известно благодаря племяннице, той самой, благодаря которой мы узнали и про яблоко.
Спасибо, Катерина!
Франкенштейн
Любители полицейских романов и рассказов об ужасах знают, как опасно бывает художественное воображение пожилых леди: они подчас способны под пару чашек чая (не желаете ли добавить молока?) сочинить что-то такое, от чего в жилах стынет кровь. Романтические грезы юных англичанок, немного пригасшие во время учебы в школе и последующего пребывания на континенте ради совершенствования в иностранных языках, должны внушать не меньшие опасения. Прелестная девятнадцатилетняя Мэри Годвин взяла в руки перо (однажды вечером во время грозы, в швейцарском шале на берегу Женевского озера) только затем, чтобы создать наводящую страх историю, мифический герой которой олицетворяет – сегодня более, чем когда-либо, – худшие из пороков науки: историю Франкенштейна.
Одного этого имени, кажется, достаточно, чтобы в небе засверкали молнии, а под сводами мрачного замка зазвучал сардонический хохот гнусного ученого безумца, пока в холодном полумраке вырисовывается нечеткий силуэт безобразного монстра, сыгранного актером Борисом Карловым. Впрочем, ничего удивительного: этот набор образов пришел к нам из кино, преимущественно из «Франкенштейна» Джеймса Уэйла 1931 года, а вовсе не из книги Мэри Годвин Шелли, герой которой Виктор Франкенштейн – молодой талантливый студент, совсем не похожий на безумца, – с большой сноровкой собирает в каморке Ингольштадтского университета (а не в подземелье средневекового замка) части трупов. Но книга Шелли была до такой степени осаждена разнообразными призраками, выпотрошена и лишена содержания, что от нее осталось одно-единственное слово – ее заглавие – и одна-единственная мораль: берегитесь ученых. Такое выхолащивание очень важно для зарождения мифа: лишь тогда, когда исходное произведение превращается в пустую раковину, в нее можно уложить все, что угодно, и парадоксальным образом обеспечить потомков возможностью продолжать это делать. В данном отношении Франкенштейн Мэри Шелли идеален: говоря о нем, никто уже не подразумевает ни ее роман о могуществе науки, ни плод ее фантазии.
Многие из прочитавших роман усомнились: можно ли считать Мэри Шелли его автором? Совершенно очевидно, что к созданию книги приложили руку и ее муж Перси Биш Шелли – мятежный анархист и нищий наследник колоссального достояния, и лорд Байрон – циничный донжуан и проклятый поэт[16]16
Присутствию лорда Байрона в научной мифологии есть целых две причины: он принял участие в рождении Франкенштейна и (куда более прямое) в рождении Ады Лавлейс, своей первой дочери, ставшей помощницей пионера информатики Чарльза Бэбиджа, из-за чего ее именем назван один из языков программирования.
[Закрыть]; но, как мы постараемся показать, написать такое была способна только нежная Мэри. Научная канва сочинения – монстр, сотворенный объединенным могуществом химии и электричества, – по всей видимости, исходит от Перси Шелли. В самом деле, круг его чтения включал, в числе прочего, сочинения Эразма Дарвина (дедушки Чарльза), Вольтера и Дидро; он восхищался работами Хамфри Дэви, научившегося к этому времени получать чистые вещества путем электролиза, а также трудами Фарадея, Эрстеда и Ампера – при помощи удивительных экспериментов они установили связь между электричеством и таинственным магнетизмом, считавшимся тогда основным источником жизни. Ему было известно об опытах итальянца Луиджи Гальвани, который был уверен, что в 1791 году нашел «животное электричество»: производя рассечение лягушки на препарационном столе, где находилась также электростатическая машина, он заметил, что одна из лягушек задрожала от прикосновения скальпеля.
И если для объяснения этого явления, несколько приблизившего к земле теорию Гальвани, потребовалась вся проницательность Вольты, попутно изобретшего электрическую батарею, сам по себе эксперимент навсегда останется символом первых связей, образовавшихся между физикой и биологией. В детские годы Перси Шелли, если верить его биографам, был счастливым обладателем электростатической машины, при помощи которой электризовал своих маленьких кузин, когда они на это соглашались, а со временем добавил в свой арсенал микроскоп, вакуумную помпу и все прочее, что необходимо хорошему химику. Идея заменить труп лягушки расчлененным трупом человека совершенно очевидно пришла в голову Шелли, испытывавшему, как почти любой в начале XIX века, энтузиазм по поводу выдающихся достижений науки. И все же он не мог написать «Франкенштейна».
С мучительным волнением, граничащим с агонией, я собрал необходимые инструменты, способные создать искру, которая оживила бы бесчувственный предмет, лежавший у моих ног. Был час пополуночи; дождь уныло стучал в оконное стекло: свеча почти догорела; и вот при ее неверном свете я увидел, как открылись тусклые желтью глаза; существо начало дышать и судорожно подергиваться[17]17
Цит. по кн.: Мэри Шелли. Франкенштейн, или Современный Прометей / Перевод 3. Александровой. М., 1995.
[Закрыть].
Молодой Виктор Франкенштейн потрудился на славу: части тела подобраны по размеру, волосы черные и блестящие, зубы как жемчужины, но «тем страшнее был контраст этих правильных черт со слезящимися бесцветными глазами, почти неотличимыми по цвету от глазниц, с сухой кожей и узкой прорезью черного рта». Охваченный невыразимым ужасом, Виктор оставляет свое создание на произвол судьбы и на протяжении долгих месяцев ищет забвения в изучении восточной поэзии.
Осиротевший безымянный монстр тоже находит себе познавательное занятие: поселившись в убогом сарае, он через щели в стене изучает жизнь несчастных изгнанников, обитающих в соседней бедной хижине, становится свидетелем их возвышенных чувств и простого человеческого счастья. В конце концов он устраивает им грандиозный пожар (вовсе не для того, чтобы изжарить их и съесть: он питался исключительно желудями)[18]18
Супруги Шелли были убежденными вегетарианцами.
[Закрыть] и отправляется в Швейцарию. Там он вновь встречает Виктора, упрямо отказывающегося повторить опыт и сделать ему невесту, начинает методично мстить за это своему несчастному создателю и, пока тот мечется по Европе, одного за другим уничтожает всех его близких. Истерзанный и отчаявшийся Виктор гибнет во время последней погони на собачьей упряжке во льдах Арктики. И тогда монстр, к которому читатель успевает проникнуться большой симпатией, решает уничтожить себя в огне точно на Северном полюсе – при этом не указывается, где он там находит дрова. Эта замечательная история имеет все признаки пророчества: достаточно заменить в ней мстительную тварь долгоживущими радиоактивными отходами или генетически модифицированными бактериями, экологическое действие которых неизвестно, – и вот вам сегодняшние, не менее грозные чудища.
Однако ни сама Мэри, ни ее муж, ни Байрон не могли представить себе подобных ужасов. Если «Франкенштейн» – пророчество, то совсем иного рода: чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить о судьбе его «создателей», об истории, перипетии которой несравнимо богаче и удивительнее представленных в романе. Убежденный идеалист, Перси Шелли был молодым бунтарем, и его не смогли обуздать ни в Итоне, ни в Оксфорде. За невоздержанность и атеизм его исключили из университета, от него отрекся, лишив его титула, отец; в семнадцать лет он похитил юную Гарриет Вестбрук, на которой женился в Шотландии и которая родила ему ребенка в Ирландии.
Быстро устав от нее, он влюбился (взаимно) в прекрасную Мэри Годвин «с ореховыми глазами», пятнадцатилетнюю дочь одного из своих интеллектуальных наставников – революционного теоретика Уильяма Годвина и знаменитой феминистки Мэри Уоллстонкрафт. Совершив новое похищение в четыре часа пополуночи, он пустился в долгое тяжелое путешествие по Франции (раздираемой войной), Швейцарии, Германии и Голландии с Мэри и ее сестрой Клэр. Мэри потеряла своего первого ребенка, Клэр влюбилась в великого Байрона, обвиняемого в кровосмесительстве, и все четверо отправились искать убежища в Швейцарию. Тем временем жертвами разрушительного обаяния Шелли пали еще одна сестра Мэри, покончившая с собой, и Гарриет, найденная утонувшей. Между тем дьявольское трио продолжало свой поиск утопии со все большим неистовством – от Венеции, где умерла дочь Клэр и Байрона, к Риму, где погиб второй ребенок Мэри, а потом назад в Тоскану, где тело Шелли, выброшенное на берег во время одной из тех непредсказуемых бурь, которыми славится Средиземноморье, было сожжено в присутствии Байрона и Мэри. Эта церемония потрясла не только ее непосредственных участников, но и тех, кому довелось читать о ней в «Беседах с лордом Байроном», написанных очевидцем Томасом Медвином. В авторском экземпляре, хранящемся в Италии, напротив пассажа, описывающего потрясение друзей, когда они следили за полетом кулика, который – словно феникс греческих преданий, кружащийся над телами павших, – описывал круги над костром, какой-то итальянский читатель на полях оставил помету: «Era il demonio!»[19]19
Он был демоном! (ит.).
[Закрыть]
Самоубийства, мертвые дети, побеги, ритуальные сожжения… Мэри предвидела все это в своем удивительном романе, но осуждает она не науку, а социальное равнодушие, подавившее в конце концов футуристическое микросообщество, создать которое она пыталась вместе с Шелли и Байроном. В самом деле, необычайная любовь Мэри и Перси Шелли включала в себя многие поступки, которые непременно осуждались моралью, равно как и «строгий адюльтер» Байрона, последовательно практиковавшийся им в отношениях с итальянскими графинями. Во всяком случае, биографическая интерпретация привлекательна своей простотой: обаятельный и гениальный Виктор Франкенштейн – не кто иной, как сам божественный поэт Шелли; монстр – это дьявольский дуэт, образованный им с Байроном («Когда Байрон говорит, а Шелли не отвечает, – писала Мэри, – это похоже на гром без дождя»), единственный порок которого – желание ввести в социальную практику незрелые революционные теории. Мэри же написала немного романизированную автобиографию под названием «Франкенштейн», правдиво повествующую о чудовищной драме, которую только она была в состоянии предчувствовать и запечатлеть. Вернувшись в Женеву в 1840 году, она отметила в своем дневнике: «С тех пор вся моя жизнь превратилась в ирреальную фантасмагорию. Реальностью были тени, собиравшиеся вокруг этой декорации…» Странная алхимия, превратившая имя «Франкенштейн» в обозначение монстра, а не его создателя, также легко объясняется: эти двое представляют собой одну и ту же личность, что так хорошо понял полвека спустя Стивенсон в своем «Докторе Джекиле и мистере Хайде». Что же до опасного поиска, который привел к гибели Байрона и Шелли, то у него нет сегодня – когда никто почти уже не ценит достоинства поэзии и не доверяет социальным утопиям – другого воплощения, кроме науки, неумолимо движущейся от фантастических успехов к убийственной катастрофе, к полному самоуничтожению.
В относительной дремоте XIX века, благословенной эпохи триумфального сциентизма, Франкенштейн будто случайно покинул свою лабораторию, чтобы выбрать момент между двумя мировыми войнами для вторжения в кинозалы, в то самое время, когда подлинные монстры, порожденные научным прогрессом, только начинали показывать свое истинное лицо… И если химическое оружие стало результатом исследования, имевшего самые человеколюбивые цели, а атомная бомба появилась как продукт бесстрастного изучения строения вещества, то за уродливой маской монстра можно увидеть прелестное лицо юной девушки с ореховыми глазами. Эта навязчивая двойственность красавицы и чудовища, юной девы и оживленного трупа не перестает тревожить наши самые потаенные струны.
Утраченное звено
Миф ненасытен, его аппетиты разнообразны. Не удовлетворенный проглоченными ваннами, яблоками и даже математическими формулами. он иногда начинает питаться пустотой, отсутствием или утратой. Знаменитое звено, все так же отсутствующее сегодня, как и в 1860 году, неизменно продолжает будить страсти.
Дарвин долго – более двадцати лет – колебался, прежде чем решился на публикацию своего труда «Происхождение видов», положившего начало эволюционной теории. Его можно понять: не много было научных теорий, получивших столь значительный резонанс. И если Лаплас не нуждался в гипотезе Бога при создании системы мира, то Дарвин поступил еще лучше (или хуже?), показав бесполезность Создателя. По словам доктора Фрейда, также прославившегося на ниве скандальных теорий, Коперник лишил человека привилегии находиться в центре Вселенной, а Дарвин – привилегии быть объектом специального акта творения. Еще более редки столь тонкие научные теории. Прежде всего речь идет не об одной теории, а о целом комплексе самосогласованных утверждений различной природы: от естественного отбора до градуализма (последовательного постепенного изменения данной популяции) и вывода о наличии единого для всех существующих видов общего предка. В этом комплексе – непомерно объемном – некоторые идеи недвусмысленно вступали в противоречие с общепринятой идеологией. Кроме подчеркнутого отсутствия в «Происхождении видов» Божественного творения, внимание публики не мог не привлечь предполагаемый постепенный переход от орангутанга к человеку (белому!) как «господствующей расе». Эволюционная идея, конечно, уже носилась в воздухе, но подобное смешение жанров и видов казалось абсолютно неприемлемым.
С 1799 года Чарльз Уайт тоже предлагал теорию постепенной эволюции, окрещенную «великой цепью существ», – она позволяла пройти от чайки до человекообразной обезьяны и от «негра» или «американского дикаря» до европейца, только ее никак не удавалось протянуть от обезьяны до человека. Размещение этого последнего среди лишенных души животных казалось одновременно кощунственным и противоречащим самой дорогой для людей XIX века идее – идее прогресса. Такое положение дел быстро подорвало доверие к новым радикальным концепциям, повернув их так, чтобы их слабости проявились наиболее ясно. В самом деле, если эволюция в том смысле, какой ей придал Дарвин, очевидно наблюдаема внутри отдельного вида к другому совсем не так просто. Если человек произошел от обезьяны и если эволюция непрерывна, то где же тогда обезьяны, почти ставшие людьми, и люди, почти не переставшие быть обезьянами? – без конца вопрошали противники Дарвина. И Дарвину приходилось лавировать, признавая, что «отчетливое различие конкретных форм живого и отсутствие бесконечного числа промежуточных звеньев, соединяющих их, представляет собой очевидную сложность».
Он постоянно подчеркивал, что нам известна лишь бесконечно малая часть существующих ископаемых останков, однако этот аргумент ни в коей мере не мог удовлетворить его оппонентов, несмотря на свою справедливость. Сторонники современной синтетической теории эволюции утверждают, что наиболее значительные эволюционные скачки должны появляться в лоне сокращающейся популяции благодаря быстрому эволюционному изменению, что еще больше снижает вероятность обнаружения таких останков. И все же даже в эпоху палеонтологических находок по-прежнему отсутствует звено. соединяющее человека с обезьяной или барана со страусом, а разрывы, которые, казалось бы, должны уменьшаться, заметно увеличились.
Дарвин предположил существование трехпалой лошади, названной гиппарионом, которая могла бы стать вполне подходящим предком нашим лошадям, зеглодона, занимающего промежуточное положение между хищниками и китообразными, археоптерикса, являющегося рептилией в той же мере, что и птицей, но только последний из перечисленных в какой-то мере заинтересовал палеонтологов. По всей видимости, благопристойная непрерывность, предложенная Дарвином, хромала на все свои ноги. Сегодня ее отвергают преимущественно катастрофисты (сторонники эволюционных скачков) и сторонники «прерывистого равновесия» (внезапного изобилия видов, которые затем быстро вымирают), утверждающие, что нет никаких отсутствующих звеньев – напротив, их даже избыток, Какие виды может соединять, например, такое «звено», как утконос? Или гигантский червь Riftia, у которого отсутствует не только рот, но вообще вся пищеварительная система и который содержит свое двухметровое тело на трехкилометровой глубине? А что вы скажете о дюжине поразительных животных (одно из них называется Hallucigenia), обнаруженных в сланцах Бургесса в Британской Колумбии? Заваленные бесчисленным множеством звеньев, палеонтологи соглашаются сегодня, что не существует единой цепи, состоящей из более или менее равных элементов и соединяюей человека с улиткой, а виды размножаются наподобие неровно растущего кустарника. непредсказуемо и вслепую подстригаемого массовыми вымираниями.
Замена единой цепи живых существ – вполне типичной для механицизма конца XIX века – более экологически корректной метафорой разрастающегося кустарника, отнюдь не случайна. В действительности отсутствующее звено служит символом определенной эпохи в истории определенного общества, а именно – викторианской Англии, где совершенно непереносимой казалась мысль, что все благородные лорды. так лелеющие свои генеалогические древа, должны начинать их от тех же самых предков, что дали жизнь ничтожным ворчестерским крестьянам, не заботящимся ни о чем, кроме своих яблонь, а то и вовсе от африканских диккарей, карабкающихся по деревьям. Поиск утраченного звена становился делом чести… с заранее предрешенным исходом. Ведь предок человека, если он существовал. не мог быть никем иным, кроме грубого монстра, напрочь лишенного всех тех душевных тонкостей, которые так нам свойственны. Под поиск общего предка маскировался на самом деле поиск доказательства того, что человек никоим образом не мог произойти от животных. Это звено обречено было остаться недостающим, так как иначе грозила радикальная ревизия очевидного: на верхней ступени лестницы живых существ установлен трон для Homo Sapiens, помещенный туда (не очень понятно как) Богом, не перестающим с тех пор кусать себе локти.
Но вся эта лестница чуть было не рухнула в 1912 году, когда двое палеонтологов. Чарльз Доусон и Пьер Тейяр де Шарден, обнаружили в одном карьере графства Сассекс, в Пилтдауне, череп и челюсть, имевшие весьма обезьяний вид. К счастью, череп (человеческий) датировался Средними веками, а челюсть с заботливо подпиленными зубами была позаимствована у орангутанга. А вот еще один случай фальсификации: удивительный целакант, выловленный у берегов Коморских островов в 1938 году, с лапами-ластами и внутренними ноздрями, тут же возродил старый миф. По удачному совпадению, пока еще живущее ископаемое (вряд ли надолго – их осталось не более двух сотен) снова оказалось тупиковой эволюционной ветвью. Но миф об утерянном звене тем не менее продолжает жить, и каждое открытие какого-нибудь неизвестного зуба, жвалы или присущей гоминидам коленной чашечки оживляет споры по исходному вопросу: новое ископаемое – это прямой предок или побочная ветвь нашего генеалогического древа?
В конце концов, настоящие утерянные звенья находятся, по всей видимости, исключительно в художественной литературе: в романе «Затерянный мир» Конан Дойла, в повести «Остров доктора Моро» Герберта Уэллса или в истории доктора Джекила Роберта Стивенсона. Покинув сферу науки, недостающее звено превратилось в ценный драматический инструмент – при замене поисков начала на поиски виновного. А один из историков утраченного звена британец Джилиен Бир даже намекает, что, возможно, именно оно дало жизнь жанру полицейсокго романа. Ну а что же миф? Вы не там его ищете, отвечают антиэволюционисты, изо всех сил обеспечивающие ему процветание, утверждая, что сама теория эволюции мифологична. Автсралийский генетик Майкл Дентон писал:
Можно было бы предположить, что столь капитальная теория – теория, в буквальном смысле слова изменившая мир, окажется чем-то большим, чем простые метафизические спекуляции <…> Но в конечном итоге дарвиновская теория эволюции не больше и не меньше чем величайший космологический миф XX века.
Любопытное замечание в устах генетика. Уж ему-то следовало бы знать, что величайшим космологическим мифом конца XX века стала… генетика. Только от звена мы теперь перешли к длинной цепи аминокислотных оснований генома, свернутой в сердце каждой нашей клеточки; порядок этих оснований в цепи, как нам говорят, таит в себе все секреты живого. И все же, не в обиду истово верящим во всесилие ДНК микробиологам будь сказано, идея, что расшифровка последовательности человеческого генома, его раскодирование ген за геном (звено за звеном?) раскроет нам все, что мы хотим знать о своем происхождении, столь же наивна, как и гипотеза Чарльза Уайта. Во всяком случае, ее, похоже, постигла та же участь, поскольку она уже используется в качестве драматического инструмента – причем не без успеха, как можно судить по фильму «Парк юрского периода». Заметим, однако, что его автор Майкл Кричтон предпочел воскрешать динозавров, а вовсе не нашего прямого дедушку австралопитека и его дульсинею Люси. Конечно, скрепя сердце большинство из нас признают свою связь с миром животных, но наше общее нежелание представить себе «Парк эпохи плиоцена», населенного гоминидами, доказывает, что проблема утраченного звена еще далека от разрешения.