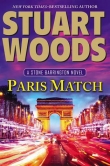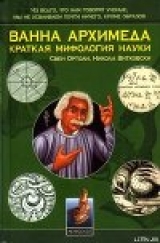
Текст книги "Ванна Архимеда: Краткая мифология науки"
Автор книги: Свен Ортоли
Соавторы: Никола Витковски
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Таблица Менделеева
Химия – кухня. Всякий школьник вам это скажет и добавит, что в конце надо обязательно помыть посуду. Если данное суждение и несколько устарело (отчасти и потому, что теперь любая лаборатория экипирована посудомоечной машиной), оно точно соответствует действительности середины XIX века, когда книги по химии содержали больше рецептов, чем формул, когда количество типов химических соединений необузданно преумножалось, а «атомисты» скрещивали сталь и прочие металлы с «эквиваленистами». А потом один молодой химик из университета далекого Санкт-Петербурга пришел к чудной идее расположить все известные химии к 1869 году простые тела в порядке возрастания атомного веса, пронумеровав их в первой строчке до 7, во второй – до 14, в третьей – до 21 и т. д.
Как ни странно, элементы, оказавшиеся в одной колонке, обнаруживали, за редкими исключениями, схожие химические свойства: Дмитрий Менделеев – так звали химика – не имел ни малейшего представления, почему простейшие химические вещества природы расположились в таблице, устроенной с поистине библейской простотой – более того, с числом 7 в основании, – что со временем превратится в удобное мнемоническое правило для студентов. Находка симпатичная, но не достаточная, чтобы взволновать коллег, которые очень холодно восприняли его таблицу. В ней не хватает одной ячейки, точнее – даже многих, не преминули они подметить, а с этим было не поспорить. Упрямый и твердо уверенный в своей интуиции, Менделеев вставил в ячейки три гипотетических элемента, которые на протяжении десятка лет вызывали ехидные ухмылки… пока в 1879 году не открыли скандий, чудесным образом занявший место в одной из них. Потом, еще через семнадцать лет, галлий и германий заняли две оставшиеся ячейки, и ученым насмешникам пришлось примолкнуть. Но и на этом дело не кончилось: в начале XX века инертные газы (гелий, неон, аргон и т. п.) выстроились в восьмой колонке, не предвиденной Менделеевым, но совершенно естественно вписавшейся в таблицу.
На Дмитрия Ивановича стали теперь смотреть как на пророка, чему способствовали его длинная борода и спадающие на плечи волосы (которые он стриг раз в год). За одну ночь его таблица превратилась в архетипический пример блистательного интуитивного открытия, на много десятилетий опередившего свое время.
В химии царил полный хаос, элементы беспорядочно нагромождались друг на друга – и вот неприметный русский химик, ничего не имевший за душой и находившийся вдалеке от основных интеллектуальных течений, схватил свое лучшее гусиное перо и, внезапно осененный благодатью, на скорую руку набросал на клочке бумаги простую таблицу. Дерзкий и трудолюбивый экспериментатор, гнущий спину над пробирками, взял и обошел великих теоретиков, пока те что-то вещали со своих кафедр. Ободряющий пример для тех, кто считает, что, взявшись за работу, надо закатать рукава.
Что и говорить, тот же эмпирический дух не раз подводил несчастных предшественников Менделеева – Джона Ньюландса например, который объявил четырьмя годами раньше о совершенно пифагорейском «законе октав»: по нему выходило, что химические свойства элементов повторяются, словно тоны в музыкальной гамме; или Алекса Шанкуртуа, предложившего расклассифицировать элементы (а также некоторые сложные молекулы) на «теллурическом винте», очень хитро устроенном. Менделеев же не теоретизировал, он заметил периодичность и исследовал все ее проявления. «Законы природы не терпят исключений, – писал он. – Этим-то они и отличаются от законов грамматики». На основании неколебимой убежденности покоится также и его вера в то, что природа не играет в игры и если уж раскрывает свои секреты, то раскрывает их целиком. Дмитрий Иванович не признавал разного рода выкрутасов: он верил в атомы, что в его время не было чем-то особенным, верил в простоту законов природы, и эта вера сыграла с ним однажды злую шутку.
Таинственную периодичность, открытую Менделеевым, удастся объяснить только через много лет, когда квантовая физика свяжет химическое поведение атомов с количеством электронов, распределенных между различными концентрическими «оболочками» в соответствии с законом (так называемым «правилом октета»), в котором число 8 играет существенную роль. Догадавшись в 1869 году до чего-то, что станет понятным только в 1920-е, Дмитрий Менделеев не мог не прославиться. Но совсем недавно историк науки Бернадетта Бансод-Венсан показала, что он определенно был очень странным пророком.
Открытие радиоактивности Пьером и Марией Кюри, которых Менделеев посетил в 1902 году, вывело его из себя. Он отказывался поверить в существование излучения, о котором ему говорили, и решительно противился идее трансмутации: «его» атомы были вечными, навсегда запертыми в клетках «его» таблицы, они не смогли бы обнаружить столь фантастическое поведение. И тогда он предложил свою теорию радиоактивности, столь же хитроумную, сколь бредовую, предполагавшую участие эфира (гипотетической невесомой жидкости, которую Эйнштейн несколькими годами позже навсегда отправил в утиль), притягиваемого тяжелыми атомами. И чтобы спасти свою таблицу от радиоактивной опасности, Менделеев включил в нее и эфир, поместив его в колонку с инертными газами, поскольку он не участвует ни в каких химических реакциях, но без массы, поскольку он невесом, а это, как ни крути, весьма смущает.
Подобную великолепную чушь обычно списывают на счет угасания великого ума, и она не остается в истории. Но как бы это ни расстраивало пророка от химии, законы природы по меньшей мере так же сложны, как законы грамматики. Изотопы («то же место» по-гречески), радиоактивны они или нет, объявились, чтобы занять те же ячейки таблицы Менделеева, что и стабильные атомы, вопреки воле ее создателя, который в них видел невозможное несовершенство природной грамматики. Отсюда следует, что можно быть одновременно пророком и ретроградом, и Менделеев, хотя действительно послужил проводником гениальной интуиции, был тем не менее ученым с ограниченным позитивистским мышлением. Но на этом нам лучше остановиться: смесь гениальности и упрямства, предвидения и ограниченности в конце концов покажет – бросая тень и на саму таблицу, – что великие ученые такие же люди, как и все остальные, и что досадная ловушка, в которую попал Менделеев, подстерегает любого классификатора. Когда Вселенная помещается в таблицу, хорошо, если все найдет в ней свое место.
Любимая женщина Альфреда Нобеля
Нобелевская премия, немыслимым счастьем обрушивающаяся на нескольких избранников каждую осень и сопровождаемая сложнейшей церемонией внесения их имен в вечные скрижали знания, – уже сама по себе миф. Какой исследователь. даже самый скромный, не мечтает о ней – эдаком маршальском жезле, получаемом из рук шведского короля в Большом концертном зале Стокгольма вместе с правом на по меньшей мере пять публичных выступлений и чеком на сумму около миллиона долларов?[25]25
Церемония вручения премии даже стала объектом специального социологического исследования. Характерно, что сами лауреаты ежегодно пародируют ее, вручая Игнобельскую премию (пишется Ig Noble с намеком на английское ignoble – низкий, подлый) за самые бредовые или нечистоплотные с точки зрения научной этики научные работы. (По-русски ее часто называют Шнобелевской премией. См.: Абрахамс М. Шнобелевские премии. М.: АСТ, 1006. Прим. перев.)
[Закрыть] Премированного специалиста по физике элементарных частиц или генетике вирусов пред камерами всех ведущих телекомпаний мира будут спрашивать, что он думает об эволюции общества, о долгах стран третьего мира или о судьбе демократии… если он еще не потерял голову от избытка чувств. Как и астронавтов, так никогда и не оправившихся после прогулок по Луне, или обладателей крупных выигрышей в лото, неспособных свыкнуться с мыслью о внезапной удаче, так и избранников Нобелевского комитета на вершине их научной славы случается увидеть погруженными в трансцендентальную медитацию.
Главное отличие Нобелевской премии от всех прочих в том, что она наиболее щедро дотируема. В самом начале ее существования, в 1901 году, предполагалось, что она составит примерно 200 тысяч франков, но благодаря умелым действиям управляющих Нобелевским фондом премия достигла своего нынешнего уровня. Далее, неподкупность жюри, связываемая также с политической нейтральностью Швеции, считается – справедливо или нет – вне подозрений. Наконец, ежегодное избрание чемпионов мысли замечательно тем, что уже само по себе служит свидетельством безостановочного прогресса в познании и магическим образом соединяет два понятия, бычно несовместимые: исследовательский труд и деньги. Не случайно с момента своего возникновения Нобелевские премии вызывали повышенный интерес к себе со стороны прессы, особенно во Франции – стране Почетного легиона и школьных наград для отличников.
Если же говорить о двойственности, без которой не смог бы существовать никакой миф, то здесь она особенно отчетлива: Альфред Нобель на протяжении некоторого времени имел репутацию безумца (особенно когда в 1864 году взорвался его шведский завод), а потом стал отшельником, пацифистом и гуманистом. В основном именно «динамитные» деньги идут в награду тем, кто потрудился, по словам завещания, «ради наивысшего блага человечества». То, что на Нобелевскую премию мира идут проценты с прибылей транснационального концерна, специализирующегося на торговле оружием. сегодня кажется удивительным, однако прекрасно укладывается в рамки философии прогресса времен Belle Époque. «Я хотел бы изобрести, – писал Альфред Нобель, – оружие или взрывчатое вещество, обладающее такой разрушительной силой, чтобы никакое правительство не решилось его использовать». Милая наивность в духе fin-de-siècle[26]26
Конец века (фр.).
[Закрыть], придающая премии изысканный оттенок утопизма – конечно, старомодного, но до чего же трогательного!
Другой миф, еще более стойкий, связан с личностью Альфреда Нобеля. На премию за достижения в науке могут рассчитывать физики, химики, биологи и экономисты, но никак не математики, которым приходится довольствоваться (да и то только с 1936 года) медалью Филдса, вручаемой раз в четыре года и сопровождаемой гораздо меньшим денежным вознаграждением. Тайная причина такой забывчивости – не секрет, и о ней нередко рассказывают с изрядной долей иронии. «В то время, – можно, например, прочитать в одном из недавних номеров журнала Sciences frontières, – главным претендентом на награду, будь она создана, был бы блистательный шведский математик Миттаг-Леффлер, не кто иной, как любовник мадам Нобель». Вопрос о том, предпочитала ли мадам Нобель математические уравнения химическим формулам, оказался настолько важным, что чуть ли не весь мир включился в его обсуждение в Интернете под рубрикой FAQ (часто задаваемых вопросов). В самом начале дискуссии выяснилось обстоятельство, которое должно было бы стать ее финалом: Альфред Нобель никогда не был женат, так что госпожи Нобель никогда не существовало. Занавес.
Но может быть, у него была дама сердца? Образ миллиардера-гуманиста, живущего отшельником, настолько невероятен, что необоримо желание, как говорят англосаксы, chercher la femme[27]27
Искать женщину (фр.).
[Закрыть]. Известно об одном (коротком) парижском любовном приключении Нобеля, когда ему было восемнадцать лет, о его платонической любви к Берте Кински (Нобелевская премия мира 1905 года) и о более поздней связи с венской флористкой Софией Гесс, скрасившей его сорокалетие и, кажется, дорого ему стоившей. Однако биографы Нобеля никак не поймут, как тут мог возникнуть любовный треугольник: Альфред в то время жил в Париже, а Геста Миттаг-Леффлер вел весьма бурную жизнь в Стокгольме. Дело в том, что наш математик – и в этом, вероятно, ключ загадки – вовсе не был образцом скромности и сдержанности. Амбициозный, любящий светские развлечения и интриги, он умело комбинировал дифференциальные уравнения и связи с общественностью. Эта его особенность выразилась и в том, что созданный им журнал Acta Mathematica стал самым престижным математическим журналом того времени, а сам он получил место ректора нового университета – стокгольмской Хёгсколы. Но главное – нет никаких оснований считать его крупнейшим математиком на тот момент. Анри Пуанкаре, присуждения Нобелевской премии которому он тщетно добивался в 1910 году, был ученым значительно более крупного масштаба.
Миттаг-Леффлер, правда, пошел на деликатные переговоры с Нобелем, когда тот составлял свое завещание, дабы Хёгскола приобщилась к его щедротам, принимая участие в присуждении премий. Переговоры кончились полным провалом. По словам одного видного члена университета, это было «нобелевское фиаско». Но сам Миттаг-Леффлер, если когда-то покушался на цветочки Софии Гесс, ни за что бы не стал предпринимать какие-либо шаги в этом направлении. Элизабет Кроуфорд, рассказывая об истории Нобелевских премий, пишет на сей счет:
Даже если Миттаг-Леффлер и был раздосадован отсутствием премии по математике, равно как и исключением Хёгсколы из последнего завещания Нобеля, он никогда не показывал этого публично. Возможно, он лично получил бы некоторую моральную компенсацию, придав огласке историю соперничества между ним и Нобелем (который был на пятнадцать лет его старше): в состязании за сердце женщины, на которое оба претендовали, Нобель, дескать, проиграл.
Последнее из обсуждавшихся в Интернете положений, квалифицированное как «психологический элемент», показывает, что даже сегодня величие души Нобеля пользуется почтением: как мог Нобель, составляя свое завещание и будучи озабочен исключительно благом всего человечества, позволить личным мотивам вмешаться в его идеалистические планы? Психологи, наверное, найдут ответ, но от этого ни Миттаг-Леффлер, ни София Гесс не получат своей доли наследства. К сожалению любителей анекдотов, отсутствие Нобелевской премии для математиков имеет, несомненно, гораздо более простое объяснение. Альфред Нобель был инженером в духе незамутненных традиций XIX века, больше интересующимся экспериментом, чем теорией. По его убеждению, отмеченные наградой «изобретения и открытия» должны быть непосредственно полезны для всех. Среди первых лауреатов по физике был шведский инженер Густав Дален, награжденный «за изобретение автоматических регуляторов, использующихся в сочетании с газовыми аккумуляторами для источников света на маяках и буях».
Даже Эйнштейн получил премию случайно, за свою теорию фотоэффекта, а вовсе не за теорию относительности, сочтенную «не имеющей пока достаточного значения, чтобы приносить большую пользу человечеству». Да и Пуанкаре, номинированный на премию по физике 1910 года, оказался соперником братьев Райт, пионеров авиации[28]28
Братья Райт также не получили премию. Лауреатом 1910 г. стал Ван-дер-Ваальс.
[Закрыть]. Тут нет ничего парадоксального: Нобелевская премия создавалась изобретателем для изобретателей, и математике было суждено оказаться исключенной как nec plus ultra[29]29
Высший предел (лат.).
[Закрыть] абстрактной мысли… Так что история о несчастной любви Нобеля представляется выдумкой от начала и до конца – возможно, как реакция против того сугубо мужского мира, каковой олицетворяется Нобелевским комитетом, распределяющим премии. Но хотя совсем немного женщин смогли получить премию и хотя София Гесс не получила совсем ничего, тех, кто все же косвенным образом выиграл, гораздо больше, чем кажется[30]30
Вряд ли можно осмелиться упомянуть здесь необыкновенный банк спермы, учрежденный американским миллиардером Робертом Грэмом. Все его доноры – гениальные ученые, и клиенты банка могут даже выбрать себе «нобелевского» младенца, поскольку три представителя этого славного сообщества, среди которых Уильям Шокли, лауреат 1956 года (за изобретение транзистора), пожелали принять в нем участие. «Это очень помогло моей рекламной кампании, – признался Грэм, – но сейчас все они очень стары. Женщины их больше не хотят».
[Закрыть]. Эйнштейн полностью отдал премию своей бывшей жене Милеве, а Роберт Лукас, лауреат по экономике 1995 года, был вынужден уступить половину суммы своей жене Рите. Эта последняя в момент развода за семь лет до того добилась, чтобы в бракоразводный контракт была вставлена фраза: «Супруга получает 50 % от Нобелевской премии при условии, что Роберт Е. Лукас получит ее до 31 октября 1995 года». Радостная весть пришла за пятнадцать дней до истечения этого срока, и Роберт Лукас, делая хорошую мину, произнес слова, которые, наверное, понравились бы промышленному магнату Альфреду Нобелю: «Рынок есть рынок».
E=mc2
На противоположных полюсах воображаемого мира науки находятся крик «Эврика!» и формула E=mc2. Первый символизирует способности тела, явленные через собственное тело Архимеда, покрытое капельками воды; вторая же – способности духа. Ведь если Архимед мог переживать законы природы физически, то Эйнштейн есть – и в этом его сущность – чистый дух. Свой мозг он завешал медицинской науке, в то время как его прах в присутствии лишь самых близких ему людей был развеян по ветру. Дабы избегнуть скучных рассуждений о вместилище мысли и об иных внутренних органах ученых, равно как и о плавучести Архимеда, слепоте Галилея или о головных болях Ньютона, посчитаем достаточным признать, что человек-мозг – это старый миф, который удалось воплотить (?) в совершенстве Стивену Хокингу, скрюченному в инвалидном кресле-каталке символу легенды о притягательности великих умов: он развелся, чтобы жениться на своей бывшей сиделке. Согласно другому мифу, менее признанному, чистая мысль достижима лишь через небрежение телом, тело же должно нести на себе следы мысли. Разбирая один за одним все нейроны великого Альберта, как когда-то анализировали сетчатку Джона Дальтона (отсюда «дальтонизм»), надеются найти какую-то недостаточность или аномалию в нейронах, вроде отсутствия чувствительных к зеленому свету клеток в глазу Дальтона.
Это бесконечная и смехотворная деятельность, с привлечением сканеров и электронных микроскопов, стала заключительным аккордом в длинной серии подозрений и испытаний, которым подвергался Эйнштейн. Во время Первой мировой войны некоторые жаждущие реванша и враждебные к евреям французы неустанно подчеркивали его германо-иудейское происхождение; потом циничные наблюдатели говорили о снобизме, а терзаемые завистью ученые обвиняли теорию относительности в том, что она – чистая игра ума… пока не накопилось множество подтверждающих ее экспериментов. Тогда из Эйнштейна вознамерились сделать отца атомной бомбы – очевидно, за неспособностью быть отцом собственных детей, подло брошенных на произвол судьбы. Наконец, «искали женщину» – и нашли его первую любовь Милеву Марич, которой попытались приписать материнство теории относительности. Последний по счету эпизод связан с пущенным по салонам слухом, что Эйнштейн якобы был сумасшедшим, – это все объясняло, и мир смог вздохнуть с облегчением.
Почему же столько ненависти к нашему славному Альберту, не носившему носков, сторонившемуся светской жизни и превыше всего ставившему удовольствие покурить трубку в уголке у камина? Потому, что он посмел усомниться в очевидном. отказаться от самых надежных истин, укорененных в сознании обывателя, передававшихся от поколения к поколению так же исправно, как генетическая информация, истин, на которых зиждилась святая святых рациональной мысли. Взбаламутив материю и энергию, перемешав время с пространством, он подготовил все необходимое для подпиливания сука, на котором покоится (еле держится?) наше душевное здоровье. Если время не будет больше тем, чем было раньше, что же станет с нами? После этого Эйнштейн становится в обыденном подсознании врагом номер один, подлежащим уничтожению любой ценой. Он либо более злокознен, чем хочет казаться (настоящий Фауст-самозванец!), либо прибыл к нам с другой планеты (а его E=mc2 звучит словно четыре ноты из «Контактов третьего типа»), либо безумец, коего удалось запереть до конца дней в Принстонском университете. В любом случае его необходимо было мистифицировать от головы до пят, включая его язык (высунутый), его мозг (расчлененный) и его формулу (магическую).
От Агу!=mc2 к E=M6 через E=C-17 (голубые джинсы) и HP=Mc2 (предложения занятости)[31]31
Приведены цитаты из французской рекламы. M6 – музыкально-развлекательный телеканал, C-17 – американский военный самолет, базирующийся на авианосцах, HP – компьютерная фирма Hewlett-Packard, Mc2 – специализированное программное обеспечение. (Прим. перев.)
[Закрыть] не счесть примеров славы знаменитой формулы, выражающей эквивалентность энергии и массы. Ролан Барт в «Мозге Эйнштейна» обнаруживает в ней архетип откровения:
Историческая формула E=mc2 своей неожиданной простотой являет почти чистую идею ключа, голого, линейного, выполненного из цельного куска металла, с совершенно магической простотой открывающего дверь, в которую ломились на протяжении веков[32]32
В другом месте в «Мифологиях» Ролан Барт показывает, каков механизм мифологизации формулы E=mc2: «Если смысл обладает такой полнотой, что мифу в него не проникнуть, то миф переворачивает и проглатывает его целиком. Именно так происходит с математическим языком. Сам по себе он не поддается деформации, будучи, сколько возможно, защищен от толкований: никакое паразитное значение в него не просочится. Именно поэтому математическую формулу (E=mc2) и превращает ее неизменяемый смысл в чистое обозначение математичности. Мы видим, что в этом случае миф похищает самое сопротивляемость и чистоту».
[Закрыть].
Однако успех формулы не был немедленным. Уравнение долгое время скрывалось в тени фразы «все относительно», вполне подходящей и намного более доступной для здравого смысла, и стало по-настоящему знаменитым только после того, как обнаружилась его подлинная мощь, а именно – его связь с бомбой, не зависящая от факта, что ни оно само, ни его автор никоим образом не причастны к ее созданию. Толчком к построению бомбы послужили открытие радиоактивности и выяснение структуры атома, а вовсе не теория относительности. Но нужно же было подобрать атомному апокалипсису соразмерную формулу и какого-нибудь падшего архангела на роль покровителя. Кастинг прошел быстро: по масштабу один Эйнштейнгодился на эту роль.
«Неожиданная простота» формулы явственно удвоилась эстетической привлекательностью. Хотя в целом уравнения кажутся отвратительными, отрицать изящество некоторых из них никто не станет. Да простит нас Ньютон, но в его f=Gmm'/r2 привлекательности не много; U=RI уже лучше, только отдает паленым, а P=mg несколько тяжеловато[33]33
f=Gmm'/r2 – формула закона всемирного тяготения; U=RI – закон Ома, связывающий напряжение, силу тока и сопротивление; P=mg – определение силы тяжести через ускорение свободного падения. (Прим. перев.)
[Закрыть]. От Эйнштейна вполне бы сгодилась Rik=0, прославляя одновременно и общую относительность, единодушно признанную самой красивой из физических теорий, да только тензор кривизны не поддается осмыслению непосвященных. А что такое масса и энергия, все на свете знают, или думают, что знают. E=mc2… Вот уравнение, источающее свет, и даже свет в квадрате! Не важно, что оно значит. Наверное E может быть энергией, излучаемой Солнцем, когда оно теряет массу m в ходе ядерной реакции, заставляющей его сиять, или энергией, выделенной в результате взрыва атомной бомбы, когда делящийся уран теряет свою массу. По правде говоря, лучше забыть это все и созерцать E=mc2 как нечто в конечном итоге непостижимое. Важно лишь, что некое человеческое существо смогло получить доступ к подобному секрету.
Гипотеза об откровении несомненно интересна, но она в равной мере приложима к Ньютону или Леонардо да Винчи. Американский историк науки Джеральд Холтон, крупный специалист по Эйнштейну, предложил другую, менее общую. Из нее следует, что мысль Эйнштейна, гений которого состоял в умении обнаруживать ассимметрию в физических законах, разрешать парадоксы и объединять полярные противоположности, абсолютно неотделима от его личности, до крайности парадоксальной: он был одновременно мудрым старцем и озорным мальчишкой, общественным деятелем и отшельником, рационалистом и человеком, полагающимся на свою интуицию, атеистом и верующим. Он так и просится на роль эмблемы игры в мистификации, а любая его личина немедленно вызывает в уме другую, противоположную. С другой стороны, говорит нам Холтон, «его стиль жизни был скалькирован с законов природы». В самом деле, если Гийом (Уильям) Оккам (1285–1349) прославился благодаря своей бритве («не следует использовать больше сущностей. если можно обойтись их меньшим количеством»), то Эйнштейн ею брился: «Я бреюсь с мылом. Два мыла – это слишком сложно». В конце концов, Эйнштейн ничего не открывал, правильнее сказать – он не мог удержаться от открытий. Он был настолько естествен, что стоило ему погрузиться в себя, как природа раскрывала свои законы, методы и секреты, а старые полярности размывались, хотя мы могли бы с полным правом счесть их вечными: пространство и время оказывались чем-то единым, материя и энергия тоже. И тогда E=mc2 оборачивается не чем иным, как математическим выражением личности, концентратом Эйнштейна (Eйнштейн=mc2, и это выглядит правдоподобно, особенно если вспомнить, что у маленького Альберта довольно долго были проблемы с речью. Он заговорил очень поздно и всю жизнь потом испытывал трудности при выражении своих мыслей. По предположению самого Эйнштейна, этим, возможно, объясняется его талант к манипулированию понятиями, к игре с идеями и мысленными образами, к способности удивлять – бессознательно и не пытаясь их формулировать – новыми связями между ними. После своей E=mc2, необыкновенно эффективной, но непонятной, Эйнштейн предлагает поразмыслить над последней формулой: то, что хорошо задумано, не может быть выражено вовсе.