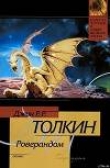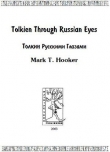Текст книги "Тайное Пламя. Духовные взгляды Толкина"
Автор книги: Стрэтфорд Колдекот
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
В рамки этой традиции общественной мысли прекрасно вписывается Шир. С его сельскохозяйственным, вполне самодостаточным укладом жизни он отрезан от прочего мира и очень тому рад. Во времена Толкина такой уклад практически вымер – его уничтожили новые виды транспорта и средств сообщения. Для подобного образа жизни, основанного на местной традиции, Честертон некогда подобрал крылатое определение «демократия мертвых» [124]. Это – традиция, созданная нашими предками, а не случайными прохожими. Что еще важнее, она основывается на уважении к природе и окружающей среде; мы же, жертвуя всем, что есть, ради экономического роста, эти качества утратили.
ТЕНЬ КОРОЛЯ АРТУРА
Когда израильтяне впервые потребовали царя, Самуил недвусмысленно объяснил им, что их ждет:
Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами: сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его… и поля ваши и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим… от мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами; и восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не будет Господь отвечать вам тогда (1 Цар 8:11–18).
Господь сказал Самуилу: «Они… отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними» (1 Цар 8:7).
Вероятно, королевская власть – источник нашей самой влиятельной политической мифологии. Израильтян так и не удалось отговорить от решения иметь царя «как у прочих народов». Мы видим, что все пророчества Самуила сбылись. Однако Господь даже зло обращает в добро, и в царе Давиде, всего лишь поколение спустя, Он явил истинного героя – царя–пророка, поэта и освободителя. Но Давид, строитель великого Иерусалима, – и великий грешник. Честь возвести храм Господень дарована его сыну Соломону, чье имя стало синонимом мудрости, а великолепие вошло в легенду. «И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры, по их множеству, сделал равноценными с сикоморами, растущими на низких местах» (3 Цар 10–27). Но Соломон тоже пал, еще ниже своего отца, окружив себя сотнями чужестранок и склонившись к иным богам – Господь поднял против него его недругов.
Каждый великий король черпает – или хотя бы пытается черпать – из мистической силы, накопленной его предшественниками. Мы видим это на примере Цезарей, равно как и тех, кто пытался им подражать. Это и Карл Великий, и Наполеон, и Гитлер; цари, короли и князья любой страны и любого края. В Англии наглядная тому иллюстрация – легенды об Артуре и хроники Альфреда. Мы видим, как Вильгельм Завоеватель, Ричард Львиное Сердце, Генрих VIII и Елизавета I более или менее успешно претендуют на ту же мантию. Злоупотребления королевской властью стали притчей во языцех; однако сам институт существует и теперь в некоторых странах. Американцы не всегда могут понять, в чем его притягательность, разве что в романтическом ореоле, вроде того, который окружает кумиров типа Элвиса Пресли или звезд политической «мыльной оперы» вроде клана Кеннеди.
Соответствуя происхождению нации, архетип американского героя – индивидуалист–одиночка в рамках системы или в дикой глуши. Даже сиюминутные герои телеэкрана подпитываются этой мистической силой. Есть королевская семья, но это подкрепляет принцип, согласно которому столпы общества – семейство и род, а не отдельный человек.
«Баллада о белой лошади» Честертона, хорошо известная Толкину, посвящена прежде всего романтизированной королевской власти в те далекие времена, когда король мог быть и героем. Такой король – не индивидуалист–одиночка, но представитель и хранитель государства и народа, в силу королевской крови или по божественному волеизъявлению (как Саул и Давид). Тем не менее герой, даже будучи королем, всегда – больше, чем номинальный глава или подставное лицо. Сила архетипа берет свое, когда королю удается совместить обладание главными добродетелями с возможностью решительно действовать в поворотный момент истории. Тогда архетип приходит на помощь личности, а личность – архетипу. Король вполне достоин почестей, ему воздаваемых. Он может стать для нас живым символом не только тех объединяющих начал, что сводят нас вместе в обществе, но и того, чем каждый из нас надеется стать в своем кругу.
У каждой нации есть легенда или корпус легенд, помогающий определить и увековечить ощущение самобытности и предназначения. Для Честертона, который в таких случаях мыслил в унисон с Толкином, национальное самосознание рождается из взаимодействия легенды и ландшафта. Страны обретают красоту через любовь; именно ее силой они преображаются в воображении тех, кто живет там и умирает. Коренные жители становятся частью ландшафта – и частью легенды. Могилы и памятники не стоят заброшенными, а святилище в конце паломничества – место встречи земли и неба, освящающее всю страну.
Для таких романтиков, как Честертон и Толкин, воображение – орган восприятия, а не просто вымысла. Миф оказывается единственным способом выражения определенных истин. Но воображение может распространять и ложь, и неверные представления. Толкин пишет о том, как Гитлер отравил воображение всей Европы: «Не он ли уничтожает, извращает, растрачивает и обрекает на вечное проклятие этот благородный северный дух, высший из даров Европе, – дух, который я всегда любил всем сердцем и тщился представить в истинном его свете» (L 45). Темная сторона воображения обеспечивает иррациональную основу для всякой неправды и жестокости. В падшем и совращенном мире наше воображение отчаянно нуждается в исцелении. Возможно, оно по–прежнему – орган восприятия, но свет нисходит в душу лишь через ее нравственные органы.
Национальная легенда Англии оформилась во времена высокого Средневековья благодаря Гальфриду Монмутскому, Роберу де Борону, цистерцианцам, Мэлори и целому сонму менее значимых сказителей. Весь корпус артуровских преданий основан на обрывочных исторических сведениях о великом вожде, защищавшем останки Империи от варваров, после того как покровительство Рима утратило силу. Королевство Логрия, безусловно, больше, чем часть (или даже целое) того, что мы называем Британией. Это наше внутреннее королевство. Едва блеснув на сцене истории, оно рухнуло; а погубили его наша греховность и слабость. Однако оно не исчезло, а отступило в вымышленную Британию, точно так же, как и сам Артур не погиб от руки Мордреда, но был переправлен на остров Авалон [125].
Авалон нередко отождествляют с Гластонберийским Тором, а в некоторых легендах Тор связывают с посещением Иосифа Аримафейского, хранителя Святого Грааля. Благодаря чаше и цветущему посоху Иосиф символически связан с двумя другими библейскими Иосифами, из Ветхого и Нового Заветов. Таким образом, национальная легенда Англии – насквозь «христианская» (Толкину эта аллегория казалась чересчур очевидной). Исконная миссия Артура в том, чтобы подготовить Англию к восприятию Крови Христовой, символом чего и выступает Грааль, а цветущий посох – это следствие. (В фильме «Экскалибур» земля в буквальном смысле расцветает под копытами Артуровых всадников.)
История Артура, как и все христианские мифы, согласуется со своим высшим архетипом – повестью о Христе, которая вобрала в себя и миф, и историю. Христос призвал к себе двенадцать апостолов; Артур собрал вокруг себя своих рыцарей. Логос умер на кресте прежде, чем Его королевство могло утвердиться на земле; бытие Логрии оборвалось на поле крови и предательства. Но вечная надежда на исцеление и воскрешение живет в Граале, в евхаристии, и они всегда откроются взыскующему. И как грядет второе пришествие Христа, так и Артур в один прекрасный день возродит королевство Логрия.
МИФЫ ПРЕОБРАЖЕННЫЕ
После того, как вышел «Властелин Колец», Толкин все больше и больше терзался сомнениями. Ему то и дело приходилось объяснять непонятные места многочисленным поклонникам, и, делая это, он пытался согласовать подробности, оставленные непроясненными в опубликованных книгах. Как пишет Кристофер Толкин, к концу 1950–х годов, вернувшись к рукописям Сильмариллиона, автор осознал, что теперь представление «материала» должно «удовлетворять требованиям связной богословской и метафизической системы, еще более усложнившейся из–за предположений о неясностях и противоречиях в ее основах и предании» (в данном приложении я использую цитаты из книги «Кольцо Моргота», раздел «Мифы преображенные»).
Скажем, уважение к астрономии побудило автора усомниться в своей мифологической концепции, согласно которой плоская земля становится круглой после Падения Нуменора и густо населена до возникновения солнца. Теперь Толкину казалось, что Высокие эльдар Валинора, от которых эти предания унаследованы, не знали «истинный», научный взгляд на возникновение солнечной системы, даже если позже в легендах возникла путаница – по вине переписчиков и сказителей, эльфов и людей. Но главное – Толкин чувствовал, что нельзя «выдумывать [нелепые с астрономической точки зрения] истории такого рода» в мире, где все верят, что мы живем на сферическом острове в космическом пространстве. Как сжато сформулировал он сам, «это уже невозможно».
Кристофер Толкин пишет об этом так: «Мне кажется, отец изобретал страшное оружие против своего собственного мира, причем изнутри него». Грустно читать то, что Толкин пишет в своих заметках:
Создание Солнца и Луны непременнодолжно произойти задолго до прихода эльфов и никак не можетслучиться после смерти Двух Древ – если оно хоть как–то связано с пребыванием нолдор в Валиноре. Отмеренный срок слишком короток. Равно как на земле не могло быть ни лесов, ни цветов и т. п., если бы света не было с тех пор, как обрушились Светильни!
Всю поэтическую концепцию мифологии надо было пересмотреть в соответствии с современной наукой. Это привело бы к сокрушительным последствиям – ведь даже «Властелин Колец» изобилует ссылками на ранние концепции (например, отец Эльронда отождествляется с Венерой, утренней и вечерней звездой). Как отмечает Кристофер Толкин, «прежняя структура была слишком всеобъемлющей, слишком взаимозависимой во всех ее частях и уходила корнями слишком глубоко, чтобы выдержать столь радикальную хирургическую операцию».
Однако на самом деле (учитывая, что мы имеем дело с Толкином!) мелкая, придирчивая, незавершенная редактура мифа куда более интересна, нежели можно вообразить. Даже размеры вселенной меняются, а «центральное положение» Арды объясняется тем, что именно она служит подобающей декорацией для богословской драмы Детей Божьих и битвы между Добром и Злом. Теперь солнце присутствует в мире с самого начала и не зажжено от Златого Древа, но Варда освящает его «священным светом» Илуватара. Мелькор, вожделея к новому свету, насилует божественную деву, живущую в солнце. Солнце повреждено, дева удаляется, исходный замысел Валар терпит крах. Значимость Двух Древ в последующей истории теперь состоит в том, что они зажжены до насилия над солнцем, так что и они, и Сильмарили содержат толику света, дарованного солнцу Илуватаром.
Главную проблему на тот момент представляло не солнце, а луна и звезды. Надо было любой ценой сохранить те фрагменты мифа, в которых эльфы особым образом связаны с ними. Толкин подумывал о темных вулканических дымах, заволакивающих солнце, а также о возведении купола, защищающего Арду (или хотя бы Валинор) от Мелькора. Предполагалось, что Варда выложила его, как узором, созвездиями внешней вселенной. Придумать решение не удалось, и переработка так и не была доведена до конца.
В «Покорителе Зари» Льюиса мальчик Юстэс никак не может поверить, что и в самом деле повстречал звезду «на покое». «В нашем мире, – сказал Юстэс, – звезда – это гигантский шар раскаленного газа». Звезда отвечает: «Даже в вашем мире, сын мой, это – не сама звезда, а лишь то, из чего она сделана» [126]. Подозреваю, что в исходной мифологической концепции Толкина больше истины, чем обнаружилось бы в поздних переделках. Впрочем, я могу и ошибаться. Возможно, Толкин стремился к чему–то, чего так и не достиг, но что ясно видел внутренним взором – к поэтическому пересмотру космологии, который вобрал бы в себя современную науку и исцелил бы видением красоты нашу культуру, израненную разделом разума и воображения.
ЭКРАНИЗАЦИЯ «ВЛАСТЕЛИНА КОЛЕЦ»
Эта книга от первых до последних страниц пестрит ссылками на трехчастный фильм «Властелин Колец» режиссера Питера Джексона, что вышел на экраны в 2001–2003 гг. Опубликовать полную рецензию на трилогию от «Нью–лайн–синема» стало возможным лишь после того, как первое британское издание данной книги ушло в печать. Итак, что же представляет собой это знаменательное явление кинематографии? Насколько верно передает оно дух толкиновской книги?
Кинокритики и поклонники Толкина, в общем и целом, все три фильма восприняли «на ура». Самым ярким примером подобной крайности для меня стал столбец в известной английской газете «Санди телеграф» от 1 февраля 2004 г. Кевин Майерз сетует, что Американская киноакадемия не выдвинула третью часть «Властелина Колец» ни на одну из премий в актерской отрасли. Да, фильм был номинирован в одиннадцати остальных категориях (собственно говоря, всех этих «Оскаров» до одного фильм и отыграл), однако, по словам Майерза, воспринимать фильм как всего–навсего непревзойденный шедевр технического мастерства означает закрыть глаза на «монументальную» значимость этого «грандиознейшего из достижений за всю историю кинематографа». Действительно, картина Джексона – «одно из величайших свершений человеческой фантазии», наравне с такими шедеврами, как «Девятая симфония» Бетховина, «Реквием» Моцарта или «Гамлет» Шекспира. Более того, Майерз утверждает, что «фильмы – художественное произведение куда более великое, нежели книги». «В том, что касается нравственной глубины и прозрачной ясности изложения, и широты охвата, и грандиозности поставленной задачи, и блеска исполнения, и силы образов, и технического мастерства они стали беспрецедентным, а возможно, что и непревзойденным эталоном».
Похвала несколько преувеличена, хотя я вполне согласен, что актерская игра (в случае всех ключевых персонажей до единого) заслуживает оценки куда более высокой, нежели явствует из вердикта Американской киноакадемии. Однако я не предлагаю сравнивать трилогию Питера Джексона с другими значимыми картинами, не говоря уже о шедеврах великих гениев, таких, как Бах и Шекспир. Я всего лишь попытаюсь сопоставить фильм с книгой. Если это и высшее на сегодняшний день достижение кинематографа, то и оно не лишено недостатков; в придачу к совершенно гениальным моментам (их так много, что здесь все не перечислишь) в трилогии немало досадных недоработок. Однако я прихожу к выводу, что фильм передает дух книги – и в большей степени, чем многие из нас смели надеяться. И за это христиане сочтут нужным возблагодарить ту же незримую силу, что, несомненно, помогала Толкину в создании исходного замысла [127].
Поскольку фильм хвалят столь единогласно и бурно, я начну с придирок. Кейт Бланшетт, возможно, достаточно красива для роли Галадриэли, но ее нарочито нервирующая манера и постановка голоса ужасны; по мне, она – одна из немногих неверно подобранных исполнителей в фильме. С другой стороны, Орландо Блум в роли Леголаса искупает все. Именно так и следует играть эльфа – пожалуй, именно так ему и полагается выглядеть. В целом эльфы в фильме чересчур «очеловечены» и невыразительны, чересчур самодовольны и помпезны в сравнении с эльфами книги – могучими и при этом непостижимыми, серьезными и однако ж любителями повеселиться. На экране мы видим эльфов главным образом ночью или в сумерках, в то время как Толкин зачастую изображает их (в Лориэне так непременно) в ясном свете дня, дня куда более яркого и красочного, нежели в нашем мире. Однако кинематографическая интерпретация эльфов и сопутствующая им скорбная, западающая в память музыка вполне объяснимы: так проще донести до зрителей (незнакомых с мифологическим контекстом сюжета) тот факт, что время эльфов в Средиземье заканчивается. Фильм насквозь проникнут ощущением трагедии истории и космической энтропии; возможно, иными способами это чувство не удалось бы воссоздать столь убедительно.
А как же Шир, еще один «мир в пределах мира», столь близкий мироощущению Толкина? Бэг—Энд, несомненно, безупречен. С другой стороны, Хоббитон, на мой вкус, чересчур отдает диснеевщиной. Наверное, только английский режиссер сумел бы уравновесить юмор и серьезность в изображении Шира. В конце концов, в книге это – мир «реальной жизни». Толкиновские карикатуры на английских селян по–доброму смешны, но при этом весьма красноречивы. У Джексона карикатура преобладает, обитатели Шира умаляются до уровня шутовской клоунады, а толкиновский глубокий анализ английской души отчасти исчезает. Это особенно важно в конце третьего фильма, где Очищение Шира опущено полностью и путешественники возвращаются на родину, совершенно не затронутую великими событиями «в чужедальних краях».
Тем самым сюжет обедняется; но, опять–таки, у режиссера на то были свои причины. Возможно, он считал, что фильм – уже не «мифология для Англии», но мифология для современного мира в целом. «Шир» отчасти утратил свой резонанс, даже в Англии, где сельские деревушки, памятные Толкину со времен детства, исчезли безвозвратно. Джексон, по всей видимости, решил сосредоточить внимание в первую очередь на эпической теме и на драме Арагорна, в частности, вместо того, чтобы попытаться воспроизвести толкиновское искусное переплетение эпоса с повседневностью во всех его проявлениях. Не скажу, что режиссер был так уж не прав: ведь фильм невозможно ни удлинить, ни усложнить, не пожертвовав при этом внутренней согласованностью. Однако не исключено, что это решение еще больше усугубило изъян, отмеченный столь многими: бесконечно долгий финал после первой кульминации. В романе бессчетные встречи и прощания, последовавшие за развязкой у Черных Врат и на Горе Рока, сопряжены с совершенно новой драмой – драмой хоббитов, что возвращаются домой, преображенные в результате пережитых приключений, и оказываются лицом к лицу со злом, насажденным Саруманом в Шире. Без этой нежданной второй кульминации последняя часть фильма неизбежно кажется чересчур растянутой: без столкновения с искажением на родной земле заключительные эпизоды оставляют ощущение некоторого пресыщения.
При монтаже фильма стоило бы избегать излишней сентиментальности. Первая встреча Фродо с Гандальвом не вполне срабатывает. Когда мы в первый раз видим Гандальва, он пытается казаться суровым – и тут же разражается смехом. Подразумевается, что его веселость неудержимо рвется изнутри, но вместо того, чтобы казаться стихийной, она выглядит несколько вымученной. После уничтожения Кольца и ошеломляющих сцен крушения Горы Рока и спасения Фродо и Сэма Орлами зрители не то чтобы в настроении воспринимать шуточную возню в спальне, тем более в замедленном воспроизведении. Эту сцену неплохо было бы подсократить, и тогда, при условии еще нескольких купюр, освободилось бы больше места для включения важных вырезанных эпизодов, таких, как противоборство в Ортанке с Саруманом в блестящем исполнении Кристофера Ли. (Этот фрагмент, включенный в режиссерскую версию, содержит несколько важных элементов книги, хотя как только диалог отходит от толкиновского оригинала, он начинает «сбоить» – взять хоть реплику Сарумана: «Вы все умрете!» В целом нужно отметить, что стоит сценаристам отклониться от блистательной прозы Толкина, и результат оказывается либо банален, либо мелодраматичен, а иногда и просто безграмотен!)
Будучи англичанином, Толкин наверняка преисполнился бы негодования при виде неприкрытых манипуляций с эмоциями зрителей в целом ряде эпизодов, даже при том, что сам откровенно признавал: в какие–то моменты при написании романа он не мог удержаться от слез. Один из таких моментов из фильма выброшен вовсе: а именно, когда в ходе подъема по лестнице Кирит Унгола Голлум балансирует на грани раскаяния, глядя на спящего Фродо. Сэм одергивает и оскорбляет Голлума, и тот теряет свой шанс на спасение – возможно, единственный. Вместо этого в фильме присутствует волнующая сцена, когда Фродо по наущению Голлума прогоняет Сэма. По счастью, драма спасения не вовсе утрачена. Ранее, во время перехода через Болота, становится ясно со всей очевидностью, что возвращение Голлума к прежнему его имени и доверие Фродо к провожатому, действительно, пробудило в Голлуме остатки совести. Диалог между Голлумом и Смеаголом – один из самых сильных и хватающих за душу (равно как и смешных) эпизодов в фильме. В джексоновской новой версии сюжета Голлум считает, что Фродо предал его Фарамиру, и в результате (неведомо для Фродо) избирает путь зла, укрепившись в былом убеждении: нельзя никому доверять.
Что до Фарамира, большинство поклонников книги считают, что Джексон выбрал на эту роль неподходящего актера и обошелся с персонажем не лучшим образом. Как рассказывал сам Толкин, он отнюдь не ожидал, что Фарамир выйдет ему навстречу в лесах Итилиэна. На самом деле, именно с этим героем Толкин отождествлял себя. Фарамир обладает добротой, великодушием, благородством и уверенностью в себе, равными Арагорновым, пусть и не столь величественными. В нем ощущается «дух Нуменора». В фильме этот образ переработан: Фарамир стал более сложен, он измучен отцовской жестокостью, он в тупике и не знает, что делать. Противоречит ли это атмосфере книги? Что ж, мы теряем одного замечательного персонажа, но обретаем другого, пусть и немножко иного. Фарамир в фильме тоже преодолевает искушение Кольца, хотя поначалу считает, что его прямой долг – отнести Кольцо отцу. Нельзя не отметить, что Фродо не приводит никаких весомых доводов, дабы убедить Фарамира в обратном; более того, лжет ему касательно своего «проходимца–спутника». Фарамир признает важность миссии Фродо лишь после того, как в Осгилиате у него на глазах на хоббита нападает летающий назгул. Эта сцена в книге отсутствует, и многим она показалась весьма странной, ведь теперь Фродо продемонстрировал Кольцепризракам Кольцо вблизи; странно, что они в создавшихся обстоятельствах и так недалеко от Мордора не атаковали хоббита более решительно. Как бы то ни было, в третьем фильме Фарамир завоевывает нашу любовь и уважение и в финале становится достойным избранником для леди Эовин (их роман представлен лишь в режиссерской версии).
Сам Арагорн – замечателен; фильм поднимается до небывалых высот во многом благодаря игре Вигго Мортенсена. При том, что Фродо как Кольценосец – главный герой фильма, заодно с Сэмом (именно с ним мысленно ассоциирует себя читатель), по замыслу Джексона, драма как таковая разворачивается в душе Арагорна. Это фильм о человеке, который исполняет свое предназначение через умение владеть собой и беззаветное служение, и этот человек – Арагорн. Начинает он с отказа: он давным–давно отрекся от притязаний на королевский титул, страшась собственной слабости, ибо это – слабость смертных и его предка Исильдура. Сейчас Кольцо не представляло бы никакой угрозы, если бы три тысячи лет назад Исильдур не объявил его своим, вопреки совету Эльронда. Потому нынешняя Война Кольца – это война Арагорна в самом что ни на есть личном смысле, и не только потому, что благодаря ей он сможет завоевать трон Гондора. Его задача (еще в большей степени, нежели для Фродо) – окончательно и бесповоротно отказаться от соблазна, воплощенного в Кольце.
Безусловно, Фродо несет Кольцо ради него, а Сэм поддерживает Фродо; вот почему нежданный крик Арагорна в ходе финального штурма Черных Врат («За Фродо!»), при том, что Толкин в жизни бы не написал ничего подобного, в фильме воспринимается вполне уместно. Джексон умело увязывает мучительный подъем Фродо и Сэма вверх по склону Горы Рока с событиями у Черных Врат, недвусмысленно давая понять: это – две части одной и той же психологической драмы. Объединенные воля и самопожертвование Арагорна и Сэма сообща подводят Фродо к порогу его миссии. У водопада Рауроса Арагорн даже позволяет Фродо с Сэмом уйти прочь – а ведь с легкостью мог бы остановить их. При первом просмотре я счел это ошибкой и подумал, как легко было бы ее избежать. Но на самом–то деле свой смысл в этом есть, равно как и в том эпизоде (в романе он тоже отсутствует), когда Фродо держит Кольцо на ладони, и Арагорн сам зажимает ему руку в кулак. Кольцо принадлежит Арагорну по праву победителя, как наследнику Исильдура, и Фродо несет Кольцо туда, куда не может пройти Арагорн, – несет с его дозволения и при его поддержке.
Постепенное превращение Арагорна из Следопыта в Короля эхом вторит преображению других главных героев, включая воскресение Гандальва, который становится из Серого Белым (что знаменует главенство над Орденом Истари). Воскресение Арагорна символично: он проходит Тропами Мертвых и коронован Гандальвом, как только решающая победа одержана. Любовь Арвен ведет Арагорна к его окончательному преображению. Здесь Джексон развивает тему, что заложена Толкином в самое сердце легенды, хотя в романе вынесена в Приложение. История Арагорна и Арвен поставлена в центр не просто для того, чтобы «продвинуть любовную линию» или добавить Лив Тайлер несколько лишних реплик (нельзя не отметить, что по–эльфийски актриса говорит замечательно!). В версии Джексона именно вера Арвен в высокое предназначение своего возлюбленного и в то, что она сама разделит судьбу Арагорна как мать его ребенка, «вскармливает» Арагорна как Короля. Один из самых сильных эпизодов в третьей части – тот момент, когда Арвен уже собирается покинуть Средиземье, смирившись с решением Арагорна разорвать помолвку, но вот ей явлено видение их будущего ребенка, и она скачет назад – и бросает вызов отцу в Ривенделле. Ее решение связать свою судьбу с судьбой Арагорна подтверждено, хотя и куда более сложным образом, нежели у Толкина; Арвен поражен смертельным недугом, и Эльронд вынужден признать необходимость перековать обломки Нарсиля в Андуриль, Пламя Запада. С мечом в руках, зная, что от уничтожения Кольца зависит жизнь Арвен, Арагорн наконец преодолевает страх перед собственной слабостью, призывает Мертвых под свое знамя и ведет их в битву за Минас Тирит.
Это не Арагорн романа, но персонаж более современный; даже в час триумфа он менее величествен, менее церемонен и представителен под стать своему высокому званию, нежели изобразил Толкин, – хотя, думаю, автора вдохновило бы великолепное обращение Арагорна к войскам в тот момент, когда отворились Черные Врата («Люди Запада!»), – речь, подспудно намекающая на ошибки людей начала двадцать первого века. Фродо тоже заметно более ребячлив, нежели зрелый пятидесятилетний хоббит, описанный в книге. Тем не менее комбинация двух произведений себя оправдывает, и внутренняя связь между двумя миссиями отчетливо ощущается, даже если и не разъясняется напрямую. Фродо готов пожертвовать собой. Он не надеется выжить. Арагорн должен отвлечь внимание Темного Властелина и его полчищ к Вратам, чтобы дать Фродо шанс дойти до Горы Рока; но тем самым Арагорн ставит на кон свою жизнь и жизнь своих друзей и воинов против значительно превосходящих сил врага. Неразумное решение в обычном смысле этого слова, но вряд ли безответственное – ведь в нем заключается единственная надежда на истинную победу. (Надо отметить, что в книге Арагорн сражается даже при отсутствии надежды, полагая, что Фродо уже захвачен Темным Властелином.) Благодаря самоотверженности Арагорна и его неизменной готовности исполнить свой долг, чего бы это ни стоило, уничтожение Кольца становится неизбежным на некоем духовном уровне, хотя в итоге уничтожает Кольцо не столько Фродо (как на тот момент считают все персонажи фильма), сколько Голлум.
Борьба на краю адской бездны разыгрывается между Фродо, Голлумом и Сэмом. Кольцо нельзя уничтожить просто волевым актом. Кольцо уничтожено волею «случая», но Джексон не оставляет места сомнениям: подобная случайность возникла только благодаря многочисленным жертвам, попутно принесенным Фродо и каждым из участников Братства. Иными словами, уничтожить Кольцо и исполнить миссию удалось благодаря не столько решающему героическому деянию Фродо, сколько всему тому, что Фродо довелось пережить по дороге из Ривенделла в Мордор. Каждое проявление храбрости, верности и доброты в пути способствовало уничтожению Кольца – только так невозможное стало возможным.
Сопоставляя эту финальную сцену на мосту Саммат Наур с кульминацией сериала «Матрица», по достоинству оцениваешь широту охвата и глубину нравственного видения Толкина в сравнении с представлениями братьев Вачовски, для которых конечная цель действия (согласно последней реплике Нео) – это произвол выбора как такового. Современное потребительское общество опирается на свободу выбора, но жизнь добродетельная основана на совсем другой концепции: способности выбирать правильно. Можно сказать, что, поддавшись искушению в финале, Фродо осуществил «свободу выбора» в современном смысле этого слова – ибо он просто–напросто выбрал Кольцо. Но в этот самый момент нравственный ориентир у него отнят. Иными словами, истинная свобода состоит в способности «быть», а это – сила вне времени. Так прошлое «я» Фродо приходит к нему на помощь в настоящем.
Растянув сцену борьбы Фродо с Голлумом в фильме и заставив их обоих упасть в Бездну (хотя Фродо в итоге спасен Сэмом в клишированной мелодраматической сцене – главный герой повисает на самом краю обрыва, а друг протягивает ему руку), Питер Джексон подчеркивает тем самым еще одну важную мысль. И Голлума, и Фродо снедает вожделение к Кольцу. В тот момент зло уже овладело ими обоими; и в схватке друг с другом объединяющее их зло кануло в Огонь. Уничтожение Кольца таким образом иллюстрирует великую истину о зле, как я уже отмечал в этой книге: зло – злейший враг самого себя. Ранее мы видели, как орки в Минас Моргуле убивают друг друга, давая возможность Сэму спасти Фродо. Еще раньше орки из Мордора и урук–хай из Изенгарда передрались между собой («Вот вам и мясцо, ребятки! Заказывали?»), что позволило Мерри с Пиппином сбежать в лес Фангорн.
Может показаться странным, что на протяжении всего фильма Кольцо представлено как великое искушение властью, в то время как доподлинно мы знаем лишь то, что оно способно наделять невидимостью и, вероятно, бессмертием. Фродо явно не обрел никаких сверхъестественных способностей, объявив Кольцо своим; более того, он даже не в силах помешать Голлуму откусить палец с Кольцом. Давным–давно, когда Саурон еще владел Кольцом, он оставался уязвимым для клинка, с помощью которого Кольцо было отсечено с его руки. Возможно, даже для Саурона Кольцо – своего рода иллюзия. В этом, самом непонятном и менее всего откомментированном, аспекте фильма Джексон, по всей видимости, в точности следует книге. Кольцо остается загадкой.