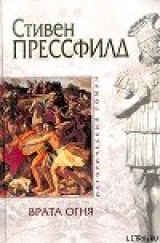
Текст книги "Врата огня"
Автор книги: Стивен Прессфилд
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
Там и сям вдоль строя по двое-трое собрались мужчины. Страх, с которым им удалось справиться во время боя, теперь ослабил узы и набросился на них, охватив сердца. Ухватившись рукой за товарищей, они опустились на колени – не из одного почтения перед друзьями, хотя испытывали его в избытке, но потому что колени вдруг утратили всю силу и больше не могли держать тело. Многие плакали, другие неистово тряслись. Это не считалось недостатком мужества, а называлось у дорийцев гесма фобоу – очищением от сокрытия страха.
Леонид размашисто шагал среди воинов, давая всем убедиться, что их царь жив и не покалечен. Воины жадно пили свою долю крепкого густого вина, и не считалось постыдным пить также большое количество воды. Вино уходило быстро, но никто не хмелел. Некоторые пытались расчесать волосы, словно таким образом возвращая себя к нормальной жизни. Но их руки так тряслись, что у них почти ничего не получалось. Другие с пониманием усмехались – ветераны, знающие, что лучше и не пытаться, поскольку все равно невозможно заставить члены слушаться. Признавшие свою неудачу чесальщики в ответ мрачно хмыкали.
Когда метки нашли свои вторые половины и вернулись к хозяевам, оставшиеся в корзине обозначили убитых или тяжело раненных, не способных встать в строй. Эти последние были востребованы братьями и друзьями, отцами и сыновьями, любимыми. Иногда человек брал собственную, потом забирал другую, а иногда, со слезами, и третью. Многие возвращались к корзине – просто заглянуть, чтобы увидеть число потерь.
В тот день потери составили двадцать восемь человек.
Великий Царь может сравнить это число с тысячами убитых в более великих сражениях и, возможно, сочтет его незначительным. Но тут это казалось децимацией – гибелью каждого десятого воина.
Возникло некоторое волнение, и перед собравшимися воинами показался Леонид.
– Вы уже преклонили колени?
Он двинулся вдоль строя, но не стал произносить громогласных речей, подобно иным гордым монархам, ищущим удовлетворения в звуках собственного голоса. Нет, он говорил тихо, как товарищ, он брал за локоть каждого бойца, некоторых обнимал, иных хлопал по плечу. Он разговаривал с каждым по отдельности, как мужчина с мужчиной, как Равный с Равным, без царственной снисходительности. Слова от одного к другому разносились шепотом по рядам, не требуя громкого повторения.
– Каждый получил вторую половину метки? Ваши руки уже не дрожат и вы можете свести их вместе?
Царь рассмеялся, и воины рассмеялись вместе с ним. Они любили его.
Победители построились в обычный порядок, раненые и не раненые, а также оруженосцы и илоты. Они высвободили место для царя. Стоящие впереди опустились на колени, чтобы товарищи сзади могли видеть и слышать; а сам Леонид буднично ходил туда-сюда вдоль строя, так, чтобы все слышали его голос и видели его лицо.
Боевой жрец – в данном случае Олимпий – держал перед царем корзину..Леонид брал каждую невостребованную метку и читал имя. Он не произносил никаких надгробных словес. Не звучало ничего, кроме имени. Среди спартанцев одно это считалось чистейшей формой освящения.
– Алкамен. Дамон. Антаклид. Лисандр.
И так далее…
Тела, уже принесенные оруженосцами с поля боя, будут омыты и умащены маслом; будут произнесены молитвы и принесены жертвы. Каждый погибший будет завернут в собственный плащ или плащ товарища и похоронен здесь же на месте, под курганом чести. Дома похоронят лишь щит, меч, копье и доспехи, если только знамения не объявят, что для данного тела будет больше чести, если его сохранят и похоронят в Лакедемоне.
Леонид взял свой собственный браслет и сложил обе половинки.
– Братья и союзники, я приветствую вас. Соберитесь, друзья, и выслушайте слова моего сердца.
Он выдержал паузу, спокойно и торжественно.
Потом, когда все замолкли, царь произнес:
– Когда человек устанавливает перед глазами бронзовое лицо своего шлема и выходит на позицию, он делит самого себя, как свою метку, на две части. Одну часть он оставляет позади. Эта часть вызывает восторг у его детей, она возвышает его голос в хоре, она прижимает к нему жену в сладкой темноте их ложа. Эту свою часть, лучшую часть, мужчина оставляет позади. Он изгоняет из своего сердца все чувства нежности и жалости, все сочувствие и доброту, все мысли и понятия о том, что враг – такой же мужчина, такой же человек, как он сам. Он идет в бой, неся только вторую часть себя, низкую часть, ту часть, что знает бойню и резню и не ведает пощады. Никакой воин не может сражаться, если не сделает этого.
Царя слушали, молчаливо и торжественно. Леониду в то время было пятьдесят пять лет. С тех пор как ему стукнуло двадцать, он прошел более четырех десятков сражений. Старые раны – тридцатилетней давности – виднелись на его плечах и икрах, на шее и под стального цвета бородой.
– Потом мужчина возвращается с побоища – живой. Он слышит, как выкрикивают его имя, и выходит взять свой браслет. И забирает ту часть себя, что раньше отложил в сторону. Это священный момент. Сакраментальный момент. Момент, когда мужчина чувствует богов рядом с собой, он чувствует их так близко, как собственное дыхание. Какое неведомое милосердие спасает нас в такой день? Какая божественная милость отвращает вражеское копье на ладонь от нашего горла и роковым образом направляет его в грудь любимого товарища, стоящего рядом? Почему мы по-прежнему здесь, на земле, хотя мы ничуть не лучше, не храбрее, не почтительнее к небесам, чем наши братья, которых боги направили в подземное царство? Когда мужчина соединяет две части своего браслета и видит, как они сливаются воедино, он ощущает, как его снова наполняет та часть его, что знает любовь, и милосердие, и сочувствие. Вот от этого и подгибаются колени. Что еще может чувствовать мужчина в тот момент, кроме самой искренней и глубокой благодарности богам, которые сегодня по неведомым причинам сохранили ему жизнь? 3автра их прихоть может оказаться иной. На следующей неделе, на будущий год. Но сегодня солнце продолжает светить ему, он чувствует на плечах ласковое тепло, видит вокруг себя лица своих товарищей, которых любит, и радуется своему и их спасению.
Леонид замолк, стоя посреди пространства, освобожденного для него войском.
– Я приказал прекратить преследование врага. Я велел положить конец побоищу и не убивать тех, кого сегодня мы зовем врагами. Пусть они вернутся домой. Пусть обнимут жен и детей. Пусть, как и мы, прольют слезы спасения и воскурят благодарность богам. Пусть никто не забывает и не толкует превратно, почему сегодня мы сражались с другими греками. Не для того, чтобы победить и поработить их, наших братьев, а чтобы сделать нас союзниками против более серьезного врага. Мы надеялись достичь этого убеждением. Получилось же – принуждением. Но это неважно. Теперь они – наши союзники, и с этого момента мы будем относиться к ним, как к союзникам. Перс!
Леонид вдруг повысил голос, воскликнув с таким взрывом эмоций, что стоявшие поблизости вздрогнули от неожиданности.
– Перс – вот из-за кого мы сражались сегодня! Он невидимо присутствует над этим полем боя! Из-за него в корзине остались метки! Из-за него двадцать восемь благороднейших воинов нашего города никогда не увидят красоты родных холмов и не будут танцевать под милую родную музыку! 3наю, многие из вас подумали, что я не в своем уме, как Клеомен, предыдущий царь(Царь Клеомен сошел с ума). Послышался смех.– Иногда до меня доносится шепот, а иной раз это даже не шепот.– Снова смех.– Якобы Леонид слышит голоса, которых не слышно остальным! Он-де пользуется тем, что дала ему жизнь, не по-царски и готовится к войне против врага, которого никто никогда не видел и который, как говорят многие, никогда не придет. Все это так…
Воины снова рассмеялись.
– Но выслушайте и никогда не забывайте того, что я вам сказку: перс – придет. Он придет с таким войском, что посланное им четыре года назад, когда афиняне и платейцы столь славно разбили его на Марафонской равнине, покажется ничтожным. Он придет с десятикратно, со стократно более могучим войском! И придет скоро.
Леонид снова замолк. От жара в груди его лицо зарделось, а глаза горели возбуждением и убежденностью.
– Выслушайте меня, братья. Перс – не царь, как был для нас Клеомен или как я для вас теперь. В сражении он не занимает свое место в строю со щитом и копьем, нет, он взирает из безопасного места, издали, с холма, сидя на золотом троне.– При этих словах Леонида среди воинов послышался презрительный шепот.– Его товарищи – не Равные, свободные говорить при нем, что думают, без страха. Это его рабы и смерды. Все они, даже благороднейшие, считаются царской собственностью, наряду с козлами и свиньями, и их посылает в бой не любовь к своей стране и к свободе, а плеть других рабов. Этот царь вкусил поражение от руки эллинов, и это горько для его тщеславия. Теперь он идет сам, чтобы отомстить, но идет не как достойный уважения мужчина, а как избалованный и нетерпеливый ребенок, разозленный тем, что у него отняли игрушку. Я плюю на корону этого царя. Я вытираю задницу об его трон, который на самом деле – седалище раба. Он не стремится ни к чему более благородному, чем превратить в рабов других! Все, что я сделал, будучи царем, и все, что до меня сделал Клеомен: обхаживание врагов, все фальшивые конфедерации, все подчиненные нами слабые в коленках союзники – все это делается ради того дня, когда Дарий или кто-то из его сыновей вернется в Элладу отплатить нам.
Тут Леонид поднял корзину с половинками браслетов павших.
– Вот почему эти люди, которые лучше нас, сегодня отдали свои жизни! Вот почему они освятили эту землю своей героической кровью! В этом – смысл их жертвы. Они вывалили свои кишки не в лужу мочи сегодняшней войны, они полегли в первой из множества битв более великой войны; которая еще грядет, которую видят боги на небесах, которую все вы видите в сердце своем. Эти наши братья – герои той войны, которая станет величайшей и самой разрушительной в истории. В тот день,– Леонид указал на берег залива, на Антирион у воды и Рион на другой стороне,– в тот день, когда перс через этот пролив приведет свои полчища против нас он найдет здесь не свободный проход и купленных друзей, а врагов, объединенных и непримиримых, союзников-эллинов, которые бросятся на него с обоих берегов. А если он изберет другой путь, если шпионы доложат ему о том, какой прием ждет его здесь, и он выберет другой проход, то и в другом месте сражения суша и море станут нашим большим преимуществом. Так будет благодаря тому, что мы совершили сегодня, благодаря жертве этих наших братьев, чьи тела мы опустим сегодня в могилу. Поэтому я не стал дожидаться, пока сиракузцы и антирионцы, наши сегодняшние враги, пошлют к нам своих посланников, как обычно, с просьбой вернуть им тела их убитых. Я первым послал к ним наших гонцов, предлагая перемирие, без злопамятства и с великодушием. Пусть наши новые союзники заберут неоскверненным оружие своих павших, пусть вернут незамаранными тела своих мужей и сыновей. Пусть те, кого мы сохранили сегодня, встанут в боевой строй вместе с нами в тот день, когда мы покажем персу раз и навсегда, какую доблесть свободные люди могут проявить против рабов, как бы велико ни было их число и как бы безжалостно ни гнали их плети их избалованного царя!
КНИГА ТРЕТЬЯ
ПЕТУХ
Глава двенадцатая
В этом месте рассказа произошел досадный инцидент. Один из подчиненных Царского лекаря во время обычного ухода за ранами пленника неразумно сообщил раненому о судьбе Леонида, спартанского царя, командовавшего обороной Фермопил, о том, что стало с ним после битвы у Горячих Ворот, и о том, какое святотатство в глазах греков совершили войска Великого Царя над телом, когда достали его из горы трупов после побоища. До того пленник ничего об этом не знал.
Возмущение этого человека было немедленным и бескрайним. Он отказался говорить дальше и потребовал, чтобы его тоже умертвили – и немедленно. Этот человек, Ксеон, впал в отчаяние оттого, что тело его царя было обезглавлено и распято. Никакие доводы, угрозы и уговоры не могли вывести его из этого горестного состояния.
Оронту стало ясно, что если доложить Великому Царю о вызывающем поведении пленника, то, как бы Ему ни хотелось услышать продолжение рассказа этого человека, за свою наглость по отношению к Царственной Особе пленный Ксеон будет предан смерти. Сказать по правде, командир Бессмертных так же опасался за свою собственную голову и головы своих подчиненных, если Великий Царь будет разгневан непреклонностью грека по отношению к Его желанию узнать все возможное о своем спартанском противнике.
После частого неофициального общения с греком Ксеоном во время переговоров Оронт стал для него доверенным лицом и даже, если значение этого слова можно расширить до такой степени, другом. Он по собственной инициативе постарался смягчить упорство пленника. С этой целью командир Бессмертных попытался донести до грека следующее.
О физическом осквернении, совершенном над телом Леонида, Великий Царь глубоко пожалел сразу же, как только отдал приказ об этом. Приказ был отдан горем, испытанным после сражения, когда кровь Великого Царя вскипела при виде тысяч погибших – по некоторым подсчетам, до двадцати тысяч лучших бойцов Державы были убиты войсками Леонида, чей вызов богу Ахуре-Мазде, мог быть воспринят персидским оком как оскорбление небесам. Вдобавок спартанский супостат и его союзники послали в Царство мертвых двоих братьев Великого Царя, Габрока и Гиперанфа, и еще более тридцати других царских родственников.
Более того, добавил командир Бессмертных, расчленение тела Леонида явилось, если посмотреть в определенном свете, свидетельством трепета Великого Царя перед спартанцем, поскольку ни один другой вражеский военачальник не удостоился от Него такого крайнего и, в глазах эллинов, варварского возмездия.
Этого человека, Ксеона, не тронули подобные доводы, и он повторил свое желание немедленно принять смерть. Он отказался от пищи и воды. Казалось, его рассказ на этом месте закончился и уже не возобновится.
Но тут, боясь, что ситуацию не удастся утаить от Великого Царя, Оронт решил разыскать Демарата, изгнанного спартанского царя, проживавшего при дворе, в качестве гостя и советника, и убедил его посодействовать. Демарат явился в шатер Царского лекаря и там с глазу на глаз больше часу говорил с пленным Ксеоном. Выйдя же оттуда, он сообщил начальнику Оронту, что этот человек переменил свое решение и теперь хочет продолжить допрос.
Кризис миновал.
– Признайся мне,– попросил Оронт с большим облегчением,– какой же довод и убеждение применил ты, чтобы заставить его передумать?
Демарат ответил, что среди всех эллинов спартанцы более других известны своим благочестием и благоговейным отношением к богам. Он заявил, что по его собственным наблюдениям в этом отношении среди лакедемонян низшие по положению и по роду – в частности, пришельцы из других мест, каким и являлся пленник Ксеон,– почти без исключения, по словам Демарата, «больше спартанцы, чем сами спартанцы».
Бывший спартанский царь, как он сам рассказал, сыграл на уважении этого человека к богам, особенно к Фебу Аполлону, к которому тот явно питал глубокое почтение. Демарат уговорил пленника помолиться и принести жертву, чтобы определить как можно лучше волю этого бога. Ведь несомненно, сказал он, до сих пор Стреловержец способствовал твоему рассказу. Почему же теперь он прикажет прервать его? Не ставит ли себя этот человек, Ксеон спросил Демарат, выше бессмертных богов, предполагая знание их непостижимой воли и затыкая им рот по собственному капризу?
Неизвестно, какой ответ получил пленник от своих богов, но, очевидно, этот ответ совпал с советом Демарата.
И на четырнадцатый день месяца ташриту мы возобновили слушание рассказа.
При Антирионе Полиник получил приз за отвагу.
Это был его второй приз, добытый в таком неслыханном возрасте – в двадцать четыре года. Ни один из Равных, кроме Диэнека, не был награжден дважды, но тому уже было около сорока. За свой героизм Полиник был назначен начальником над Всадниками, и его привилегией стало председательствовать при назначении Трехсот царских спутников на следующий год. Это высшее, всеми вожделенное отличие, вдобавок к Олимпийскому венку за состязания в беге, сделало Полиника маяком славы, чьи лучи сияли далеко за пределами Лакедемона. Во всей Элладе его воспринимали как героя – как второго Ахилла, стоявшего теперь на пороге безграничной и неувядающей славы.
К чести Полиника, он не возгордился. Если что-то подобное и можно было в нем уловить, то оно проявлялось лишь в его еще более лютой самодисциплине. Это рвение в доблести, как показали события, могло стать чрезмерным, когда применялось к другим, не таким блестяще одаренным, как он сам.
Что касается Диэнека, он один раз был удостоен чести быть включенным в число Всадников, когда ему было двадцать шесть. 3атем он почтительно отклонял все последующие назначения. Он говорил, что ему нравится неприметное положение начальника эномотии. В строю он чувствовал себя самим собой. Убеждением моего хозяина было, что его вклад будет наибольшим, если он лично поведет людей за собой, да и то не более определенного числа. Он отказывался от всяких попыток продвинуть его выше уровня эномотии. "Я умею считать лишь до тридцати шести,– был его стандартный ответ.– Дальше у меня кружится голова».
Добавлю по собственным наблюдениям, что больше, чем ко всему остальному, Диэнек имел дар и склонность к педагогике. Как и все прирожденные педагоги, он был прежде всего учеником. Он изучал страх и его противоположность.
Но если и дальше отступать в те времена, это уведет нас далеко от нашего повествования. Остановимся же на Антирионе.
На обратном пути в Лакедемон, в наказание за то, что я осмелился сопровождать Александра в его погоне за войском, меня удалили из его общества и заставили идти в пыли вслед за обозом вместе со стадом жертвенных животных. Я был с моим другом, наполовину илотом Дектоном. Этот Дектон получил при Антирионе новое прозвище – Петух. Когда сразу же после сражения он принес Леониду для благодарственной жертвы петуха, то чуть не задушил последнего в сжатых кулаках – так обезумел он от возбуждения битвы и своего несбывшегося желания принять в ней участие. Кличка пристала. Дектон и в самом деле был петухом, из него так и била воинственность скотного двора и готовность налететь на всякого, пусть даже противник в три раза больше его размером. Это новое прозвище подхватило все войско, которое стало считать юношу чем-то вроде счастливого талисмана, несущего победу.
Кличка, конечно, задела Дектонову гордость и привела его в еще более воинственное состояние. По его мнению, подобное прозвище звучало пренебрежительно. Прозвище дало ему и еще одну причину ненавидеть хозяев и презирать собственное положение на службе у них. Меня он назвал тупоголовым болваном за то, что я следовал за армией.
– Тебе надо было бежать,– прошипел мне Дектон, глядя в сторону, когда мы среди мух тащились за обозом.Ты заслуживаешь тех плетей, что получаешь, не за то, в чем тебя обвиняют, а за то, что не утопил этого гимнопевца Александра, когда тебе выпала такая возможность, и не бросился потом прямо в храм Посейдона.– Он имел в виду святилище на мысе Тенар, где беглецы могут получить убежище.
Мою преданность спартанцам Дектон осуждал с презрением и насмешками. Вскоре после того, как два года назад судьба привела меня в Лакедемон, когда нам обоим было по двенадцать, меня отдали под власть этого мальчишки.
Его семья работала в поместье Олимпия, отца Александра и родственника Диэнека через его жену Арету. Сам Дектон был незаконнорожденным, по крови наполовину илотом, и ходил слух, что его отцом был спартиат, чье надгробие
Идотихид
Погиб
в сражении при Мантинее
стояло у Амиклской дороги напротив ряда сисситий, помещений для общих трапез.
Это полуспартанское происхождение не давало Дектону никакого преимущества. Он родился илотом и оставался им. Во всяком случае, его спартанские ровесники, а Равные даже в большей степени, относились к нему с повышенной подозрительностью, усиленной еще и тем, что Дектон отличался исключительной силой и ловкостью в атлетических играх. В свои четырнадцать лет он был сложен как взрослый мужчина и почти так же силен.
Его ждали большие неприятности, и он знал это.
Сам я тогда пробыл в Лакедемоне полгода – дикий мальчишка, только что спустившийся с гор и отданный на самые грязные крестьянские работы, поскольку отправить меня туда было разумнее, чем убить, рискуя осквернить себя. Но я оказался настолько негодным для сельского труда, что доведенные до бешенства мои хозяева-илоты пожаловались напрямую своему хозяину Олимпию. Этот благородный человек проявил ко мне сострадание – возможно, из-за того, что я был свободнорожденным, а возможно, и потому, что я стал городской собственностью не через пленение, а добровольно.
И меня отправили к пастухам коз и козлят.
Я сделался пастухом жертвенных животных, присматривал за скотиной для утренних и вечерних церемоний и ходил с войском на полевые учения.
Главным среди нас был Дектон. Прежде чем мы подружились, он возненавидел меня и питал самое жгучее презрение к моей истории, по неосторожности рассказанной ему, – якобы я получил совет непосредственно от Стреловержца Аполлона. Дектон счел это бредом. Как только я посмел возомнить, будто олимпийский бог, отпрыск Громовержца 3евса, покровитель Спарты и Амикл, попечитель Дельф и Делоса и неизвестно скольких еще полисов потратил свое бесценное время, чтобы снизойти до разговора в снегу с безродным и бездомным гелиокекауменом вроде меня? В глазах Дектона я был тупейшим из спятивших в горах безумцев, каких он только видел.
И он назначил меня старшим подтирателем задницы. – Ты думаешь, я собираюсь дать исполосовать себе спину за то, что подведу царю измазанного навозом козла? Отправляйся, и чтобы под хвостом у него не было ни пятнышка!
Дектон никогда не упускал случая унизить меня.
– Я учу тебя, затычка! Эти задницы – твоя академия. Сегодняшний урок – тот же, что и вчера: из чего состоит жизнь раба? Из постоянных унижений, из издевательств, из отсутствия другого выбора, кроме как терпеть. Скажи мне, мой свободнорожденный друг, как тебе это нравится?
Я ничего не отвечал, а молча повиновался. И за это он презирал меня еще больше.
Однажды он преградил мне дорогу, когда я с другими мальчиками-илотами пас скотину на царском пастбище.
– Ты меня ненавидишь, а? Тебе ничего бы так не хотелось, как изрубить меня на куски. Что же тебя останавливает? Попробуй! Ты ведь ночами не спишь, думая, как бы меня убить,– дразнил меня Дектон.– Но ты-то прекрасно знаешь, как это сделать! При помощи фессалийского лука, если твои хозяева тебя к нему подпустят! Или кинжалом, который ты припрятал между досок в хлеву! Но ты меня не убьешь. Сколько бы унижений я ни лил на твою голову, как бы ни издевался над тобой – ты не убьешь меня!
Он поднял камень и швырнул в меня, не целясь. Камень попал мне в грудь, и я чуть не упал. Другие мальчишки-илоты подошли посмотреть.
– Если бы тебя останавливал страх, это еще могло бы вызвать во мне какое-то уважение. По крайней мере, в этом был бы виден какой-то смысл.– Дектон швырнул другой камень, который попал мне в шею и рассек кожу, так что потекла кровь.– Но в твоих мотивах смысла нет. Ты не причинишь мне вреда по той же причине, почему не причинишь вреда никому из этих несчастных вонючих животных.– С этими словами он злобно пнул в брюхо козу, отчего та покатилась по земле и с криком убежала. – Потому что это обидит вон тех.– Он с горьким презрением указал через луг на гимнастическую площадку, где три эномотии спартиатов на солнце упражнялись с копьями. Ты не тронешь меня, потому что я – их собственность, как и эти жрущие дерьмо козлы. Ведь я прав, а?
Мое лицо ответило за меня.
Он посмотрел на меня с презрением.
– Кто они тебе, придурок? Я слышал, твой город разграбили. Ты ненавидишь аргосцев и думаешь, что эти сыны Геракла,– с саркастическим отвращением произнеся последние слова, он указал на Равных,– их враги. Опомнись! Что, ты думаешь, сделали бы спартанцы, захвати они твой город? То же самое, и еще хуже! Как поступили с моей страной, Мессенией, и со мной. Посмотри на мое лицо. Посмотри на свое. Ты убежал от рабства только для того, чтобы стать еще ниже раба!
Дектон был первым человеком из виденных мною, мальчиков и взрослых мужчин, кто совершенно не боялся богов. Он не ненавидел их, как некоторые, не строил им рож, как, я слышал, делали непочтительные вольнодумцы в Афинах и Коринфе. Дектон не признавал их существования. Их просто не было для него, и все. Это повергало меня в ужас. Я все смотрел, ожидая, что сейчас его поразит страшный удар с небес.
Теперь, по дороге домой из Антириона, Дектон (мне бы следовало сказать «Петух») продолжал свои разглагольствования, которые столько раз я уже слышал раньше. Что спартанцы оболванили меня, как и всех прочих; что они эксплуатируют своих рабов, дозволяя им подбирать крошки со своего стола, чуть-чуть возвышая одного раба над другими; что жалкая жажда каждого из этих несчастных достичь хоть какого-то положения в обществе удерживает их в подчинении.
– Если ты так ненавидишь своих хозяев,– спросил я, почему же во время сражения ты прыгал, как блоха, так безумно стремясь сам вступить в бой?
Я знал, что добавляю Петуху новую причину для раздражения. Он только что обрюхатил свою подружку по хлеву (так илоты называют своих случайных любовниц). Скоро ему предстояло стать отцом. Как тогда он сможет вырваться? Он же не бросит ребенка и не сможет бежать, волоча с собой девку с младенцем.
Дектон обругал одного из пастухов, который дал отбиться двум козам, и послал мальчишку назад – загнать заблудших обратно в стадо.
– Посмотри на меня,– заревел Дектон, снова догнав меня и шагая теперь рядом.– Я бегаю не хуже любого из этих спартанских увальней. Мне четырнадцать, но я один на один,побью любого двадцатилетнего. И тем не менее я плетусь здесь в этой дурацкой ночной рубашке и веду на поводке козу.
Он поклялся, что когда-нибудь украдет ксиэлу и перережет какое-нибудь спартанское горло.
Я сказал, что ему не следует говорить так в моем присутствии.
– А что ты сделаешь? Доложишь обо мне?
Я не мог донести, и он знал это.
– Клянусь богами,– сказал я ему,– если ты поднимешь руку на них, на кого-нибудь из них, я тебя убью.
Петух рассмеялся:
– Подними с обочины острую палку и выколи себе глаза, дружок. От этого ты не станешь лучше видеть, чем сейчас.
Войско дошло до границы Лакедемона у Ойона на заходе солнца второго дня, а до самой Спарты – еще через двенадцать часов. Гонцы опередили войско, и город уже два дня как знал, кто ранен, а кто убит. Уже готовились к похоронным играм – они должны были начаться через две недели.
Тот вечер и следующий день ушли на разгрузку обоза, чистку и приведение в порядок оружия и доспехов, замену древков у поломанных в бою копий, правку дубовых перекладин в гоплонах, разборку и складирование снаряжения возов, уход за вьючным и тягловым скотом. Нужно было проверить, должным ли образом каждое животное напоено, вычищено и загнано вместе со своими погонщиками-илотами по различным клерам – хозяйствам, где они работают. На вторую ночь Равные наконец вернулись на свои трапезы.
Обычно это был торжественный вечер после сражения, когда поминали павших товарищей, признавались доблестные поступки и осуждалось недостойное поведение, когда разобранные ошибки превращались в указания и тяжкий капитал сражения запасался для будущих надобностей.
Трапезы господ обычно представляют собой островки покоя и доверия, святилища, в которых любая беседа дозволена и скрыта от чужих ушей. 3десь после долгого дня друзья могут распустить волосы, высказать, как благородные мужи, истину своего сердца и даже – правда, всегда соблюдая меру,– впасть в размягчающее расслабление, утешив себя одной-двумя чашами вина.
Та ночь, однако, выдалась не для отдыха и веселья. Над городом тяжело нависали души двадцати восьми погибших. Тайный стыд воина – знать в глубине души, что мог бы действовать лучше, сделать больше и быстрее, меньше заботясь о себе самом. Безжалостная критика, направленная на самого себя, глодала кишки, невысказанная и затаенная. Никакие награды за отвагу и даже самая победа не в состоянии полностью ее заглушить.
Полиник подозвал к себе Александра и сурово обратился к нему:
– Ну, как тебе это понравилось? Он имел в виду войну.
Как ему понравилось быть там и видеть ее всю, неприукрашенную.
Вечер уже полностью вступил в свои права. Час элеклы прошел, подавали второе блюдо, дичь и пшеничный хлеб, и теперь шестнадцать Равных из сисситии Девкалиона, утолив голод, поудобнее устроились на своих жестких деревянных ложах. Теперь можно вызвать и поджарить на углях юнцов, прислуживавших на трапезе.
Александра поставили перед старшими – руки скрыты под плащом, глаза уставлены в пол, словно недостойны прямо смотреть в лицо Равным.
– Как тебе понравилось сражение? – допытывался Полиник.
– Меня чуть не стошнило,– ответил Александр.
На допросе мальчик сказал, что с тех пор не мог спать – ни на корабле, ни при пешем переходе домой. Если он хоть на мгновение смыкал веки, признал он, то снова с неубывающим ужасом видел сцены побоища, особенно – смертельную агонию своего друга Мериона. Сочувствие Александра, как он признал, вызвали как павшие герои собственного города, так и погибшие враги. Под особым давлением мальчик заявил, что война – это бойня, «варварская и нечестивая».
Господа за трапезой воодушевились. Они считали полезным в назидание молодости выбирать юнца или даже кого-нибудь из Равных и поносить его самым суровым и безжалостным образом. Это называется аросис – боронование. Цель его, как и физических избиений,– приучить к оскорблениям, закалить волю против ярости и страха, двух лишающих мужества зол, из которых складывается состояние, называемое каталепсис, одержимость. Достойный ответ – юмор. Нужно парировать оскорбление шуткой, и чем более грубой, тем лучше. Рассмеяться в лицо. Разум, способный сохранить ясность, не подведет воина в бою.
Но Александр не обладал подобным даром. Этого в нем не было. Все, что он мог,– это отвечать своим чистым звонким голосом с самой мучительной искренностью. Я наблюдал за этим со своего места прислуги, что слева от входа в трапезную, под высеченной надписью
Экзо тес фирас оуден -
«3а этими дверьми – молчание», то есть ни одного слова, произнесенного в этих стенах, нельзя повторять где-либо еще.








