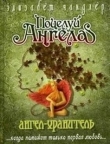Текст книги "Король среди ветвей (ЛП)"
Автор книги: Стивен Миллхаузер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 6 страниц)
Не эта ли его любовь к преодолению, страсть к поспешному превосходству – не они ли и подтолкнули его к предательству столь любимого им Короля? Ибо, если уж приходится предавать, так делать это надлежит на пределе возможного, достигая самого донышка своей честной натуры.
События приняли новый, пугающий оборот. И все же, коли обдумать их поспокойнее, разве не крылось это бедствие, подобно року, в самой сердцевине происходившего, лишь выжидая своего часа?
Вчера, через два дня после нашего разговора под деревом, мы с Тристаном и еще кое-кто вновь отправились на охоту. Охотясь же, мы разделились на две ватаги. Я провел утро в обществе рыцарей, убивших и заваливших шестерых тощих олених и лань, но не тронувших двух сильных самцов, ибо пора охоты на них истекла. Мы кормили собак хлебом, намоченным в теплой крови. А когда углубились, преследуя раненную олениху, в лес, с гребня ближней горы нас окликнул один из людей Тристана. От него-то мы все и узнали.
Тристан, отстав от охотников и следуя своим путем, увидел у ручья истекавшего кровью молодого рыцаря. На рыцаря напали четверо братьев, одним из коих был Фульк де ла Бланш Ланд, жестокий властитель здешних мест, – человек великанского сложения и беспощадной воли, который разъезжает, где хочет, охотится в лесу Тристана, убивает оленей, когда охота на них под запретом, и нападает на всякого, кто встает у него на пути. Тристан поскакал по следам шайки убийц. Он нагнал их на поляне и там началась отчаянная битва, в которой Тристан поразил трех братьев, но был ранен в бедро копьем, которое метнул в него Фульк де ла Бланш Ланд. Невзирая на рану, Тристан сражался, пока листва не покраснела от крови, и наконец, оставил Фулька де ла Бланш Ланд мертвым среди его мертвых братьев. Ослабевший от потери крови, Тристан все же смог взобраться на коня, который понес его в направленьи охоты. Люди Тристана отвезли его в замок.
Мы сразу вернулись туда – Тристан лежал в своем покое, оправляясь от ран.
Однако копейная рана нас обеспокоила. Поначалу она казалась обычной напастью – скверной раной вверху левой ноги. Но заражение ухудшило дело. Лекарь говорит, что стрекало копья было смазано ядом. Он омыл рану яичным белком и стянул ее полосками льняной ткани. Нога пугающе раздувается. У Тристана жар, кожа на ноге пожелтела. Ему недостает сил даже подняться с одра болезни.
Лекарь ограничил его стол ячменным отваром и, по ночам, молочком из тертого миндаля.
Есть опасения, что он умирает.
Я размышляю о Тристане, с благородным гневом в душе устремившемся на бой с Фульком де ла Бланш Ланд. Поступок, исполненный мужества и отваги, да, конечно, – одно из тех высоких, достойных песни менестреля дел, за которые к Тристану, где бы он ни появлялся, неизменно проникались любовью. И все же, не таилось ли в самом средоточии его смелости чего-то более темного и двусмысленного? Тристан, скованный узами мнимого брака, которые сам же он на себя и наложил, терзаемый страстным желанием, отчаянно ищущий выход, преследуемый воспоминаниями о неделях блаженства в лесу де ла Рош Соваж, – не ощутил ли он чего-то жутко влекущего в погибельной битве, битве, в коей смерть, быть может, наконец-то не отвергнет его?
Итак: Тристан ранен, Тристан умирает. Ибо ясно, что ему предстоит умереть, если рана его не исцелится.
Тристан попросил меня послать за Королевой. «Ты всегда был добр ко мне», – сказал он, сжав мою руку. Я в изумлении воззрился на него. Он ответил мне ласковым взглядом и еще раз попросил послать за Королевой.
Каждое утро слуги выносят Тристана на узкую береговую полоску песка под утесом, и он ожидает у моря Королеву. Тристан верит, что только она способна спасти его: она, уже исцелившая его однажды от раны – в Ирландии, куда он отправился искать ее расположения к Королю. Драма ожидания Тристана, драма его каждодневного спуска на берег, где он лежит на двух одеялах, под пурпурным, шитом золотом покрывалом, – голова покоится на шелковых подушках, лицо обращено к волнам, – еще и усиливается драмой парусов: Тристан условился, что если Королева приплывет на возвратном корабле, парус его будет белым, если же останется в Корнуэлле, – черным.
По утрам мы вглядываемся, затеняя ладонями глаза, в горизонт, и зеленые волны бухают у наших ног, и морская пыль солонит нам губы. После полудня, уже в покое Тристана, мы смотрим вниз, на морской простор; мы напрягаем глаза в стараниях различить линию, на которой встречаются море и небо, ту, где в любой миг может явиться парус, белый или черный – жизнь или смерть.
Как это похоже на Тристана – даже в тисках смерти он не теряет вкуса к разительным эффектам.
Он с каждым днем слабеет. Я думаю: вся жизнь его свелась теперь к ожиданию. И сразу напоминаю себе о Королеве, каждую ночь выходящей в плодовый сад, Королеве, больной от тоски, о том, как предвкушения лихорадят и изнуряют ее, – о ее жизни, в которой нет ничего, кроме будущего, как в жизни фанатичного монаха, отрекшегося от этого мира и целиком посвятившего себя царству небесному.
Тристан страстно ждет Королеву, живет лишь ради нее, ибо только она и способна его исцелить, но пока он лежит на берегу и выискивает на горизонте белый парус, смерть должна представляться ему не лишенной соблазнов. Если Королева появится и спасет его, что тогда? Назад к жизни, наполненной горечью и страданиями, к мнимому супружеству, к непереносимому расставанию, к неутолимой любви. Лежащий на берегу, оглушенный ревом волн, не ждет ли он, в самой глуби сердечной, черного паруса?
Изольда Белорукая, безмолвная и печальная, несет вместе с ним дозор на берегу, сидит при Тристане в его высоком покое.
Что сказать? Так хочется ничего больше не писать, отдаться утешениям молчания. Я успел полюбить море, бездумное падение валов, кружение птиц, морскую соль и брызги волн. Быть может, я просто устал от людей с их страстями? Но рука моя движется, некая сила понуждает меня продолжать, как будто слова, которые я пишу, принадлежат уж не мне, но одной лишь странице, которая ничего не ведает, ничего не понимает, ничего не испытывает, и уж тем паче страданий. Да будет так.
Вчера: день бури и солнца. Черные тучи и дождь во все утро, а после солнце пробило их копьями света. Тристан у себя в покое, слишком слабый, чтобы поднять голову. Я сидел рядом с ним, дивясь его почти мальчишечьей красоте – смерть, пожрав мускулы и плоть Тристана, сокрушив его крепость, словно бы воскресила в нем детство. В двенадцать, в четырнадцать лет ему, должно быть, приходилось неустанно доказывать свою силу, показывать, что прелестный отрок способен метнуть копье, убить вепря, поразить оленя, вогнать человеку меч между ребер. А теперь он лежит в постели, словно ребенок, охваченный жаром. Изольда Белорукая сидит на каменной скамье у окна и смотрит в море. Кожа моих рук ощущает удары валов. Я наблюдаю за нею, сидящей у окна. Юное тело ее насторожено и странно вяло – в любой миг способно оно прийти в стремительное движение или погрузиться в глубокий сон. Она тоже ждала – ждала, когда Тристан прикоснется к ней и поведет ее в жизнь. Внезапно тело ее напряглось, словно плашмя ударенное мечом. «Корабль!» – произнесла она. Лежащая на коленях ладонь ее сжалась в кулак.
Тристан попытался сесть, но упал, задыхаясь, на подушки. «Парус?». Голос его был мягок и слаб, хоть и я видел, что он пытается крикнуть. «Парус».
Изольда высунулась в открытое окно, словно пытаясь приблизиться к кораблю.
– Черный, – сказала она.
И я увидел изменение, происшедшее в Тристане, – страшное спокойствие взгляда, направленного на меня, пронзительную кротость и одиночество в нем. Я стиснул ладонь Тристана, но та не ответила на пожатие. Он так и смотрел на меня детскими, печальными, обреченными глазами.
– Вы уверены? – крикнул я – кто-то же должен был закричать – и, стряхнув с себя оцепенение горя, выпустил руку Тристана и подошел к окну. На горизонте виднелся маленький корабль. Сияло солнце. Парус белел под ним, точно снег.
– Тристан! – вскричал я – или только у меня одного в этой комнате и остался голос? – и на миг замешкался. Я взглянул на Изольду Белорукую. Она смотрела на меня со злобой, с такой ненавистью, что я вдруг испугался ее, как если б она была ворожеей, явившейся, чтобы проклясть всех нас проклятием ада. Взгляд ее был как нож, нацеленный мне в глаза. Я понял, что она сделала, и все-таки колебался – колебался, словно околдованный этим взглядом, – колебался всего только миг, прежде чем крикнуть: «Белый! Тристан! Парус белый!». И обнаружил вдруг, что стою у кровати, сжимая руку Тристана, выкрикивая цвет паруса, – я еще долго выкрикивал его и после того, как понял, что Тристан ничего не слышит.
Чудовищное колебание! Если бы я не помедлил, быть может, я спас бы его? И хоть я был напуган злобой Изольды – злобой, которая, неведомо для меня, тайком вызревала в душе нежной, печальной девочки, готовая прорваться в ее лицо, как несомненный знак болезни, – правда и то, что заколебался я до того, как повернулся к ней и поймал ее взгляд. Я был взят врасплох – удивлен белизной – сбит с толку: да. Но разве не правда также, что в разуме моем, в дальних его закоулках, куда не проникает свет, пряталось желание, чтобы парус оказался черным, разве не правда, что белизна его ужаснула меня обещанием дальнейшей любви, дальнейшей погибели, – что в истории Тристана и Королевы, я стоял уже на стороне смерти?
Об остальном рассказать можно быстро. Белый парус вырос в размерах, корабль вошел в гавань, Королева спустилась на берег. Она ворвалась в комнату – неистовая, лихорадочная, смятенная, – прекрасная, на мой взгляд, и ослепительно яркая, как если б она горела, привязанная к столбу. Она бросилась к Тристану, упала на него – грудью к груди, губами к губам, хоть Изольда Белорукая и стояла рядом. Она целовала мертвое лицо, разговаривала с Тристаном, пытаясь уговорами вернуть его назад, словно тот просто дразнил ее, дурной мальчишка. Никто и не подумал оторвать ее от Тристана. Изольда Белорукая ничего не сказала. Я ничего не сказал. Брангейна стояла в углу, наблюдая. Я знал, что Королева уже не поднимется с этого ложа. Она прорывалась к смерти, вплывала в блаженную смерть. Больше ей ничего желать не осталось.
Уже ночь. Я слышу, как за окном бьются о берег волны. Они опадают неровными грядами, то в одном месте, то в другом, так что море никогда не умолкает, а только звучит то громче, то глуше. Но время от времени, если вслушиваться очень старательно, можно различить и еще кое-что, скрытое между волнами или внутри их и возникающее внезапно, как из-за резко раздернутой завесы: ничего – ничего – совсем ничего.
Со дня моего возвращения в Корнуэлл прошло три недели. Король скорбит, двор уважителен и тих, но каждый ощущает себя освобожденным от бремени. Даже Король, горе которого глубоко, уже не тот, каким был перед моим путешествием. Тогда он походил на человека, которого день за днем избивают кулаками и оставляют валяться замертво, а он кое-как поднимается на ноги и его снова бьют до бесчувствия. Ныне же он скорбит с благородством – Король, несущий бремя свое ко двору и в капеллу, властитель, который достойно держится перед вассалами, человек, пребывающий у всех на виду, примеряющий горе свое к взглядам толпы. Скорбь его глубока, но соразмерна, она с готовностью вливается в древние формы, выкованные поколениям скорбящих. Слишком рано еще рисовать себе счастье Короля. Но не слишком – убывание его несчастья.
Смерть Тристана и Королевы переносится всеми легче, чем их жизнь.
При дворе произошли перемены. Модор назначен стражем королевской башни – пост, который он занимает с гордостью. Модор теперь стоит с остро отточенным ясеневым копьем у двери покоя, утраченную кисть заменяет ему набитая шерстью кольчужная рукавица. У Освина новый глаз – превосходный глаз из мрамора, изготовленный Одо Честерским и искусно вправленный в глазницу. На глазу написан яркий синий раек. Брангейна возвратилась в Ирландию: мне будет ее не хватать. Любимого сокола Тристана отдали старшему лесничему.
При дворе уже ходят разговоры о дочери герцога Парменийского. Говорят, она весьма прекрасна и наделена даром игры на арфе. Освин принадлежит к ярым сторонникам этого брака. И то верно: союз Корнуэлла с Парменией принесет нам блага неисчислимые.
После возвращения моего я редко разговаривал с Королем. Возможно, он меня избегает.
Что до меня, то я, утаивший, что видел Королеву с Тристаном гулявшими в плодовом саду, тайком совещавшийся со служанкой Королевы, угождавший Королеве с Тристаном и сохранявший их тайну, – я изменил моему Королю, моей стране и моему Богу. А замешкавшись у окна, изменил и Тристану с Королевой. Королева определенно ошиблась: человек я далеко не хороший. А мудрый ли – об этом судить не мне.
Если бы мне пришлось вновь пережить все это, не думаю, что я повел бы себя иначе.
Этим вечером я ходил по плодовому саду. Урожай собрали, запах раздавленных фруктов въедается в ноздри, как дым костра. Я шел по знакомым тележным путям, огибал стволы, нырял под ветви, за которые еще цеплялось несколько листьев, пересек ручей. Скоро ветви оголятся, ручей замерзнет, пути скроются под снегом. Но пока, порой поздней осени, в морозном воздухе ночи чуется что-то бодрящее; сучья хрустят под ногами, птицы посвистывают над головой, холодная вода потока щекочет камни. А я словно пытаюсь заблудиться в саду, хотя знаю его хорошо и навряд ли мне это удастся. Я дошел до участка, который признал не сразу, остановился и вдруг приметил движение в темноте, невдалеке от меня. А после увидел впереди, на тропе, Королеву с Тристаном. Они шли, приникая друг к другу, так медленно, что почти и не продвигались. Мантия ее влачилась по земле. И хоть я знал, что передо мною всего лишь обманный образ, извергнутый моей памятью, хоть я почти и не верю в призраков и посмеиваюсь над монашескими видениями, хоть две фигуры уже растворялись в сгущениях ночных теней, я вновь ощутил, как во мне воздымается ощущение тайны, восторженная нежность, исступленное блаженство, безмятежность, подобная ярости, чистая мощь всего происходящего, перед которой остается только одно – склонить главу. И я, замерев в темноте, склонил голову. Когда я поднял ее, то был в плодовом саду один. И повернул к замку.
В спальне моей было темно, лишь свет звезд, льющийся в не закрытое ставнями окно, освещал ее. И сразу же бросились мне в глаза очертания человека, сидевшего на краю кровати под наполовину раздернутой завесой. Ночь видений, Томас! Как мало, подумал я, мы знаем о мертвых. Может статься, они не исчезают целиком, но оставляют после себя тончайшие оболочки, которые льнут к привычным для нас вещам.
– Добрый вечер, Томас.
– Добрый вечер, господин мой. Я бродил по плодовому саду.
– Я тоже бродил по саду. Тебе это помогает заснуть?
– Временами, мой господин.
– Возможно, нам стоит побродить вместе, Томас? Возможно, вдвоем нам удастся отыскать сон, где б он ни прятался?
– Я был бы этому очень рад.
– Значит, завтра.
Он встал, массивная тьма в темноте: мой печальный Король. Уже приблизясь к двери, он повернулся ко мне.
– Я ведь приходил, чтобы поблагодарить тебя, Томас.
– Не понимаю, господин мой.
– За то, что ты оказался здесь. За то, что был со мной до конца.
– Господин мой, я… – я склонил в темноте голову. И слушал, как шаги его удаляются к опочивальне.
Один, во мраке, я вдруг стал неспокоен. Не стоило ль мне побродить подольше? И я принялся расхаживать в темноте, от кровати к окну и снова к кровати. Ночной воздух дышал стужей. Завтра наложу бревен в очаг. Завтра отправлюсь гулять с Королем. Мы пройдемся с ним по саду, пройдемся по двору, исходим в плодовом саду все тележные пути. Два старых воина, охотящихся на сон. Пока же сна у меня не было ни в едином глазу, острое беспокойство снедало меня. Встреча в плодовом саду, разговор с Королем, все это сделало меня не пригодным для сна. Я не мог придумать, чем мне заняться, – просто болтался взад-вперед в темноте, как проклятый, как дурак.
И вдруг я вспомнил о письменном столе.
Я запалил свечу, сел. Перо, выхваченное светом из темноты, рванулось ко мне, точно клинок меча. Скоблильный нож мой и плашка пемзы отбрасывали две резких тени. В пальцах покалывало. Нет, ко сну я не готов – я готов к словам. Я окунул перо в чернильный рожок, резким нырком кисти стряхнул с него каплю. Пододвинул свечу поближе и согнулся над страницей, склонив, будто в молитве, голову. Я, Томас Корнуэльский, принц пергамента, повелитель черных чернил, властитель всей вселенной, заклинатель душ, попечитель призраков, друг грушевого дерева и безмолвия волн, товарищ всех, кто бдит в ночи.