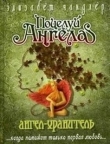Текст книги "Король среди ветвей (ЛП)"
Автор книги: Стивен Миллхаузер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Стивен Миллхаузер
Король среди ветвей
Королева – потаскуха, отрезать ей нос. Королева распутничает – сжечь ее. Вот такие интересные замечания можно услышать при дворе от тех, кому не по душе молодая супруга Короля. Правда, другие говорят о редкостной красоте Королевы. разумея при этом, что она преступна и ее хорошо бы повесить. Я же считаю, что юная Королева прекрасна и что за нею надлежит неотрывно приглядывать.
Я, Томас Корнуэльский, верный советник счастливого некогда Короля.
Король – мужчина полный сил; лицом приятен, плечист, мускулист и выглядит для своих сорока четырех молодо. Гладкий лоб, большие, темные глаза. Сильные руки, не раз доказавшие умение управиться и с конем, и с мечом, замечательны длинными пальцами, внушающими мысль об изяществе, даже изысканности, хоть мне и довелось однажды увидеть, как Король одним ударом кулака сломал человеку ключицу. Когда он, в подшитой горностаевым мехом малиновой мантии выступает пообок Королевы, вид силы, соединившейся с красотой, ласкает взгляд.
В Короле нет ничего достойного осмеяния.
Я заметил в нем одну перемену. До женитьбы на королеве Изольде Король прекрасно владел своим лицом: всякий, кто вглядывался в него, ничего не мог различить за гладким челом, широким простором щек, спокойным ртом и ясными, умными глазами. Ныне же в этом столь нами любимом лике проступают обожание, подозрительность, ревность, желание, внезапное сомнение.
Дамы двора непрестанно говорят о любви.
Любовь, твердят они, облагораживает сердце и возвышает душу. Любовь это божественный дар, позволяющий нам войти в Рай Земной, из коего мы были изгнаны по причине низменности нашей природы и каковой есть верный оттиск и отражение Царства Небесного. Я слышал, как супруга одного барона распространялась под вечер летнего дня о том, что любовь это очистительное пламя, пылающее лишь в высоких сердцах, и видел ту же самую баронессу, когда она, задрав выше талии юбку, подпирала в ночной темноте стену амбара, меж тем как галантный любовник ее, похрюкивая, точно боров, расточал ей знаки нежного внимания. Любовь, доводилось мне слышать от придворных дам, – не договор, крепимый жестокой властью закона, но вид духовного согласия, даруемого по свободной воле. Под этим они разумеют, что любовь возможна только вне супружества. Это те самые дамы, кои шепчутся насчет Королевы, провожают ее взглядами злобного порицания, сплетничают о племяннике Короля и ласково улыбаются своим мужьям, отдавая всякую минуту бодрствования приготовлению укромных свиданий с молодыми, полными жизненных соков любовниками.
Дамы двора весьма красивы собой.
Непосредственный источник придворных сплетен – Освин, сенешаль Короля. Это он первым донес Королю о взглядах, коими обмениваются Королева и королевский племянник. Сенешаль – верный слуга короны, искусный во всем, что касается до управления хозяйством, скрупулезный в отчетах, точный в речах, гордый, придирчивый, скрытный, до смешного благопристойный. Он неравнодушен к богатым отороченным белым мехом плащам, перстням с самоцветными камнями, золотым чашам. Слабостей у него две. Будучи сыном простого горожанина, возвысившимся при дворе вследствие дарований, неустанных трудов и неколебимой воли, он точит зуб на каждого, кто богат и высокороден. Сей недочет понуждает его чрезмерно переоценивать немалые свои достижения и усматривать пренебрежительность во взглядах, бросаемых на него любым из баронов. Вторая же слабость Освина проистекает из его непривлекательной внешности. Освин мужчина далеко не уродливый, однако черты его оставляют впечатление малоприятное: глаза малы и холодны, нос выдается вперед, один из передних зубов вырос под каким-то нелепым углом. Госпожа Фортуна, полагает Освин, обошлась ним нечестно, одарив, между тем, дураков земельными угодьями, наследственными титулами и ровными зубами. Вожделение, кое питает он к высокородным дамам, – по всему судя, ненасытимое, – выглядит отталкивающе. И никакие успехи удоволить его не способны.
Освин провожает Королеву взглядами, в коих нет места жалости. Похоть видна на его лице так ясно, как ножевая рана.
Легко решить, будто донос, сделанный Освином Королю, порожден оскорбленной гордыней и неутоленным желанием. Когда Королева улыбается сенешалю, ее серые, немного печальные глаза не видят его, обычно же она и вовсе проходит мимо Освина, на него не взглянув. Такая его незримость, пугающая прозрачность, должны уедать сенешаля свыше всякой меры. И все же, это объяснение, при всей разумности его, справедливо лишь до определенной точки. Вынося суждение касательно мотивов человека, подобного нашему сенешалю, не следует забывать и о его преданности короне; в послушании Освина сомнений никто никогда не питал. Докладывать Королю о любых признаках непорядка в доме, о любых поступках, не приличествующих вассалу или жене, – прямая обязанность Освина. И в этом смысле злобный донос его есть похвальное деяние преданного хозяину челядинца. Верно, впрочем, и то, что Освин всегда завидовал без меры любимому Королем племяннику.
Да и не может никто отрицать, что молодая Королева и Тристан находят удовольствие в обществе друг друга.
Красота Королевы поразительна, однако описать ее непросто. Изысканные веки, безупречные щечки, несравненные губы той или иной придворной дамы превосходят своим совершенством каждую из взятых по отдельности черт Изольды, и все-таки, соединяясь, они создают красу, равной которой нет при дворе. Гармония ли этих черт столь обольщает нас? Думаю, тайна ее красоты кроется в ином. Королеве, как и всякой прекрасной женщине, присуща отчужденность, холодок совершенства, какие усматриваешь в драгоценном камне или серебряном кубке. Подобная красота держит нас на расстоянии, холодит, а говоря по чести, немого отпугивает. В этом смысле можно было б сказать, что высшее выражение красоты есть ни что иное, как редкостная, загадочная форма уродства. Однако холодность королевиной красы превозмогает иная мощь – мощь несовершенства, неуправляемости. Ее светлые, заплетенные волосы, лишь намек на которые проступает на висках Королевы, там, где плат соединяется с чепцом, отливают такой золотистостью и уложены столь бесподобно, словно их выковал ударами молоточка золотых дел мастер, и все же, то там, то здесь пробивается наружу непокорная прядь и мерцает под солнцем. Вот эти-то пряди и надрывают нам сердце. Губы ее совершенны по форме, но, когда она улыбается, один уголок рта возносится вверх раньше другого. Внешний краешек левого века приспущен чуть ниже правого. Точеные ноздри, изваянные тонким резцом того же мастера, что покрыл двери нашего собора сценами Ветхого Завета, не в точности отвечают друг дружке. Когда же Королева смеется, пусть и негромко, в глазах и щеках ее проступает вдруг нечто такое, чего в них не было прежде – нечто, прорывающееся наружу, подобно сокрушительной силе.
Секрет королевиной красоты кроется в том, что ее подрывает.
Стоит ли удивляться, что злословие и клеветы соединили Тристана с Королевой? Они источают свет молодости, обезоруживая своею красой. Когда Король, Королева и Тристан выступают бок о бок, взгляды невольно соединяют юную Королеву с Тристаном, жестоко отделяя их от Короля. Верно и то, что Король официально просил Тристана любить и оберегать Королеву; когда Король совещается в главной зале с советниками или скачет за гончими в королевском лесу, она неизменно остается с Тристаном. Вдвоем прохаживаются они по саду Королевы или между деревьями вертограда, совершают верховые прогулки по лесу или беседуют в женских покоях над королевской опочивальней. И все это порождает злостные сплетни. Королева всегда при деле, говорят придворные дамы: ночью у нее один муж, днем другой. Им не дано понять, что именно любовь Короля к Тристану понудила его отдать возлюбленную Изольду под защиту племянника. Или они предпочли бы оставить ее открытой домогательствам сенешаля?
Тристан – человек чести. Он готов положить за Короля жизнь. Изольда выступает с ним рядом, опустив взоры. Пряди светлых волос ее перенимают сияние солнца.
Слишком много времени проводят они вдвоем. Не нравятся мне все эти слухи.
Нынче утром Король призвал меня в свой личный покой, что в северо-западной башне. Король одиноко сидел за шахматной доской, разложенной на маленьком столике. Он махнул рукой, предлагая мне сесть напротив, и, подумав, двинул на два квадрата вперед белую королевскую пешку. Длинные пальцы его помедлили, поглаживая искусно вырезанные на рукавах суроволикой пешки складки, прежде чем отпустить ее; из девяти наборов фигур, этот, резанный из моржовых клыков, Король любит больше прочих. Я двинул в ответ мою черную королевскую пешку. Он тут же подвинул на два квадрата свою ферзевую, предлагая мне жертву. И в этот миг, в глазах Короля проступило странное выражение, – он поднял руку, удерживая меня от хода. «Ну, Томас, – произнес он, – будь ты королем Корнуэлла, какого бы хода ты ожидал?».
– Будь я королем Корнуэлла, господин мой, я ожидал бы одного из трех ходов: взятия пешки, выхода моего королевского коня на клетку перед слоном или продвижения моей ферзевой пешки.
Король, хорошо играющий в шахматы, внимательно выслушал этот ничем не примечательный ответ. Он опустил взгляд на троицу пешек и снова поднял его на меня: «Я не забыл того, что ты сказал мне в тот день в саду».
Привязанность Короля к воспоминаниям, которой я вряд ли вправе ждать от него, всегда меня трогает. Ему – Принцу в отцовском замке – было тогда двенадцать. А мне двадцать – молодой человек, посвященный в рыцари, прошедший хорошую выучку в замке моего дяди и призванный обучить Принца владению мечом и диалектике. Мы часто играли с ним в шахматы в саду его матери, в беседке под сенью лип. И он любил вспоминать за шахматами ту давнюю историю.
– Ты указал мне на три пешки и сказал: «В них кроется последний ход всей партии, – если бы только мы могли его различить».
– Мы и могли бы его различить, но при двух условиях: если бы нам удавалось всегда точно предвидеть ход противника и если бы каждый наш ход неизменно был совершенным.
Король оттолкнул свое кресло назад и встал. Я тоже сразу поднялся на ноги. Партия завершилась. Он приблизился к окну, выходящему на плодовый сад и на лес, глянул без особого интереса вниз и отошел к гобелену, изображающему окровавленного оленя в окружении серебристых борзых.
– Как по-твоему, Королева несчастлива? – спросил он.
– Она выглядит очень довольной, господин мой.
– А, – отозвался он нетерпеливо. – Знаешь, Томас, я иногда думаю – молодая женщина, оказавшаяся при чужеземном дворе, в окружении чужих людей. Наверное, ей приходится нелегко! Я хочу, чтобы ты приглядел за ней. И дал бы мне знать, если ей будет – не по себе.
– Хорошо, господин мой.
– Я знаю, что могу на тебя положиться, Томас, – он повел рукой в сторону окна. – Взгляни! Хороший денек для охоты с соколом.
Сейчас уже ночь, а меня все давит странное чувство, и никак мне его не избыть. Смысл нашего разговора слишком мне ясен: Король желает, чтобы я следил за его супругой. Он сам не свой с тех пор, как сенешаль накляузничал ему.
Я бы и не заподозрил ничего в том, что Королева водит дружбу с Тристаном, которого сам Король попросил оберегать ее, – если бы не взгляды, которыми они порою обмениваются. Да и взгляды эти легко истолковать, как совершенно семейственные, ведь сам Король приказал им любить друг дружку. Возможно, они и любят друг дружку, как брат с сестрой, – Королева, попавшая в чужую страну, Тристан, лишившийся матери и отца? Благоговение перед мужем требует же, чтобы она почитала и его племянника. А Освин твердит, будто Изольда отдается Тристану в каждой кровати замка, на каждой из лестниц его, за стволом каждого дерева.
Ох, боюсь, что-нибудь да случится.
* * *
При дворе довольно людей, которых бесчестье Тристана только порадовало бы. Он всегда привлекал к себе пылких сторонников, особенно из рыцарей помоложе, однако чрезмерная любовь Короля к племяннику породила и тайных завистников. Кое-кто из баронов побаивается его воинской удали, кое-кому не дает покоя привязанность к нему Короля, кого-то еще возмущает, что Король так долго отказывался вступить в брак, желая оставить королевство племяннику. Разумеется, хватает и других, тех, кто готов к пылкой дружбе с Тристаном. Но и их порою охватывает, в самом средоточии преданности ему, потаенная усталость, какую ощущаешь в зашейке, слишком долго пролюбовавшись на великолепную башню.
Я не хочу сказать, будто Тристана не любят. Даже завистники и те, кто обижен, признают его отвагу, бесстрашие, чувство чести, любовь к товарищам. Рассказывают, как Тристан однажды, охотясь в королевском лесу, выехал к ручью. Спутники его опустились на колени, чтобы напиться, а между тем слуга Тристана протянул молодому своему господину единственную взятую им с собой, чтобы утолить жажду хозяина, бутылку вина. Тристан же, приняв бутылку, высоко поднял ее, воскликнул: «Вот так я пью!», – и вылил вино в поток, предлагая всем разделить его. Любовь Короля к Тристану столь глубока, что походит на любовь человека к собственной жизни.
Освин Гордец, Освин Похотливец – не единственный, кто сеет при дворе смуту. Его нередко видят в презренном обществе Модора. Из трех дворцовых карликов Модор – единственный, кто обладает влиянием. Модор! – надменный маленький уродец, тиран, хвастун, раболепный, мстительный, кичливый комок злорадства. Других карликов он жестоко третирует, гоняет их по пустячным поручениям, унижает перед гогочущими баронами. Грубое лицо его напоминает мне стиснутый кулак. Единственная страсть Модора – интрига. Бароны над ним потешаются, однако чувствуют себя в его обществе неуютно – многие верят, что он владеет искусством отравителя. Он клянется в приязни к Тристану, не скрывая, однако, мнения своего о том, что Король чрезмерно любит племянника; он ищет расположения Королевы, одновременно распуская сплетни о ней; верная служба Королю не мешает ему нашептывать приверженцам Тристана, что Король, женившись на Изольде Ирландской, лишил племянника обещанного наследства. Он предает всех и всем отвратителен. Почему же его присутствие терпят? Более чем терпят: многие старательно ищут общества Модора. В том ли тут дело, что праздный двор, наскучив привычными удовольствиями, желает развлечься гротеском? Или причина глубже? Модор – квинтэссенция всего низкого и уродливого, что можно сыскать в душе придворного. Увидеть его, значит ощутить трепет узнавания, возникающий, когда нечто сокровенное выходит на свет, а следом – немедля – ощутить свое нравственное превосходство.
Когда я вижу Освина и Модора, стоящих там, где изгибается, образуя угол, сложенная из песчаника стена, или идущих бок о бок по тропе на опушке леса, меня, должен признаться, охватывает благодарность Творцу, который в мудрости и благодати божественного замысла Своего устроил все так, что конец жизни становится и началом расплаты за нее – и содеял смерть неизбежной.
Кое-что случилось – пугающее и неожиданное, – нечто такое, чего я понять не в силах. Ночь уже поздняя, я сижу за письменным столом, сжимая в дрожащих пальцах гусиное перо. Нужно справиться с собой и успокоиться. Успокойся, Томас! Пиши, это тебе поможет.
Есть у меня такое обыкновение – выйти, перед тем, как улечься на ночь, из крепости через потерн и прогуляться по плодовому саду. Ряды деревьев – айвы и груш, вишен и слив, яблонь и персиков – раскинулись за замковой стеной по целым акрам. Там и сям, расчищенные пути, достаточно широкие, чтобы в пору сбора урожая по ним проходили телеги, тянутся до самого палисада из острых кольев, окружающего вертоград, отделяя его от парка. За этим частоколом течет река, она здесь не шире ручья, а на другом ее берегу возвышается еще один частокол, помечающий границу королевского леса. Теплой летней ночью, при полной луне, приятно сойти с дорожки и пройтись между деревьями сада. Здесь, вдали от голосов замка, среди черной листвы и белого лунного света, молчание мира нарушают лишь крик совы, мышиный шорох в траве да дальний лай борзой на замковом дворе, и душу твою переполняет покой.
Нынче ночью я забрел дальше обычного – шел, не разбирая тележных путей, огибая стволы стволы, пересекая ручьи, выходя на открытые, еще не засаженные места и снова ныряя под ветви, – беспокойство томило меня, я хотел устать посильнее, чтобы после сразу заснуть. Надо мной синело и светилось ночное небо, – похожее на темно-синий кусок витражного стекла, вставленный в окно церкви, за которым блистает солнце. Я дошел до участка сада невдалеке от частокола и вдруг приметил какое-то движение в темноте и услышал звуки шагов. Я остановился, положил ладонь на рукоять меча и хотел уж окликнуть идущих, но тут увидел между деревьями две их фигуры.
Я сразу понял, что это Тристан с Королевой. Они шагали так медленно, что почти и не продвигались, и, казалось, слегка приникали друг к дружке. Руки обоих были прижаты к бокам, лица повернуты одно к другому, его пуще, чем ее. Тени ветвей рябили их лица и спины. Мантию Королевы, влачившуюся по земле, украшали серебряные лунные серпики. Волосы покрывал простой чепец, стянутый на висках золотым ободком. Время от времени они выступали из перелива теней под внезапный свет луны, а там тьма вновь поглощала обоих. Наблюдая за этой медленной, точно во сне, прогулкой средь безмолвия лунной ночи, я словно бы позабыл, что стал свидетелем изменнического, наказуемого смертью деяния, и чувствовал – впрочем, мне трудно точно сказать, что же я чувствовал. Да, я чувствовал, что вижу нечто, присущее ночи – эманацию ночи, такую же верную, как неспешное падение лунного света на листья и ветви. В ней присутствовало что-то древнее, более древнее, чем супружество, чем рыцарство, что-то, принадлежащее только ночному мраку. А потом я как будто ощутил исходящую от этих почти и не дышащих теней восторженную нежность, исступление ночи, разрастание самого существа каждого из них, как если бы темное небо могло в любой миг расколоться и излить ослепительный свет; и я отвернулся – там, на моем посту соглядатая, – словно ко мне обратились с укором.
Когда влюбленные удалились настолько, что уже не могли услышать меня, я тихо повернулся и направился к замку.
Забыл упомянуть об одной подробности. При первом взгляде на эту чету, я, повинуясь инстинкту старого воина, схватился за рукоять меча. А когда, наконец, поворотился, чтобы уйти, обнаружил, что ладонь моя так и лежит на рукояти – пальцы стиснуты, вены вздуты, и мышцы ноют, словно я только что вложил после сечи меч в ножны.
Кричат петухи, спал я совсем не много. Хорошо, когда в голове твоей скачут мысли, пройтись ранним утром по двору замка. В полусвете зари конюхи чистили стойла. Куры и петухи важно выступали вокруг. Слуга выливал в помойную яму ночной горшок. Другой, тащивший охапку тростника, чтобы устлать им полы главной залы, поднялся по внешней лестнице от основания центральной башни и скрылся в арочном проходе. Большерукая прачка замачивала в большом деревянном корыте простыни и скатерти, которые она после отколотит и вывесит подсыхать под утренним солнышком. За дверью кузницы различался кузнец, осматривавший поломанную тележную ось. Я недолго помедлил у кречатни, вглядываясь сквозь оконце в соколов на насестах, в длиннокрылых сапсанов и кречетов, в короткокрылых больших ястребов и перепелятников. Потом миновал колодец с воротом и бадьей; куры, хлопая крыльями, вспархивали на его каменную закраину. На псарнях кормили борзых, у прохода на кухню стояли один на другом бочонки с живыми цыплятами, перед дверью амбара возвышались кипы сладко пахнущего сена, а на высокой стене рисовались в сереньком небе дозорные с арбалетами, сменявшие ночную стражу.
После полудня я повидался с Королем, но ничего ему не сказал. Он ждал от меня определенных слов, однако я говорил о другом. И сам осуждал себя за молчание, чреватое изменой Короне. Язык мой связало не сомнение насчет того, обязан ли я все рассказать, но мысль, что, если я все расскажу, то стану повинным в неверности Королеве, которая мне не нравится, и Тристану, которого я люблю далеко не так, как Короля.
Долг мой ясен. Ясен ли мой долг? Доказательств прелюбодеяния у меня нет. Тристан – защитник Королевы, он часто остается с нею наедине. Король с самого начала потворствовал их близости и множество раз восхвалял Тристана за его внимание к Королеве. И что я знаю? Что Тристан с Королевой поздней ночью прогуливались по плодовому саду. Стоит ли, не подумав, сообщать об этом ревнивому, полному подозрений Королю да еще при нынешних-то злословии и сплетнях? Одно мое слово, слово доверенного советника и наперсника Короля, весит гораздо больше злобной болтовни дураков. Возможно также, хоть вероятия тут и мало, что для той ночной прогулки существовали причины, которые, будучи понятыми, прольют на все новый свет. Я не видел ни поцелуя, ни даже объятия, – они лишь держались за руки, точно дети. Может статься, необычный час, мой взбудораженный ум, чары лунного света, не в меру усердное воображение, простительное, но до крайности недостоверное ощущение близкой беды, соединясь, заставили мою душу проникнуться в ту ночь тревожными чувствами. Мне следует тщательно наблюдать за ними и собрать свидетельства более основательные, прежде чем отправляться с докладом к Королю.
Двор охвачен безумием приготовлений, отвлекших внимание от Королевы. Через неделю на наших берегах высадится граф Тулузский с двумястами, примерно, людьми свиты, все они проживут у нас несколько дней перед тем, как направиться в Лондон. Освин горько сетует на нехватку места в конюшнях, на то, что гости подъедят наших свиней, баранов и каплунов, убьют нашего оленя, совратят наших женщин и разорят казну; послушать его, так нас ожидает нашествие саранчи. Король смеется и приказывает ему не скупиться. На юго-западном поле за стенами замка уже возводят новые конюшни. Чистятся спальни, разбиваются шатры, коней отдраивают скребницами, стены завешивают шелками. Телеги с сеном и зерном стекаются к нам от окрестных поселян. Все только и говорят, что о празднествах, играх и всякого рода потехах. Король целыми днями охотится; Тристан навещает женские покои или прохаживается с Королевой и ее служанкой по королевину саду. Из высоких окон выставляются в ожидании дамы, норовя уловить на горизонте первые знаки движения.
Может быть, я ошибся? Они гуляют вдвоем, как лучшие друзья. В суматохе приготовлений никто о них не говорит. Лишь время от времени, выйдя из-за угла конюшен или из затененного арочного прохода, я вижу сенешаля, глядящего им вслед, когда они вступают в башню, одна из дверей которой ведет в сад Королевы.
Люди из Тулузы только и знают дела, что петь, танцевать да играть с утренней зари и до полуночи. Смех доносится из каждого шатра, с каждого лестничного марша. Может, они принадлежат к народу детей, эти рыцари и благородные господа из Тулузы? Нет, сказать по правде, ничего детского в них не усматривается: они – из народа, который ставит утехи полнокровной молодости превыше всего. Это видно по их модам, играм и забавам. Их менестрели воспевают любовь – и только любовь. Никогда не поют они о битвах, павших героях, бедствиях и разрушениях. Эти певцы словно и не ведают ничего о нашем суровом мире, с его горькими горестями и печалями; для них существует лишь молодость, зефиры да зеленые почки мая. Графу пятьдесят, неестественно светлые волосы его отпущены до плеч. Говорят, что он музыкант и ученый, поэт, искусный игрок в шахматы, смелый, прекрасно владеющий мечом боец, любитель охоты, никогда не путешествующий без своих ловчих птиц. Он подарил Королю серебряный кувшин в виде конного рыцаря; когда кувшин наполняешь водой и наклоняешь, она льется из конской пасти. Граф и Король проводят часы, склоняясь над шахматной доской или гуляя по королевскому саду. Сегодня они большой компанией охотились в лесу. Общество Графа идет Королю на пользу, отвлекая его от ревнивых мыслей.
Прошлой ночью графский менестрель пел в главной зале, сидя на скамеечке и играя на арфе. Песни были все сплошь любовные, написанные самим Графом. Потом менестрель Короля, опустившись на подушку и наигрывая на виеле, спел о приключениях Рейнарда Лиса и Изенгрима Волка, и ему много хлопали. А сразу за тем, когда певец поднялся, уступая место жонглеру ножами, произошло нечто странное. В залу вступил незнакомец, одетый пилигримом – широкополая шляпа, плащ с капюшоном, ясеневый посох в руке и арфа за спиной. Вшитые в плащ морские раковины, указывали, что владелец его побывал в дальних странах; пилигрим был бос. Приблизясь к Графу он испросил разрешения спеть двору песню. Граф, к испугу Короля, рассмеялся и попросил пилигрима потешить, если ему то по силам, общество. Вслед за тем незнакомец снял со спины арфу и заиграл печальную песню – да с таким превосходным искусством, что все слушали его в безмолвном изумлении. Когда он закончил игру, все с великой силой захлопали в ладоши, Граф же, явно растроганный, сказал, что никогда еще не слышал подобной игры, и спросил незнакомца, где тот выучился столь отменно играть. «В стране Лион», – ответил пилигрим и немедля сбросил свой бедный плащ, под которым оказалось у него пурпурное платье с серебряными отворотами на рукавах, украшенными золотыми львами, и снял шляпу пилигрима, явив всем – Тристана. Много тут было шума и радости, ибо эти люди из Тулузы ничего так не любят как душу смелую и веселую.
* * *
С последней моей записи прошли лишь два дня, а как все переменилось. Случилось несчастье. Граф и его свита уехали нынче на заре. Дух проказ и веселья уничтожен, к братской теплоте отношений Графа и Короля, примешался холодок. Королева отказывается покидать свой покой, и Король расхаживает по саду в одиночествею Модор сидит в тюремной башне. Винить должно отчасти и меня, поскольку я чуял беду, но не сумел предугадать, откуда та на нас свалится.
Мысль о мимах исходила, кажется, от Графа, хоть я и не могу поверить, что Модор не направлял его с самого начала. Да оно и не важно. Любовь Графа к удовольствиям, присущая ему жажда забав, детское упоение сюрпризами, готовность выслушать любое предложение – все это не могло не составить соблазна для Модора с его острым чутьем на возможности, пристрастием к махинациям и помыслами, направленными лишь на одно – на продвижение к собственным целям. А два графских карлика снабдили его и средством. То были карлики-шуты, каких часто видишь в свитах великих вельмож, карлики, лишенные гордости и достоинства, не протестуя принимающие свою низкую участь – служить игрушками тем, кто сильнее их. Имена оба носили пренелепые – Роланд и Вирсавия. Они были мужем и женой, искусными в мелких увеселениях, таких как жонглерство, всякого рода кувырки да мимические представления. Для него была специально сработана маленькая арфа, для нее – колокольца. Модор таких карликов всегда на дух не переносил; с этими же быстро сдружился. Представление назначили на вечерний час, когда Король и Граф, вернувшись с охоты, отужинают.
Для сцены соорудили помост, вокруг расставили кресла для Короля, Королевы, Графа и высоких вельмож обоих дворов; прочие расселись по скамьям в глубине зала. Железные канделябры с сальными свечами освещали сцену, голую, если не считать единственной скамеечки с лежавшей на ней изумрудно-зеленой шелковой подушкой. При появлении Модора поднялись ахи да шепотки. Зарвавшаяся дерзость его изумила меня. Он был одет в блестящую малиновую мантию, отороченную горностаевым мехом – безошибочно узнаваемое облачение Короля. На голове красовалась корона из золоченой бумаги. Со смехотворной величавостью он приблизился к скамеечке и уселся на сей трон, скрестив на груди руки. Тут появились Роланд и Вирсавия. Он – в расшитой самоцветными каменьями мантии Тристана; с плеч Вирсавии свисала усеянная лунными серпами мантия Королевы. Волосы ее, лишь частью укрытые чепцом, были выкрашены в кричащую, отблескивающую желтизну – желтизну горького смеха. Малютка Тристан подвел маленькую Изольду к королю Модору, и тот, взяв ее за руку, вытаращился на карлицу с придурковатым обожанием. Когда же Тристан пошел прочь, она повернулась и, глядя ему в спину, простерла руку в жесте томления. Но вот Карлик-Король и Карлица-Королева покидают сцену, и на ней возникает пробирающийся между невидимых древес Карлик-Тристан. Он останавливается, прикладывает к уху ладонь. Появляется Изольда. Страстное объятие. Позади меня Король резко втянул ртом воздух. На сцену выходит, по-прежнему в короне, король Модор. Он видит любовников и сбрасывает мантию, на нем белая с золотом накидка поверх кольчуги. Он обнажает меч. Появляются двое карликов-слуг и поспешно облачают его для схватки: надевают на руки кольчужные латные рукавицы, скрепляют кольчужные поножи, стягивают шнуровку шлема, вручают щит. Изольда-Вирсавия беззвучно вскрикивает, прижимает к щекам ладони и убегает. Карликовый Тристан также сбрасывает мантию: на нем ажурная накидка поверх мерцающего кольчатого доспеха. Отблески свечей играют на покрывающих его руки сцепленных железных кольцах. Карлики-слуги одевают и его.
Схватка на мечах между Модором и Роландом была разыграна превосходно. Короткие, но опасные клинки их вспыхивали в свете свечей, тонко звенели, рассыпая дождем искры. Оба мастерски владели мечом – Роланд выглядел более грациозным, более изобретательным и сдержанным, он словно бы не снисходил ни до каких движений сверх абсолютно необходимых; Модор же бился люто, умело, упорно, по временам опасно, предпочитая выпады ярые и неожиданные. Глаза его поблескивали, точно волшебные камни. Внезапно острие модорова меча врубается, рассекая кольчугу, в плечо Тристана. По железным кольцам струится кровь. Карлик Тристан падает на одно колено, роняет меч. И, словно обезумев от этой картины, Модор неистово ударяет его клинком, – так что кольца взвиваются в воздух. И тут же вонзает меч в бок Тристана. Карлик Тристан падает ниц и недвижно лежит на сцене.
Тогда Модор наклоняется, чтобы расшнуровать на нем шлем, и быстро стягивает оный. Потом забрасывает щит за спину, где тот повисает на ремешке, поднимает обеими руками меч и одним ударом отсекает Роланду голову. Дамы вскрикивают, Граф поднимается из кресла. Модор, чье лицо искажено безумным торжеством, хватает голову, из коей хлещет кровь за волосы, приближается к Королю и замирает, держа перед ним поднятую голову. Королева вскрикивает, закрывает ладонью глаза и боком валится в обморок. Король, выйдя из оцепенения, неловко ловит Королеву, пытается встать. На сцене пронзительно вопит Вирсавия.