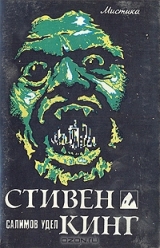
Текст книги "Салимов удел"
Автор книги: Стивен Кинг
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– О?
– Как ни жутко это звучит, мистер Формен, должно быть, настоящий художник. Честное слово, мальчик выглядел так, будто только что уснул. Будто в любой момент он может открыть глаза, зевнуть и… не понимаю, отчего люди настаивают на том, чтобы их пытали отпеванием у открытого гроба. Это… варварство.
– Ну, это уже позади.
– Да, наверное. Он хороший мальчик, правда, Генри?
– Марк? Лучше некуда.
Марк улыбнулся.
– По телевизору есть что-нибудь?
– Сейчас посмотрим.
Остальное Марк пропустил мимо ушей – серьезный разговор закончился. Он поставил модель на подоконник сохнуть и затвердевать. Еще пятнадцать минут, и мать крикнет, чтобы он собирался спать. Мальчик достал из верхнего ящика шкафа пижаму и стал переодеваться.
Строго говоря, мать напрасно тревожилась за психику Марка. Он вовсе не был таким уж чувствительным. Да и с чего бы – несмотря на свое изящество и рассчитанность движений, Марк почти во всех отношениях был обыкновенным ребенком. Крупных травм в его жизни не было, а несколько школьных драк отметин не оставили. С равными себе он ладил и, в общем, хотел того же, чего они.
Если что-то и ставило его особняком, так это запас отстраненности и холодного самоконтроля. Никто не внушал ему этого – похоже, таким Марк родился. Когда его любимого пса, Чоппера, сбила машина, Марк настоял на том, чтобы вместе с матерью пойти к ветеринару. Ветеринар сказал: «Собаку надо усыпить, мальчик мой. Понимаешь, почему?», и Марк возразил: «Вы не станете его усыплять, вы собираетесь насмерть отравить его газом. Да?» Ветеринар подтвердил. Марк ответил: валяйте, но сперва поцеловал Чоппера. Ему было жалко пса, но он не заплакал – глаза у мальчика никогда не были на мокром месте. Мать поплакала, но через три дня Чоппер стал для нее туманным прошлым. А для Марка пес никогда не уйдет в туманное прошлое. Вот чем ценно не плакать. Плакать – то же самое, что вылить все свои чувства на землю с мочой.
Исчезновение Ральфи Глика потрясло Марка, как потрясла затем смерть Дэнни, но он не испугался. Он слышал, как один мужик говорил в магазине, что Ральфи, наверное, попал в лапы к извращенцу. Что такое извращенцы, Марк знал. Сделав свое черное дело, они душат тебя (в комиксах малый, которого душат, всегда говорит «а-ррр-гхххх») и закапывают в гравийном карьере или под досками заброшенного сарая. Если бы когда-нибудь извращенец предложил конфетку Марку, тот пнул бы его в яйца и пустился наутек.
– Марк? – проплыл вверх по лестнице голос матери.
– Я, – ответил он и опять улыбнулся.
– Будешь умываться, не забудь про уши.
– Ладно.
Он быстро оглянулся на стол, где расположилась живая картина, его монстры: Дракула, разинув рот, угрожал клыками лежащей на земле девице, Сумасшедший Доктор тем временем пытал на дыбе какую-то даму, а мистер Хайд подкрадывался к идущему домой старичку, – и, гибко двигаясь, спустился вниз поцеловать родителей и пожелать им доброй ночи.
Понять смерть? Конечно. Это – когда чудовища, наконец, добрались до тебя.
В половине девятого Рой Макдугалл въехал на ведущую к своему вагончику подъездную дорожку. Старый форд два раза газанул и вырубился. Трубка насадки дышала на ладан, дворники не работали, а в следующем месяце придет счет. Ну и машина. Ну и жизнь. В доме выл ребенок, а Сэнди орала на него. Доброе старое супружество.
Он выбрался из машины и упал, споткнувшись об одну из каменных плит, которые с прошлого лета собирался превратить в дорожку от подъездной аллеи к крыльцу.
– Чтоб ты сгорела, срань, – пробурчал он, зверем глядя на плитку и потирая подбородок.
Рой был изрядно пьян. Он ушел с работы в три и с тех пор пил у Делла с Хэнком Питерсом и Бадди Мэйберри. Хэнк совсем недавно разжился деньгами и, похоже, настойчиво пропивал все свои дивиденды, каковы бы они ни были. Рой знал, что Сэнди думает о его приятелях. Ладно, пускай задерется в доску. Пожалеть человеку пару кружек пива в субботу и воскресенье, даже если он ломал спину на проклятой трепальной машине всю неделю и в выходные сверхурочно, чтобы подзаработать! Чего это она стала такая святая? Весь день сидит дома, и всех дел у нее – прибрать в доме, побазарить с почтальоном да приглядеть, чтоб пацан не заполз в духовку. Хотя в последнее время она не шибко-то за ним смотрит. Позавчера проклятый мальчишка даже свалился с пеленального столика.
А ты где была?
Я держала его, Рой. Но он так крутился…
Крутился. Да уж.
Рой прошел к двери, все еще кипя. Ушибленная нога болела. От нее-то сочувствия хрен дождешься. И чем же она занимается, пока он надрывает пупок на этого фигова мастера? Читает журналы и жрет вишни в шоколаде. Или смотрит по ящику мыльные оперы и жрет вишни в шоколаде. А не то треплется по телефону с подружками и жрет вишни в шоколаде. Тут не то что рожа, тут и жопа опрыщавеет. Очень скоро не разобрать будет, где у этой бабы что.
Рой толкнул дверь и вошел.
То, что он увидел, поразило его сразу и сильно, пробив пивной туман, как шлепок мокрым полотенцем: орущий голый младенец с разбитым носом, у Сэнди, которая держит его на руках, безрукавка запачкана кровью, повернутое к Рою лицо съежилось от страха и неожиданности. Пеленка на полу.
Рэнди, у которого синяки под глазами побледнели совсем немного, поднял ручки, словно умоляя о чем-то.
– Что тут происходит? – медленно спросил Рой.
– Ничего, Рой. Он просто…
– Ты его стукнула, – невыразительно сказал он. – Он не хотел лежать спокойно, пока ты его пеленала, и ты его треснула.
– Нет, – быстро возразила Сэнди. – Он перекатился и стукнулся носом, вот и все. Вот и все.
– Надо бы всыпать тебе по первое число.
– Рой, он просто приложился носом…
Его плечи обвисли.
– Что на ужин?
– Гамбургеры. Горелые, – сварливо сказала она и вытянула из «рэнглеров» подол блузки, чтобы вытереть у Рэнди под носом. Рой заметил валик жира, которым обрастала жена. Сэнди так и не похудела после родов – ей было наплевать.
– Пусть заткнется.
– Он не…
– Пусть заткнется! – заорал Рой, и Рэнди, который по сути дела уже успокоился и только всхлипывал, опять раскричался.
– Дам-ка я ему бутылочку, – сказала Сэнди, поднимаясь.
– И принеси пожрать. – Он начал стаскивать джинсовую куртку. – Господи, что в этом доме за помойка? Что ты делаешь целый день? Баклуши бьешь?
– Рой! – сказала она потрясенным тоном. Потом хихикнула. Безумная злость на ребенка, который не желал спокойно лежать в пеленках и не давал Сэнди завернуть их, отошла в туманную даль. Такое могло произойти в очередной серии «Медицинского центра» или рассказываться в одной из тех историй, что она читала днем.
– Неси ужин, а потом приберись в этом затруханном доме.
– Хорошо. Хорошо, конечно. – Она вынула из холодильника бутылочку, дала Рэнди и посадила его в манеж. Тот принялся апатично сосать, глядя из-за решетки маленькими кружками глаз то на мать, то на отца.
– Рой?
– М-м? Чего?
– У меня кончилось.
– Чего?
– Сам знаешь, чего. Хочешь? Сегодня вечером?
– А как же, – сказал он. – А как же. – И опять подумал: та еще жизнь, будь я проклят. Та еще жизнь!
Когда зазвонил телефон, Нолли Гарднер слушал по приемнику рок-н-ролл и хрустел пальцами. Паркинс отложил журнал с кроссвордом и сказал: «Прикрути чуток, ладно?»
– Конечно, Парк. – Нолли убавил звук и снова принялся хрустеть пальцами.
– Алло? – сказал Паркинс.
– Констебль Джиллеспи?
– Да.
– Говорит агент Том Хэнрахэн, сэр. Я получил информацию, которую вы запрашивали.
– Очень хорошо, что вы так скоро отозвались.
– Выудили мы для вас немного.
– Да это ладно, – сказал Паркинс. – Что ж вы узнали?
– В мае 1973 года Бен Мирс привлекался к расследованию после дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. В штате Нью-Йорк. Никаких обвинений не выдвигали. Мотоцикл разбился. Жена Мирса, Миранда, погибла. По словам свидетелей, он ехал медленно. Проба на алкоголь отрицательная. По всей видимости, просто угодил на мокрое. Политические взгляды тяготеют к левым. Участник Принстонского мирного марша 1966 года. Произнес речь на антивоенном ралли в Бруклине в 1967 году. Марш на Вашингтон в 1968 и 197О. Больше на него ничего нет.
– Что еще?
– Курт Барлоу – «Курт» с «т». Британец, но скорее натурализованный, чем по происхождению. Родился в Германии, в 1938 году бежал в Англию явно преследуемый гестапо. Более ранние сведения о нем получить невозможно, но ему, вероятно, восьмой десяток. Настоящая фамилия – Брайхен. С 1945 года занимался в Лондоне импортом-экспортом, однако толком ничего выяснить нельзя. Стрейкер является его партнером с тех самых пор, и, похоже, именно он имеет дело с клиентами и общественностью.
– Да?
– Стрейкер – уроженец Британии. Пятьдесят восемь лет. Отец – манчестерский столяр, делал кабинеты. Оставил сыну кругленькую сумму, но и сам Стрейкер не сидел сложа руки. Восемнадцать месяцев назад они с Барлоу запросили визы на длительное пребывание в Соединенных Штатах. Вот все, что у нас есть. Да, еще: по отношению друг к другу у них могут быть определенные странности.
– Да, – вздохнул Паркинс. – Об этом я уже думал.
– Если помощь еще нужна, можно запросить о ваших новых негоциантах ЦРУ и Скотланд-Ярд.
– Да нет, все отлично.
– Кстати, Мирса с двумя другими ничто не связывает. Если только эта связь не кроется где-то глубоко.
– Ладно. Спасибо.
– Ну, мы тут для того и сидим. Нужна будет помощь, свяжитесь с нами.
– Так и сделаем. Спасибо вам.
Он положил трубку обратно на рычаг и задумчиво поглядел на нее.
– Кто это был, Парк? – спросил Нолли, прибавляя звук радио.
– Кафе «Экселлент». Нет у них ветчины с ржаным хлебом. Ни крошки. Одни тосты с сыром да яичный салат.
– Если хочешь, у меня в столе немного взбитой малины.
– Нет, спасибо, – сказал Паркинс и опять вздохнул.
Свалка все еще тлела.
Вдоль ее края, принюхиваясь к аромату тлеющих отбросов, прохаживался Дад Роджерс. Под ногами хрустели пузырьки и флакончики, а при каждом шаге вверх поднимался рыхлый черный пепел. В пустыне свалки, повинуясь капризам ветра, то гас, то разгорался широкий пласт углей, напоминая Даду то открывающийся, то закрывающийся огромный красный глаз… глаз великана. То и дело со слабым приглушенным взрывом лопались аэрозольные баллончики или электрические лампочки. Когда утром Дад поджег мусор, оттуда вылезло огромное множество крыс – столько он еще не видел. Он пристрелил полных три дюжины и, когда, наконец, сунул пистолет в кобуру, тот был на ощупь горячим. Вдобавок эти сволочи были крупными – некоторые добрых два фута длиной от кончика носа до кончика хвоста. Занятно, один год их больше, другой – меньше. Связано с погодой, что ли. Если и дальше так пойдет, придется обсыпать все отравой – а этого Дад не делал с шестьдесят четвертого года. Сейчас одна крыса ползла под козлами для пилки дров, служившими преградой огню.
Вытащив пистолет, Дад щелкнул предохранителем, прицелился и выстрелил. Выстрел взметнул перед крысой фонтанчик земли, обсыпав шерсть. Но крыса не бросилась наутек – она просто поднялась на задние лапы и посмотрела на Дада глазами-бусинками, которые в пламени отсвечивали красным. Иисусе, да среди них есть и храбрецы!
– Покедова, мистер Крыс! – сказал Дад и тщательно прицелился.
Ба-бах. Крыса повалилась и задергалась.
Дад подошел к ней и пнул тяжелым рабочим башмаком. Крыса несильно тяпнула кожаный ботинок зубами, бока едва заметно раздувались и опадали.
– Сволочь, – мягко сказал Дад и раздавил крысе голову. Он присел на корточки, посмотрел на нее и обнаружил, что думает про Рути Крокетт, которая ходит без лифчика. Когда она надевает облегающий свитер на пуговках, то отчетливо видны маленькие соски, встающие торчком от трения о шерстяную ткань, и, если сумеешь добраться до этих сисек и совсем немного потискаешь – помните, совсем немного – шлюшка вроде Рути в два счета кончит.
Дад взял крысу за хвост и раскачал наподобие маятника.
– А пришлось бы тебе по вкусу найти в своем пенале старину мистера Крыса? – Непреднамеренная двусмысленность такой идеи развеселила его, и он визгливо хихикнул, а странно скособоченная голова задергалась и закивала. Зашвырнув крысу высокий, чрезвычайно тонкий силуэт шагах в пятидесяти справа.
Дад вытер ладони о зеленые штаны и, подняв руки над головой, широким шагом двинулся к этому силуэту.
– Свалка закрыта, мистер.
Человек повернулся к нему. В красном свечении умирающего пламени обозначилось скуластое задумчивое лицо. В белых волосах – пряди стальной проседи, придающие лицу странную возмужалость, шевелюра откинута назад с высокого воскового лба, как у пианистов-педиков. Глаза ловили и удерживали красное свечение углей, отчего казались налитыми кровью.
– Да? – вежливо спросил мужчина. В безукоризненном выговоре звучал некий слабый акцент. Этот тип мог быть лягушатником, а может – немцем или венгром. – Я пришел посмотреть на пламя. Это так красиво.
– Да, – согласился Дад. – Вы тутошний?
– Да, я недавно поселился в вашем прелестном городке. Много крыс застрелили?
– Да уж не одну. В последнее время тут расплодились миллионы этих сучат. Слышьте, вы – не тот малый, что прибрал дом Марстена, а?
– Хищники, – сказал мужчина и заложил руки за спину. Дад с удивлением отметил, что субъект этот выряжен в костюм с жилеткой и всем прочим. – Обожаю ночных хищников. Крыс… сов… волков. Тут в округе есть волки?
– Не-е, – ответил Дад. – Пару лет назад один мужик изловил койота в Дорхэме. И есть еще стая диких псов, которые гоняют оленей…
– Псы, – сказал мужчина и сделал презрительный жест. – Низкие твари, которые при звуке чужих шагов съеживаются от страха и принимаются выть. Годятся только на то, чтобы скулить да пресмыкаться. Выпустить им всем кишки, вот что я вам скажу. Выпустить им всем кишки!
– Ну, так я никогда об них не думал, – отозвался Дад, неуклюже отступая на шаг. – Всегда приятно, коли есть с кем выйти… но знаете, треп трепом, а
– Несомненно.
Тем не менее незнакомец вовсе не собирался уходить. Дад подумал, что всех обскакал. Весь город гадает, кто стоит за тем типом, Стрейкером, а Дад первый узнал это… ну, может, после Ларри Крокетта, но тот – мужик с головой. Когда Дад в следующий раз приедет в город за патронами к Джорджу Миддлеру, у которого на роже вечно написано «глядите, какой я правильный!», он как бы между прочим обронит: «Познакомился на днях с этим новым малым. С кем? Да ты знаешь. С тем, что взял дом Марстена. Довольно приятный. По разговору вроде из немцев-венгерцев.»
– А привидения в вашем старом доме водятся? – спросил он, поскольку старикан
– Привидения! – старикан улыбнулся, и в этой улыбке было что-то весьма тревожное. Так могла бы улыбаться барракуда. – Нет, никаких привидений. – На последнем слове он сделал легкое ударение, словно наверху могло водиться что-то похуже.
– Ну… уже делается поздно, да вообще… вам взаправду пора уже двигать, мистер…
– Но с вами так приятно беседовать, – сказал старикан, в первый раз поворачиваясь к Даду анфас и заглядывая ему в глаза. Его собственные глаза оказались широко расставленными и еще сохраняли каемку угрюмого огня свалки. От них никак нельзя было оторваться, хоть глазеть и невежливо. – Ничего, если мы поговорим еще немножко, а?
– По мне, так ничего, – голос Дада прозвучал откуда-то издалека. Глаза, в которые он смотрел, ширились, росли, пока не превратились в окаймленные пламенем темные ямы – ямы, куда можно свалиться и утонуть…
– Благодарю вас, – сказал старикан. – Скажите… горб причиняет вам неудобство при работе?
– Нет, – откликнулся Дад, по-прежнему как бы издалека. Он вяло подумал: «Хрен мне в жопу, коли дед меня не гипнотизирует. Навроде того малого с Топшэмской ярмарки… как его бишь? Мистера Мефисто. Тот усыпит, да и заставляет проделывать какие хочешь смешные штуки – вести себя, будто ты цыпленок, или носиться по-собачьи, или рассказывать, что случилось на дне рождения, когда тебе было шесть. Загипнотизировал старину Реджи Сойера. Гос-споди, как же мы хохотали…»
– А может, горб неудобен вам в других отношениях?
– Нет… ну… – Дад зачарованно глядел незнакомцу в глаза.
– Ну, ну, – деликатно пустился тот в уговоры. – Мы же друзья, разве не так? Поговорите со мной, расскажите…
– Ну… девушки… понимаете, девушки…
– Конечно, – успокоил Дада старикан. – Девушки смеются над вами, правда? Они ничего не знают о вашей мужественности. О силе.
– Верно, – прошептал Дад. – Смеются. Она смеется.
– Кто это «она»?
– Рути Крокетт. Она.. она… – Мысль улетела прочь. Дад не препятствовал. Потеряло значение все, кроме покоя. Прохладного, полного покоя.
– Что же, она подтрунивает над вами? Хихикает украдкой? Пихает подружек в бок, если вы идете мимо?
– Да…
– Но вы хотите ее, – настаивал голос. – Разве не так?
– О да…
– Вы получите ее, я уверен.
В этом было что-то… приятное. Где-то вдалеке Даду слышались приятные голоса, выпевающие грязные слова. Серебряный перезвон… белые лица… голос Рути Крокетт. Дад просто видел, как она прикрывает ладошками грудки, и те выпирают из острого мыса выреза спелыми белоснежными полушариями. Она шепчет: поцелуй их, Дад… укуси их… пососи… Ему казалось, что он тонет. Тонет в окаймленных красным глазах старика.
Незнакомец приблизился. Дад все понял и приветствовал это, а когда пришла боль, она оказалась драгоценной как серебро и неподвижно-зеленой, как вода в темных глубинах.
Рука дрожала и, вместо того, чтобы ухватить бутылку, пальцы сшибли ее со стола. Тяжело стукнув о ковер, бутылка улеглась там, с бульканьем выпуская на зеленый ворс хорошее шотландское виски.
– Срань! – сказал отец Дональд Каллахэн и потянулся вниз поднять бутылку, пока не все пропало. Собственно, пропадать было особенно нечему. То, что уцелело, он опять поставил на стол (на порядочном расстоянии от края) и убрел на кухню поискать под раковиной тряпку и бутылочку с чистящей жидкостью. Ни в коем случае нельзя, чтобы мисс Корлесс нашла возле ножки стола в его кабинете пятно от пролитого виски. Ее добрые сочувственные взгляды так трудно терпеть в долгие утренние часы, когда чувствуешь легкое недомогание…
Ты хочешь сказать, похмелье.
Да, отлично – похмелье! Само собой, давайте немного приоткроем правду. Узнай правду – обретешь свободу. Да шут с ней, с правдой.
Он нашел флакончик чего-то под названием «Э-Вэп», что сильно напоминало звук мощной рвоты («Э-Вэп!» – крякнул старый пьяница, справляя нужду и одновременно освобождаясь от ленча), и забрал его в кабинет. Каллахэна не качало. Почти совсем. «Смори, нач-чальник: щас я пройдусь до светофора прям по этой белой линии.»
Каллахэн был импозантным мужчиной пятидесяти трех лет. Тронутые серебром волосы, ирландские морщинки вокруг чистых голубых глаз (теперь прошитых крохотными красными стежками), твердый рот и еще более твердый, слегка раздвоенный подбородок. Иногда, глядя поутру в зеркало, он думал: «вот стукнет шестьдесят – откажусь от сана, подамся в Голливуд и стану зарабатывать на жизнь, изображая Спенсера Трейси.»
– Отец Флэнаган, где ты, когда ты нам нужен? – пробормотал он, присел на корточки возле пятна, прищурившись, прочел инструкцию на этикетке бутылочки и вылил на пятно два колпачка «Э-Вэп». Пятно немедленно побелело и запузырилось. Каллахэн с некоторой тревогой воззрился на это, потом снова сверился с этикеткой. – Для трудновыводимых пятен, – прочел он вслух сочным раскатистым голосом, сделавшим его столь желанным в приходе после долгих странствий в духе отца Хьюма, старого бедняги, шамкающего вставными зубами: «разрешите разместиться минуток на семь-десять».
Каллахэн подошел к окну кабинета, выходившему на улицу Вязов с церковью Святого Андрея через дорогу.
«Ну, ну, – подумал он, – вон как – воскресный вечер, и я снова пьян.»
Благослови меня, Отче, ибо я грешил.
Если не торопиться и продолжать работать (долгие одинокие вечера отец Каллахэн посвящал своим «Заметкам», над которыми трудился уже без малого семь лет, предположительно – ради книги о католической церкви в Новой Англии, но то и дело к нему закрадывалось подозрение, что книга эта так и не будет написана. Собственно говоря, «Заметки» возникли одновременно с проблемой спиртного. Книга Бытия, 1:1 – «В начале было виски и отец Каллахэн рек: „Да будут «Заметки.“), то едва ли осознаешь, что хмель медленно, но верно овладевает тобой все глубже. Можно выучить руку не сознавать убывающую тяжесть бутылки.
Со времени моей последней исповеди прошел самое малое один день.
Одиннадцать тридцать. Выглянув в окно, Каллахэн увидел однообразную тьму, нарушаемую только круглым пятнышком света от уличного фонаря перед церковью. В любой момент в этот круг мог ворваться, вращая тросточкой, пляшущий Фред Эстэйр – цилиндр, фрак, короткие гетры и белые туфли. Его встречает Джинджер Роджерс, и они вальсируют под мелодию «Я всем им снова запустил космический „Э-Вэп-блюз“.
Он прислонился лбом к стеклу, позволив красивому лицу, которое по крайней мере в некоторых отношениях было его проклятием, обвиснуть вытянутыми линиями безумной усталости.
Я пьян, я паршивый священник, Отче.
Закрыв глаза, он увидел тьму исповедальни, почувствовал, как пальцы заставляют окошко скользнуть назад, приподнимая завесу над всеми тайнами души человеческой, ощутил запах старческого пота и потертого бархата, которым обиты скамеечки для преклонения колен, слюна обрела щелочной привкус.
Благослови меня, Отче, ибо я (сломал фургон брата, ударил жену, подглядывал в окошко к миссис Сойер, когда она раздевалась, лгал, мошенничал, у меня были похотливые мысли, я, я, я) ибо я грешил.
Каллахэн открыл глаза, но Фред Эстэйр еще не появлялся. Может быть, когда пробьет полночь? Его город спал. Кроме…
Каллахэн взглянул наверх. Да, там горел свет.
Он подумал про девчушку Боуи – нет, Макдугалл, теперь ее фамилия Макдугалл – тоненьким тихим голоском признающуюся, что бьет своего ребенка, а когда он спросил, часто ли, то почувствовал (просто услышал), как у нее в голове закрутились колесики, превращая дюжину в пять раз или сотню – в дюжину. Печальное извинение для человека. Младенца он крестил сам. Рэндолл Фрэтас Макдугалл. Зачатый на заднем сиденье машины Ройса Макдугалла, наверное, во время второго фильма на двойном сеансе в кинотеатре под открытым небом. Крошечное кричащее созданьице. Каллахэн задумался: знает ли – или догадывается – маленькая Макдугалл, как ему хотелось бы протянуть за окошко обе руки и схватить трепещущую по другую его сторону душу, выкручивая и сжимая ее, пока не раздастся крик. Твоя епитимья – шесть подзатыльников и хар-роший пинок под зад. Иди своей дорогой и больше не греши.
– Скучно, – сказал Каллахэн.
Но в исповедальне было не просто скучно. Не одна только скука претила священнику, подталкивая в вечно расширяющийся клуб «Ассоциация католических священнослужителей бутылки и рыцарей „Катти Сарк“. Дело было в мертвом, ровно и сильно работающем двигателе церковной машины, бесконечно снующей к небесам и крушащей по дороге все мелкие грешки. Дело было в традиционном признании зла англиканской церковью, сейчас больше озабоченной злом социальным. В том, как эта церковь убеждала пожилых леди, чьи родители говорили на европейских языках, будто искупление – в четках. В том, что в исповедальне действительно присутствовало зло, такое же реальное, как запах старого бархата. Но это зло было лишенным рассудка, слабоумным, чуждым жалости и не дающим передышек. Кулак, бьющий по детскому личику. Вспоротая складным ножом покрышка. Кабацкая драка. Бритвы, вставленные в яблоки на День Всех Святых. Постоянные пресные ограничения, какие только способен извергнуть разум человеческий из лабиринта своих изгибов и поворотов. Господа, оптимальное средство от того-то – лучшие тюрьмы, лучшие полицейские. Лучшие агенты социальных служб. Лучший контроль за рождаемостью. Лучше сделанные аборты. Лучшая техника стерилизации. Господа, если мы вырвем этот зародыш, кровавое сплетение рук и ног, из утробы – он так и не вырастет, чтобы до смерти забить молотком старушку. Дамы, если мы привяжем этого человека к стулу со специальной проводкой и зажарим, как свиную отбивную, ему уже больше не представится случай замучить еще нескольких мальчиков. Соотечественники, если этот евгенический билль пройдет, я смогу гарантировать вам, что никогда больше…
Черт.
Вот уже некоторое время – может быть, целых три года – правда относительно своего состояния делалась для Каллахэна все яснее и яснее, набирая ясность и определенность, как несфокусированная картинка при регулировке – до тех пор, пока каждая линия не станет резкой и отчетливой. Каллахэн томился по Сложной Задаче. У нынешних священников были свои: расовая дискриминация, освобождение женщин (и даже «гэев»), бедность, безумие, беззаконие. От них ему делалось неуютно. Он чувствовал себя легко только с теми из озабоченных социальными проблемами священников, кто активно выступал против войны во Вьетнаме. Теперь, когда их дело устарело, они уселись обговаривать марши и ралли так, как пожилые супружеские пары вспоминают свой медовый месяц или первый вояж на поезде. Но Каллахэн не был священнослужителем ни новой, ни старой формации: он обнаружил, что ему отведена роль приверженца традиций, который больше не может доверять даже своим основополагающим постулатам. Ему хотелось возглавить дивизию в армии… кого? Господа? добродетели? добра? (от обозначения суть не менялась) и выйти на битву со ЗЛОМ. Он желал действий и боевых позиций. Чтобы забыть о том, что такое торчать на холоде у супермаркета, раздавая листовки «Бойкот салату» или «Объявим виноградную забастовку!» Он хотел увидеть ЗЛО с откинутым саваном лжи и хитрости, чтобы отчетливо различить все его черточки. Он хотел биться со ЗЛОМ один на один, как Мохаммед Али с Джо Фрэзером, как кельты с саксами, Иаков с Ангелом. Каллахэн хотел, чтобы эта борьба была чистой, без примеси политики, которая подобно уродливому сиамскому близнецу катила на закорках любого социального вопроса. Он желал всего этого с тех самых пор, как захотел стать служителем Господа, а зов этот достиг Каллахэна, когда в возрасте четырнадцати лет его воспламенила история Святого Стефана, первого христианского мученика, забитого до смерти камнями и узревшего в момент своей кончины Христа. В сравнении с привлекательностью борьбы и, может быть, гибели в служении Господу, привлекательность небес была весьма туманной.
Но битв не было. Только пустячные стычки с неопределенными результатами. А у ЗЛА оказалось множество лиц, все – пустые, и подбородки чаще блестели от сочащейся слюны, чем наоборот. По сути дела, отца Каллахэна принуждали сделать заключение, что в мире нет никакого ЗЛА, кроме обычного зла – или, возможно, (зла). В подобные минуты он подозревал, что и Гитлер – не что иное, как опустошенный бюрократ, а сам Сатана – умственно неполноценный с зачаточным чувством юмора из тех, кому представляется невыразимо смешным скормить чайке засунутую в хлеб петарду. Великие социальные, нравственные и духовные битвы веков уварились до Сэнди Макдугалл, которая лупит в уголке своего сопливого пацаненка, пацаненок же вырастет и станет лупить в уголке своего собственного отпрыска – бесконечная жизнь, аллилуйя, толстый ломоть арахисового масла. Пресвятая Дева, эй, как к добру вернуть людей?
Тут речь шла не только о скуке, все это ужасало тем, что значило для любого осмысленного определения жизни и, не исключено, царствия небесного. Вечность церковного лото, увеселительные аттракционы и небесный стриптиз?
Каллахэн оглянулся на часы на стене. Было шесть минут первого – и все еще никаких следов Фреда Эстэйра с Джинджер Роджерс. Даже Мики Руни. Однако у «Э-Вэп» было время подействовать. Теперь он пропылесосит, миссис Корлесс не придется жалостливо смотреть на него, и жизнь пойдет своим чередом. Аминь.







