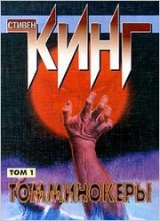
Текст книги "Корабль, сокрытый в земле"
Автор книги: Стивен Кинг
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
– Идет, – согласился Гарденер. – Не откажусь. Приступим. Пропустив несколько рюмок в баре гостиницы, Рону решил, что двое таких отличных ребят, как он и Гард, могли бы отправиться куда-нибудь, где обстановка повеселее, чем здесь. – Полагаю, душа требует чего-нибудь... – сказал Рон. – Правда не уверен, но...
– Бог не жалует трусов, – закончил за него Гард. Рон опрокинул рюмку, хлопнул его по плечу и спросил счет. Просмотрев его, расплатился, добавив солидные чаевые. – Танцуйте, барышня! – И они вышли.
Тусклое вечернее солнце ударило Гарденеру в глаза, и он внезапно понял, что эта затея добром не кончится.
– Слушай, Рон, пробормотал он. – Думаю, может быть, я лучше...
Каммингс обнял Гарда за плечи; румянец выступил на его неизменно бледных щеках, сонные голубые глаза возбужденно блестели (Гард отметил, что теперь Каммингс выглядит почти как Тод из Тод Холла после покупки машины); он прошептал: "Джим, не бросай меня сейчас. Перед нами лежит весь Бостон, такой неизведанный и заманчивый, сияющий, как эякуляция первых юношеских желаний, грез..."
Гард просто захлебнулся от смеха.
– Почти по Гарденеру в стиле Гарденера – мы все приходим в этот мир, чтобы познать неведомое и испытать любовь, – сказал Рон.
– Бог не жалует трусов, – отозвался Гард. – Возьми такси, Ронни.
Он вскинул глаза: в небе, прямо над ним, большая черная воронка, надвигающаяся как раз на него; того гляди, втянет его внутрь и унесет. Хотя, конечно, не в страну Оз.
Такси затормозило. Водитель спросил, куда им надо ехать.
– В страну Оз, пробормотал Гарденер. Рон пояснил.
– Он имеет в виду местечко, где можно выпить и развлечься. Можешь что-нибудь предложить?
– Конечно, – ответил шофер.
Гарденер обнял Рона за плечи и прокричал:
– Эх, гулять, так гулять, чтоб чертям было тошно!
– Выпьем за это, – поддержал Рон.
2
На следующее утро Гарденер, проснувшись, обнаружил себя в ванне с холодной водой. На нем был выходной костюм – тот самый, который он опрометчиво надел вчера, отправляясь с Роном Каммингсом на поиски приключений, – теперь он прилип к Гарду, как вторая кожа. Он осмотрел свои руки: пальцы белые и вялые, как заснувшая рыба. Он пролежал в ванне довольно долго. Должно быть, когда он туда забрался, вода была горячей. Впрочем, он не помнит.
Он открыл сток. На туалетном столике стояла бутылка бурбона; полупустая бутылка, заляпанная каким-то жиром. Гарденер взял ее в руки; судя по запаху, это жир жареного цыпленка. Его больше интересовал аромат, исходящий из самой бутылки. Не делай этого, пронеслось в голове, однако он припал ртом к горлышку, даже не останавливаясь на этой мысли. Сознание померкло.
Когда Гарденер снова опомнился, он стоял посреди спальни, держа в руке телефонную трубку и догадываясь, что он только что набрал номер телефона. Чей? Он терялся в догадках, пока Каммингс не снял трубку. Судя по голосу, Каммингс раскис куда больше него. Если это, конечно, возможно.
– Что мы там вытворяли? – Гарденер услышал свой голос. Так бывает всегда, когда этот проклятый ураган подхватывает его; даже если сознание не покидает его, все окружающее воспринимается им как-то со стороны, он бывает, что ли, чуть не в себе. Ему все время кажется, что он плавает в своей собственной голове, как надувная игрушка в тазу с водой. Что-то вроде раздвоения личности. – Сколько глупостей мы выкинули?
– Глупостей? – повторил Каммингс и замолчал. Гарденер предположил, что он думает. Хотелось бы надеяться... А может быть, он просто потрясен содеянным. Гарденер почти окоченел.
– Да ничего такого, – вымолвил наконец Каммингс, и Гарденер вздохнул с облегчением. – Вот только с моей головой что-то неладно, просто на части раскалывается. Иисусе!
– Ты уверен? Ничего? Совсем ничего? Ему вспомнилась Нора.
"Застрелили вашу жену, а?" – прозвучал в его сознании чей-то голос – голос комического героя. Ну и дельце.
– Ну-у... – протянул Каммингс и замолчал. Гарденер стиснул трубку.
– Что ну? – Какой же яркий свет в комнате, так и режет глаза. Почти как вчера, когда они выходили из бара.
Что-то ты сделал. У тебя начался очередной запой, и ты сделал очередную глупость. Или безумство. Или преступление. Ты ведь собирался держать себя в руках, побороть это наваждение? А что, ты действительно думал, что сможешь?
Какие-то обрывки из старых кинолент навязчиво крутились у него в памяти.
Злобный эль Команданте: Завтра, после захода солнца, вы, сеньор, будете мертвы. Вы видите солнце в последний раз!
Храбрый американец: Ну что ж, но ведь ты-то останешься лысым всю свою оставшуюся жизнь.
– Что же я сделал? – спросил он Рона.
– Ты пустился в спор с какими-то ребятами в баре, – хихикнул Каммингс. О! Господи, когда они покатывались со смеху, ты обиделся, представь себе. Ты ведь помнишь этот бар и тех ребят, правда, Джим?
Он сказал, что не помнит. Если напрячься, вспоминается местечко братьев Смит. Солнце как раз опускалось в красную мглу; это было в конце июня, в... Когда? В восемь-тридцать? Четверть девятого? Где-то часов через пять с того момента, когда они с Роном пустились во все тяжкие. Он мог вспомнить томительное мычание какой-то популярной группы... Теперь вспоминается яростный спор об Уоллесе Стивенсе с Каммингсом, перекрикивание шума в зале дансинга, упоминание о чем-то, касающемся Джона Фогерти. Это был последний пласт памяти, до которого Гарденеру удалось докопаться.
– Ну, ты помнишь: забегаловка с плакатом "Валон Дженнингс – в президенты" во всю стену, – уточнил Каммингс. – Мы перехватили там пинту-другую.
– Не помню, – растерянно отозвался Гарденер.
– Ну, ты же там вовлек в спор пару ребятишек. Слово за слово, и обстановка накалилась. Короче, завязалась драка.
– Так я ввязался в драку? – уныло поинтересовался Гард.
– Ты, ты, – жизнерадостно подтвердил Каммингс. – И поэтому-то нас и вышвырнули за дверь. Я думаю, мы дешево отделались, по правде говоря. Ты солидно разозлил их, Джим.
– Это касалось Сибрука или Чернобыля?
– Черт, да ты все помнишь!
– Помнил бы, так не спрашивал бы у тебя.
– Вообще-то говоря, ты затронул обе темы. – Каммингс колебался. – Ты в порядке, Гард? Что-то ты пал духом.
В самом деле? Между нами говоря, Рон, я попал в ураган. Меня все крутит и вертит, и нет ни конца ни края.
– Все хорошо.
– Вот и славно. Кое-кто надеется, что ты помнишь, кому ты стольким обязан...
– Тебе, например?
– И никому другому. Знаешь, парень, я плюхнулся на тротуар, как кит на отмель; не вижу свою задницу в зеркале, но, должно быть, зрелище что надо. Я думаю, не хуже полотна Малевича. Но ты хотел вернуться и обсудить то, как дети в окрестностях Чернобыля умирают от лейкемии пяти лет от роду. Ты хотел рассказать, как некоторые ребята готовы разнести весь Арканзас, как они пикетируют атомные электростанции. А тех, кто просмотрел неполадки в реакторе, их надо сжечь заживо, как ты выразился. Ставлю в заклад мой Ролекс, что они были взбешены. Только пообещав тебе, что мы еще вернемся и оторвем им головы, я смог усадить тебя в такси. Заманив тебя в номер, я наполнил ванну. Ты сказал, что все в порядке. Судя по всему, ты собирался принять ванну, а затем позвонить своему приятелю... Бобби, кажется.
– Это скорее приятельница, – машинально ответил Гарденер. Он массировал правый висок свободной рукой.
– И хорошенькая?
– Симпатичная. Правда, не сногсшибательная. – Внезапная мысль, нелепая, но совершенно определенная – Бобби в беде – пронеслась в его сознании стремительно, как бильярдный шар по зеленому сукну стола. И также быстро исчезла.
3
Он медленно прошел к стулу и сел, массируя теперь оба виска. Атомки. Конечно, это были атомки. Что еще? Если это не был Чернобыль, это был бы Сибрук, если это не был Сибрук, это был бы Тримайл-Айленд, и если это не был Тримайл-Айленд, это был бы Янки в Уисказет или, что могло случиться на заводе Хэнфорда в штате Вашингтон, если бы никто вовремя не заметил, что использованные стержни, сложенные снаружи в неподготовленной канаве, готовы взлететь в небо.
Сколько случаев могло бы быть?
Выработавшие топливо стержни, сваленные в большие горячие кучи. Они думали, что проклятье Тутанхамона это хиханьки? Брат! Жди, пока какой-нибудь археолог-двадцать-пятого-века не откопает заряд этого дерьма! Ты пытался рассказать людям о сплошной лжи, о неприкрытой, голой лжи, о том, что атомные электростанции готовы убить миллионы и превратить огромные пространства земли в стерильные и безжизненные. И ты получал взамен пустой вытаращенный взгляд. Ты обращался к людям, жившим то при одной администрации, то при другой, и чиновники, выбранные ими, произносили одну ложь за другой, затем лгали о лжи, и когда та ложь бывала обнаружена, лжецы говорили: "О, боже, я забыл, прошу прощения". И люди, выбравшие их, поступали как христиане и прощали. Невозможно поверить, сколько их было, норовящих действовать так, если не вспомнить, что П.Т.Бернам говорил о необычайно высоком происхождении простолюдина. Они смотрят вам прямо в лицо, когда вы пытаетесь сказать им правду, и сообщают вам, что вы полны дерьма, американское правительство никогда не лгало, не лгать – это то, что сделало Америку великой. "О дорогой Отец, имеются факты, я породил их своим маленьким вопросом, я не могу умолчать, что это был я, и что поделать, я не могу лгать". Когда вы пытаетесь говорить с ними, они смотрят на вас так, будто вы бормочете на иностранном языке. Прошло восемь лет с тех пор, как он почти убил свою жену, и три – с тех пор, как они с Бобби были арестованы в Сибруке, Бобби – по общему обвинению в нелегальной демонстрации, Гард по более специфическому – владение незарегистрированным нелицензированным огнестрельным оружием. Остальные позабавились и разошлись. Гарденер сидел два месяца. Его адвокат сказал, что ему повезло. Гарденер спросил адвоката, знает ли он, что сидел на бомбе замедленного действия и вялил свое мясо. Адвокат спросил, как насчет психиатрической помощи. Гарденер спросил адвоката, как насчет того, чтобы заткнуться.
Но он был достаточно осторожен, чтобы не участвовать больше ни в каких демонстрациях. В любом случае хватит. Он воздержался от них. Они отравляли его. Однако, когда он пил, его мысли неотвязно возвращались к теме реакторов, стержней, замедлителей, невозможности затормозить цепную реакцию, если она началась.
К атомкам, другими словами.
Когда он выпил, его бросило в жар. АЭС. Проклятые атомки. Это было символично, да, конечно, не надо быть Фрейдом, чтобы догадаться: то, против чего он действительно протестовал, был реактор в его собственной душе. Что касается сдержанности, Джеймс Гарденер имел плохую тормозную систему. Там, внутри, сидел некий техник, который страстно желал бы воспламениться. Он сидел и играл всеми дурными переключателями. Этот парень не был по-настоящему счастлив, пока Джим Гарденер не доходил до китайского синдрома.
Проклятые говеные атомки.
Забудь их.
Он пытался. Для начала он пробовал думать о сегодняшнем ночном чтении в Нортистерне – забавная шалость, спонсором которой была группа, называвшая себя Друзьями Поэзии, – название, которое наполняло Гарденера опасением и трепетом. Группы с такими названиями обычно состоят исключительно из женщин, называющих себя леди (в большинстве своем с голубыми волосами, что не оставляет сомнений относительно их возраста). Леди этого клуба предпочитали быть более осведомленными о работах Рода Маккьюэна, нежели Джона Берримена, Харта Крейна, Рона Каммингса или такого старого доброго пьяного психованного скандалиста и бабника, как Джеймс Эрик Гарденер.
Выбирайся отсюда. Гард. Никогда не имей дела с "Поэтическим Караваном Новой Англии". Никогда не обращай внимания на Нортистерн, Друзей Поэзии или суку Маккардл.
Выбирайся отсюда прямо сейчас, пока не случилось что-то скверное. Что-то по-настоящему скверное. Потому что, если ты задержишься, что-то по-настоящему скверное проявит себя. На луне – кровь.
Но будь он проклят, если бы предпочел бежать назад в Мэн, поджав хвост. Кто угодно, только не Он.
Кроме того, здесь имелась сука.
Ее имя было Патриция Маккардл, и, возможно, она была сукой мирового класса, Гард никогда не встречал таких.
– Иисус, – сказал Гарденер и закрыл ладонью глаза, стараясь убрать нарастающую головную боль, зная, что имеется только один род медицины, который смог бы ему помочь, и зная также, что именно этот род медицины может сотворить ту самую по-настоящему скверную штуку.
И также понимая, что это "знание" не даст ничего хорошего вообще, через некоторое время спиртное начало литься, а ураган кружиться.
Джим Гарденер теперь уже в свободном падении.
4
Патриция Маккардл была основным сотрудником "Поэтического Каравана Новой Англии" и его главным тараном. Ее ноги были длинными, но худыми, ее нос аристократическим, но слишком длинным и острым, чтобы считаться привлекательным. Гард однажды попытался представить себе, что целует ее, и был приведен в ужас картиной, которая непрощенно возникла в его мозгу: ее нос не скользил по его щеке, а разрезал ее, как лезвие бритвы. У нее был высокий лоб, несуществующие груди и глаза, серые, как ледник в облачный день. Она вела свое происхождение от прибытия "Мэйфлауэра" к американским берегам.
Гарденер работал раньше на нее, и хлопот было предостаточно. Он участвовал в "Поэтическом Караване Новой Англии", 1988, при довольно страшных обстоятельствах... Но причина его внезапного включения была в мире поэзии не более неслыханна, чем в джазе и рок-н-ролле. У Патриции Маккардл в последний момент оказалась дыра в ее анонсированной программе, так как один из шести поэтов, включенных в этот счастливый летний круиз, повесился в своем клозете на ремне.
– Совсем как Фил Охс, – сказал Гарденеру Рон Каммингс, когда они сидели в автобусе где-то сзади в первый день тура. Он сказал это с нервным хихиканьем плохого-мальчика-с-задней-парты. – И потом, Билл Клотсуорт всегда был сукин сын.
Патриция Маккардл прослушала двенадцать поэтов и, отбросив высокопарную риторику, сжала программу до шести поэтов, которым платила зарплату одного. После самоубийства Клотсуорта она в три дня нашла публикующегося поэта в сезон, когда наиболее печатаемые поэты были плотно задействованы ("Или на постоянных каникулах, как Силли Билли Клотсуорт", – сказал Каммингс, натянуто усмехаясь).
Некоторые, если не все, заказчики задержали бы выплату обещанного гонорара, поскольку "Караван" стал короче на одного поэта – такие вещи имели бы весьма дерьмовый привкус, особенно если учесть причину сокращения "Каравана". Тем самым "Караван", подпадал под пункт невыполнения контракта, по крайней мере технически, а Патриция Маккардл не была женщиной, готовой терпеть такие убытки.
Перебрав четырех поэтов, каждый из которых был более второстепенным, чем предыдущий, всего лишь за тридцать шесть часов до первого выступления она наконец обратилась к Джиму Гарденеру.
– Пьешь ли ты еще, Джимми? – спросила она грубо. Джимми – он это ненавидел. В большинстве люди звали его Джим. Джим было как раз. Никто не звал его Гардом, кроме его самого.., и Бобби Андерсон.
– Немного пью, – сказал он. – Не напиваясь совсем.
– Сомневаюсь, – сказала она холодно.
– Ты как всегда, Пэтти, – отозвался он, зная, что она ненавидит это больше, чем он Джимми – ее пуританская кровь восставала против этого. – Ты спрашиваешь потому, что тебе надо продать кварту, или у тебя есть более неотложная причина?
Конечно, он знал, и, конечно, она знала, что он знает, и, конечно, она знала, что он насмехается, и, конечно, она была разозлена, и, конечно, все это щекотало его прямо до смерти, и, конечно, она знала, что он знает это тоже, и ему это нравилось.
Они препирались еще несколько минут и затем пришли к тому, что было не браком по расчету, но браком по необходимости. Гарденер хотел купить удобную дровяную печь к наступающей зиме; он устал жить как неряха, кутаясь ночью перед кухонной плитой, когда ветер грохочет пластиковой обивкой окон; Патриция Маккардл хотела купить поэта. Это должно было быть соглашением на уровне рукопожатия, но не с Патрицией Маккардл. Она приехала в Дерри в тот же день с контрактом (в трех экземплярах) и нотариусом. Гард был слегка удивлен, что она не привела второго нотариуса, хотя первый оказался страдающим чем-то коронарным.
Если отбросить ощущения и предчувствия, у него действительно не было способа покинуть тур и получить дровяную печь, так как если бы он оставил тур, он никогда не увидел бы второй половины своего гонорара. Она затянула бы его в суд и истратила бы тысячу долларов, пытаясь заставить его вернуть три сотни, выплаченных "Караваном". Она, конечно, была способна на это. Он был почти на всех выступлениях, но контракт, который он подписал, был в этой части кристально ясен: если он устранился по любой причине, неприемлемой для Координатора Тура, любые невыплаченные гонорары будут аннулированы, а все выплаченные заранее гонорары будут возвращены "Каравану" в течение тридцати (30) дней.
И она бы его не выпустила. Она могла думать, что она делает это из принципа, но в действительности это было бы потому, что он назвал ее Пэтти в час ее нужды.
Но это был бы еще не конец. Если бы он исчез, она с неослабевающей энергией старалась бы его очернить. Конечно, он никогда больше не участвовал бы ни в одном поэтическом туре, с которым она была бы связана, а это было большинство поэтических туров. Еще имелся деликатный вопрос субсидий. Ее муж оставил ей много денег (хотя он не думал, как можете сказать вы и как сделал Рон Каммингс, что практически деньги сыпались у нее из задницы, потому что Гард не верил, что у Патриции Маккардл было что-либо столь вульгарное, как задница или даже прямая кишка – поскольку в смысле облегчения она, вероятно, представляла Акт Безупречного Выделения). Патриция Маккардл прекрасно распределила эти деньги и учредила некий премиальный фонд. Это сделало ее одновременно серьезным покровителем искусств и чрезвычайно яркой деловой женщиной с точки зрения грязного бизнеса на налогах на прибыль: эти деньги не подлежали налогообложению. Некоторые из них финансировали поэтов в специфические периоды времени. Некоторые финансировали наличные поэтические премии и призы, и некоторые страховали журналы современной поэзии и прозы. Гранты распределялись комитетами. За каждым из них была рука Патриции Маккардл, производящая впечатление, что они зацеплены столь же изящно, как части китайской головоломки.., или нити паучьей сети.
Она могла сделать гораздо больше, чем забрать назад свои вшивые шесть сотен зеленых. Она могла надеть на него намордник. И было вполне возможно маловероятно, но возможно – что он мог написать несколько более хороших стихов, прежде чем злодей, всунувший револьвер миру в задницу, решит нажать курок.
Поэтому доведи это до конца, – думал он. Он заказал в комнате обслуживания бутылку "Джонни Уокера" (Господи благослови общий счет, отныне и навеки, аминь), и теперь он наливал свою вторую порцию рукой, которая стала замечательно твердой. Доведу это до конца, и все.
Но пока тянулся день, он размышлял, как бы захватить грейха-ундский автобус на станции Стюарт Стрит и пятью часами позже выйти прямо перед пыльной маленькой аптекой в Юнити. Поймать там попутку до Трои. Позвать Бобби Андерсон по телефону и сказать: меня почти унесло ураганом, Бобби, но я вовремя нашел штормовое убежище. Отличная новость, а?
Насрать на это. Ты делаешь свою собственную судьбу. Если ты будешь сильным, Гард, ты будешь счастлив. Доведи это до конца, и все. Надо это сделать.
Он перевернул содержимое своего чемодана, ища лучшую одежду из того, что оставил, поскольку его костюм для выступлений уже было не спасти. Он выбросил выцветшие джинсы, простые белые шорты, рваные трусы и пару носков на покрывало (спасибо, мэм, но здесь не надо убирать комнату, я спал в ванной). Он оделся, съел еще немного печенья, выпил немного спиртного и еще съел немного печенья, и затем опять начал ворошить чемодан, отыскивая на этот раз аспирин. Он нашел его и принял немного того же самого. Он посмотрел на бутылку. Посмотрел вдаль. Пульсация в висках становилась ужасной. Он сел на подоконник с записной книжкой, пытаясь решить, что он будет читать этой ночью.
В этом страшном тоскливом дневном свете все его стихи выглядели так, будто они были написаны на древнекарфагенском. Вместо того чтобы изменить что-то к лучшему, аспирин, кажется, весьма усиливает головную боль: крас-трас-благодарю вас. Его голова раскалывалась с каждым ударом сердца. Это была та самая старая головная боль, та самая, которая ощущается как тупое стальное сверло, медленно входящее в его голову в месте немного выше и левее левого глаза. Он коснулся кончиками пальцев малозаметного шрама в этом месте и легко пробежал пальцами вдоль него. Там скрывалась под кожей стальная пластинка, результат неудачного катания на лыжах в юности. Он помнил, как доктор сказал: "Ты время от времени будешь испытывать головные боли, сынок. Когда они появятся, благодари Бога, что ты вообще что-то чувствуешь. Тебе повезло, что ты вообще выжил".
Но в такие моменты он удивлялся.
В такие моменты он очень удивлялся. Дрожащей рукой он отложил записные книжки в сторону и закрыл глаза.
Я не могу довести это до конца.
Ты можешь.
Я не могу. На луне кровь, я чувствую ее, я почти могу видеть ее.
Не надо мне твоих ирландских штучек! Будь твердым, ты, дерьмовая девчонка! Твердым!
– Я пытаюсь, – пробормотал он, не открывая глаз, и, когда пятнадцать минут спустя у него из носа слегка потекла кровь, он не заметил. Он заснул, сидя на стуле.
5
Перед выступлением он всегда ощущал страх сцены, даже если группа была маленькой (а группы, которые желали слушать современную поэзию, были именно такими). Ночью 27 июня, однако, страх перед выходом на сцену у Джима Гарденера был интенсифицирован головной болью. Когда он очнулся от дремоты на стуле в комнате отеля, толчки и волнение в желудке продолжались, но головная боль была просто невыносимой: это был Настоящий Ударник Класса А и Мировой Кузнец, казалось, она никогда так не болела.
Когда наконец пришла его очередь читать, ему казалось, что он слышит себя на большом расстоянии. Он чувствовал себя примерно как человек, слушающий самого себя в записи в коротковолновой передаче, пришедшей из Испании или Португалии. Затем его охватила волна головокружения, и в отдельные моменты он смог только притворяться будто ищет стихотворение, какое-то особое стихотворение, возможно, оно временно затерялось. Он тасовал бумаги слабыми безвольными пальцами и думал: "Пожалуй, я упаду в обморок. Прямо здесь, перед всеми. Упасть напротив кафедры и рухнуть вместе с ней в первые ряды. Может, я бы приземлился на эту блядь голубых кровей и прибил бы ее. Это сделало бы всю мою жизнь вполне стоящей".
Доведи это до конца, – отозвался неумолимый внутренний голос. Иногда этот голос звучал как отцовский; еще чаще он звучал как голос Бобби Андерсон. Доведи это до конца, и все. Надо это сделать.
Слушателей этой ночью было больше, чем обычно, может быть, человек сто, втиснувшихся за столы нортистернского лекционного зала. Их глаза казались такими большими. Бабушка, почему у тебя такие большие глаза? Как если бы они ели его своими глазами. Высасывали его душу, его "ка", его назовите это как хотите. Дух старого "Ти-Рекса" явился ему: "Девочка, я вампир твоей любви.., и я ВЫПЬЮ ТЕБЯ!"
Конечно, там был не только "Ти-Рекс". Марк Болан обернул свой спортивный автомобиль вокруг дерева и был счастлив не жить. Удар-в-Гонг, Марк, ты уверенно влезаешь внутрь. Или вылезаешь. Или что-нибудь еще. Группа под названием "АЭС" собирается прикрыть твою мелодию в 1986-м, и это будет действительно скверно, это.., это...
Он поднял нетвердую руку ко лбу, и тихий шепот пробежал по аудитории.
Лучше приготовься, Гард. Публика отдыхать не собирается.
Да, это был голос Бобби. Прекрасно.
Лампы дневного света, вделанные в серые прямоугольники над головой, казалось, пульсировали циклами, которые отлично согласовывались с циклами боли, движущейся в его голове. Он мог видеть Патрицию Маккардл. На ней было маленькое черное платье, явно стоившее сотни три долларов, ни пенни больше – с распродажи в одном из этих липких магазинчиков на Ньюберн-стрит. Ее лицо было таким же узким, бледным и непрощающим, как у любого из ее пуританских предков, тех замечательных жизнерадостных парней, которые были бы более чем счастливы запихнуть вас в вонючую тюрьму недели на три-четыре, если бы вам выпало скверное счастье быть замеченным в Субботний день выходящим на улицу без носового платка в кармане. Темные глаза Патриции давили на него, как камни, и Гард думал: "Она видит, что происходит, и она не могла бы быть удовлетворена больше. Посмотри на нее. Она ждет, когда я упаду. И когда это случится, ты знаешь, что она будет думать, не так ли? Конечно, так".
Это тебе за то, что назвал меня Пэтти, пьяный сукин сын. Это То, что она могла бы думать. Это тебе за то, что назвал меня Пэтти, это тебе за все, а особенно за то, что заставил меня встать на колени и просить. Поэтому продолжай, Гарденер. Может быть, я даже позволю тебе не возвращать аванс. Три сотни долларов – небольшая плата за изысканное удовольствие наблюдать, как ты рассыпаешься на глазах у всех этих людей. Продолжай. Продолжай и получи за все.
Некоторые слушатели теперь были заметно обеспокоены: пауза между стихотворениями слишком затянулась, чтобы ее можно было считать нормальной. Шепот перешел в глухое жужжание. Гарденер слышал, как сзади Рон Каммингс неловко прочищал свое горло.
Держись! – снова прозвучал крик Бобби, но сейчас голос был поблекший. Поблекший. Готовый раствориться. Он смотрел на их лица и видел только бледные пустые круги, нули, большие белые дыры в универсуме.
Жужжание возрастало. Он стоял на подиуме, теперь заметно покачиваясь, облизывая губы, глядя на свою аудиторию с каким-то оцепенелым страхом. И затем внезапно, вместо того чтобы услышать Бобби, он увидел ее. Этот образ имел всю силу видения.
Бобби была там, в Хэвене, там прямо сейчас. Он видел ее сидящей в качалке, одетую в шорты и лиф на небольшой груди. На ее ногах была пара старых промасленных мокасин, и крепко спящий Питер свернулся у них. У нее была книга, но она ее не читала.
Книга лежала на коленях открытая, страницами вниз (этот фрагмент видения был таким явным, что Гарденер мог даже прочесть заглавие "Наблюдатели" Дина Кунца), тогда как Бобби смотрела в окно, в темноту, занятая своими мыслями мыслями, которые следовали одна за другой так здраво и рационально, как, если хотите, звенья в цепочке мыслей. Никаких разрывов; никаких узелков; никаких хитросплетений. Бобби знала в этом толк.
Он даже знал, о чем она думает, ему открылось. Что-то в дровах. Что-то.., было что-то, что она нашла в дровах. Да. Бобби была в Хэвене, пытаясь донять, что это мог быть за предмет и почему она чувствует себя такой усталой. Она не думала о Джеймсе Эрике Гарденере, известном поэте, человеке протестующем и Благодарном женолюбе, который в настоящее время стоял в лекционном зале нортистернского университета под этими лампами с пятью остальными поэтами и этим жирным дерьмом по имени Трепл или Трептрепл или что-то в этом духе и был готов упасть в обморок. Здесь, в этом лекционном зале, стоял Мастер Несчастья. Господи, прости Бобби, которой как-то удавалось держать свое дерьмо при себе, тогда как все окружающие источали его, Бобби была там, в Хэвене, думая так, как должны бы думать люди...
Нет, она не думает. Она не делает этого вообще.
Тогда, в первый момент, мысль возникла без звукопоглощающей оболочки; она возникла громко и настоятельно, как молния в ночи:
Бобби в беде! Бобби в НАСТОЯЩЕЙ БЕДЕ!
Эта уверенность ударила его, как пощечина грузчика, и сразу исчезло головокружение. Он вдруг ощутил себя, услышал глухой стук, бывший, как ему показалось, стуком его зубов. Боль сверлом ввинчивалась в голову, но даже это было к месту: если он чувствовал боль, значит, он был снова здесь, здесь а не дрейфующим вокруг чего-то в озоне.
И в один загадочный момент он увидел новую картину, очень короткую, очень ясную, очень зловещую: это была Бобби в подвале фермы, оставшейся ей от дяди. Она разбирала какую-то часть механизма.., или нет? Казалось, было темно, и Бобби не хватало рук, чтобы влезть в механизм. Но она уверенно что-то делала, так как легкий голубой огонь прыгал и мерцал между ее пальцами, когда она возилась со спутанными проводами внутри.., внутри.., но было слишком темно, чтобы увидеть, чем была эта темная цилиндрическая форма. Она была знакомой, что-то такое он раньше видел, но...
Затем он смог слышать так же хорошо, как и видеть, хотя то, что он услышал, было гораздо менее комфортно, чем таинственный голубой огонь. Это был Питер. Питер выл. Бобби не обращала внимания, и это было крайне непохоже на нее. Она продолжала возиться с проводами, дергая их так, что они могли бы что-нибудь натворить в пахнущем землей темном подвале...
Видение прерывалось усиливающимися голосами.
Лица, которые появились вместе с этими голосами, не были больше белыми дырами в пространстве, это были лица реальных людей: некоторые забавлялись (но немногие), некоторые были смущены, но в большинстве люди казались встревоженными или огорченными. Большинство искало, другими словами, пути помочь ему вернуться в нормальное состояние. Боялся ли он их? Боялся ли он? Если да, то почему?
Только Патриция Маккардл не волновалась. Она смотрела на него с тихим, спокойным удовлетворением, которое восстановило для него всю ситуацию.
Гарденер вдруг начал говорить в зал, удивляясь, как естественно и приятно звучит его голос.
– Прошу прощения. Извините меня, пожалуйста. У меня здесь некоторое количество новых стихов, и я рассеялся, витая в них. Прошу прощения.
Пауза. Улыбка. Теперь он мог видеть, как успокоились встревоженные, вздохнув с облегчением. Раздался легкий смех, но он был сочувствующим. Он мог, однако, видеть гневно краснеющие щеки Патриции Маккардл, что сделало его головную боль восхитительной.
– Действительно, – продолжал он – даже если это не правда. В самом деле, я пытался решить, читать ли вам некоторые из этих новых вещей. После свирепой борьбы между такими весомыми аргументами, как Авторская Гордость и Благоразумие, Благоразумие настояло на компромиссном решении. Авторское Право поклялось обжаловать решение...
Еще смех, сердечнее. Теперь щеки старой Пэтти выглядели как его кухонная плита сквозь маленькие заледеневшие окошки холодной зимней ночью. Ее руки были сложены вместе, суставы белы. Ее зубы были стиснуты не совсем, но почти, друзья и соседи, почти.








