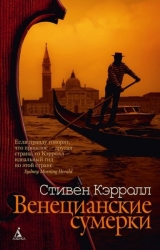
Текст книги "Венецианские сумерки"
Автор книги: Стивен Кэрролл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Часть четвертая
Глава десятая
Волна жарких ночей середины лета прокатилась над городом, окутала его. Окна гостиной были распахнуты настежь. Сидя на кушетке с пустым стаканом из-под граппы в руке, Люси обернулась к Фортуни; рукава его были закатаны, и она вновь заметила крепость его сложения, силу предплечий. Она улыбалась улыбкой человека, который держит что-то в секрете, но вот-вот готов его раскрыть. Фортуни, сидевший в привычном кресле напротив нее, ответил на ее взгляд; на его лице было написано приятное недоумение.
– О чем вы? – спросил он.
Люси ухмыльнулась, закрыла глаза, снова открыла их, бросила на Фортуни изучающий взгляд, затем все же не выдержала:
– Вы, конечно, не помните, но я однажды вам писала.
Недоумение уступило место замешательству.
– Писали? Когда?
– Много лет назад, – рассмеялась Люси. – Я тогда еще в школу ходила.
Все еще погруженная в воспоминания, она плеснула себе еще граппы и снова рассмеялась. Уставив глаза в пол, медленно покачала головой:
– А у меня ваши пластинки лежали. И фотография тоже.
Она подняла голову. Фортуни сидел, словно застыв.
– Фотография?
– Она была на конверте вашей пластинки.
– И вы ее хранили? – Черты его расслабились, расплываясь в улыбке.
– Да.
– Сколько же вам было?
– То ли тринадцать, то ли четырнадцать. Точно не помню.
Люси соврала. Она прекрасно знала, какой был год, какой день.
– И вы написали письмо?
– Да. Чуть позже.
– Смелый поступок.
– Верно.
Фортуни оживился:
– И я ответил?
– Да. – Она рассмеялась.
– Вот и ладно.
– Я вас так и не поблагодарила.
– Не за что.
Тогда Люси описала фотографию, и Фортуни снова рассмеялся.
– Ах эта! – фыркнул он. – Снято в Риме. Забыл когда.
– В шестьдесят втором, – усмехнулась Люси.
– Это был кошмар. Все друг друга раздражали. – Он махнул рукой. – Но почему вы писали?
Люси опять усмехнулась, но про себя.
– Я воспроизводила одну из ваших пьес.
– Какую же?
– Теперь и не упомню. Но вы так хитро играли, и я не поняла, в чем штука, вот и спросила вас.
– И я не сказал, – улыбнулся Фортуни.
– Не-а.
– Дерзкий вопросец. – Фортуни явно развеселился.
Оба замолчали. Легкий ветерок влетел в распахнутые окна полуосвещенной гостиной. Люси откинулась на кушетке, перешла почти на шепот, как на исповеди:
– Я сохранила то письмо.
Фортуни немного помолчал, затем встал с кресла.
– Беда людей вроде нас, – пробормотал он еле слышно, – состоит в том, что никто не осмеливается к нам приблизиться.
Что она хотела тогда этим сказать? Что это было: приглашение или вызов?
Люси смотрела, как он нагнулся над сервировочным столиком. Его серебристые волосы неплохо было бы подстричь, и на какое-то мгновение она представила, как рукой зачесывает их назад, говоря ему, что следует вовремя вспоминать о парикмахерской. И в тот же миг перед ней мелькнул молодой Фортуни, самоуверенный виолончелист, знаменитость. Фортуни-любовник. Она слышала, что за многие годы у него было немало романов и жил он всегда без оглядки на возраст. И, глядя на него, она мало-помалу поняла, что хотя влюбилась она в фотографию молодого Фортуни, но теперь ее влечет к себе Фортуни, что стоит перед ней, – умудренный годами, с отпечатком опыта в чертах. Она задумалась, почему это так, и тут он вдруг поднял голову и уловил любопытство в ее взгляде.
Он улыбнулся, а потом, словно бы в ответ на немое приглашение, подошел и присел на кушетку. Он долго молчал, только делал крохотные глотки из своего стакана и пристально смотрел в темноту за окном. Люси не отводила от него глаз. Фортуни словно застыл – похоже, принялся медитировать, гоня от себя прочь ненужную путаницу дневных мыслей и сосредоточившись на том, что услышал от Люси. Ничего не имея против тишины, Люси стала разглядывать развешенные по стенам картины, декоративное стекло, и внимание ее настолько поглотил портрет молодой женщины, одетой в стиле сороковых годов, что она почти позабыла о присутствии Фортуни.
Тогда он заговорил своим низким, гортанным голосом. Обращаясь даже не к Люси, а в пустоту. И не по-итальянски, не по-английски, вообще не на каком-либо из слышанных ею языков. Если то, конечно, был язык. До Люси доносился набор звуков, тихих, мягких, гортанных. Похожих на заклинание. Или на песню. Понемногу она стала ощущать скрытый в его речи ритм, различать предложения, и наконец ее привел в восторг, зачаровал этот звук, язык настолько примитивный, что он даже не нуждался в понимании, осмыслении, его надо было попросту чувствовать. Звук, который, казалось, возник из какого-то темного закоулка истории, где он хранился в ожидании того, чтобы восстать, в ожидании предопределенного ему слушателя, верно настроенного слуха, в который он мог бы излить свое одиночество; того самого человека, который понял бы его, не нуждаясь в осмыслении, просто почувствовал бы этот нечленораздельный звук. И он оказал на Люси гипнотическое воздействие. Фортуни продолжал по-прежнему нашептывать что-то голосом тихим, но глубоким, похожим не на голос, а на печальнейшую музыку на свете. Она собралась было спросить, что это за язык и что все это значит, когда поймала себя на том, что следит, как медленно опускается его воздетая рука. Медленно она упала вдоль тела. Месмерическое действие. Падение сквозь воздух, сквозь годы. И Люси поняла, что это падение длилось всегда. Она следила за рукой Фортуни, готовясь кивнуть, узнавая, понимая, что это за мгновение. Жест столь естественный, текучий, легкий, что она едва ощутила, как его пальцы коснулись ее колена – там, где расходилось платье. Она заинтригованно следила за тем, как его рука медленно гладит ее колено, кругами, а затем так же медленно продвигается по ноге.
Он не делал никаких неуклюжих попыток поцеловать или обнять ее, равно как заговорить с ней или посмотреть на ее реакцию. Он тоже следил за движением своих пальцев. Мгновение было настолько целостным, исчерпывающе полным, что им обоим оставалось только наблюдать. Мгновение было почти независящим от них. Оба смотрели за тем, что происходит.
Она мельком взглянула на его лицо, сейчас молодое, его серебристые волосы, темные в полумраке, падавшие на лоб. Затем она перевела взгляд напротив, на портрет женщины в платье сороковых годов, который рассеянно разглядывала всего несколько минут назад. Где-то в мозгу рождались смутные вопросы, как зовут эту женщину, кто она, откуда и где позировала, ведь фоном художнику послужила, видимо, гостиная Фортуни. Люси размышляла, какие у нее могли быть манеры, на каком языке она разговаривала, как звучал ее голос. Где она теперь и жива ли, была ли она постоянной посетительницей салона Фортуни или его любовницей…
Где-то в отдалении кто-то раздвигал ее ноги, где-то далеко блуждали пальцы Фортуни, опытные пальцы Фортуни-любовника, его ласки рождали боль, сильную, но сладостную. Томление. Она все ниже оседала на кушетке, словно погружаясь одновременно в иной век, восстанавливая и переживая все его физические ощущения. Затем наступил оргазм, поразивший саму Люси своей внезапностью. Она закрыла глаза, все мысли о женщине с портрета исчезли. Но даже сквозь опущенные веки она видела задумчивый взгляд Фортуни на студийном снимке, с тенью, искусно наведенной на половину лица. Тогдашний затхлый, влажный запах музыкального магазина словно бы смешался с нынешним – безумным, щекочущим ноздри ароматом духов в гостиной. И наконец – освобождение от груза, тяжкого, как всякая первая любовь, блаженная легкость; печатные ноты и долгие, отчаянные дни юности.
Он наблюдал за тем, как ее тело расслабилось. Люси лежала на кушетке, подушки были скинуты на пол, ноги по-прежнему врозь, глаза все так же закрыты. Безупречная прическа не растрепалась, шпильки остались на месте, аккуратно застегнутая блузка не помялась. И только когда переводишь взгляд ниже, подумал Фортуни, картина проясняется, заинтриговывая зрителя легкомыслием и даже игривостью: одетая верхняя половина, а ниже – расстегнутая юбка, разведенные ноги. Густой желто-коричневый загар на ногах поблек, но было заметно, что солнце легко вернет этой коже тропическую яркость. Застыв, как на картине, молодая женщина спит здоровым сном наигравшейся юной Венеры.
Сквозь закрытые веки она чувствовала на себе его пристальный взгляд. Она одновременно была здесь, в гостиной, и не здесь, словно в невесомости паря между двумя мирами – миром минувшим и тем, куда ее привели все эти годы.
Наконец она открыла глаза и увидела Фортуни, умолкнувшего, исполнившего свою песнь. Фортуни – самого нежного, самого внимательного из любовников. Умудренного опытом Фортуни, в глазах которого читались прожитые годы. И тут она встрепенулась – как пробудившаяся ото сна, подумал Фортуни, или как та призрачная женщина на картине, что восстала из прозрачных вод, плещущихся у ее лодыжек.
Он смотрел, как темные глаза Люси прямо ответили на его взгляд. Ощутил на щеке легкое прикосновение ее губ, и тут же ее пальцы стали дергать ремень, высвобождая брюки. Фортуни вздрогнул. Что она делает?
– Пожалуйста, милый.
Да, да, умоляли его глаза, это будет, но не здесь. По замыслу Фортуни им с Люси следовало сейчас удалиться в спальню, где Роза, наверное, оставила им шоколад, вафли и вино. Но Люси не останавливалась:
– Нет, милый. Пожалуйста.
Он собирался снова воспротивиться, возвысить голос, ошеломить ее замечательным сюрпризом, припасенным заранее: разостланная постель, и вино, и вафли… как вдруг почувствовал, что первая неожиданная судорога наслаждения начала пробуждать его тело, долго покоившееся в прохладных глубинах сна.
Наслаждение. Фортуни давно уже не радовали ни свежая терпкость апельсина, ни бодрившее некогда шампанское, ни смягчавшее страсти вино. Похоже, все будничные наслаждения сделались для него недоступны. Утрачены навсегда, недоступны, их больше не отведать, не вернуть с тех пор, как оборвалась музыка и была отставлена в сторону виолончель; все кончилось той самой ночью год назад, когда молодая певица София выскользнула из его комнаты, не притронувшись к вину и шоколаду. Но оно вернулось к нему, наслаждение, и он сидел неподвижно, хотя кровь в жилах так и кипела, рвалась навстречу ее юным пальцам.
Скоро Фортуни сам закрыл глаза, уступая ей, отдаваясь наслаждению минуты. Он чувствовал ее движения, ощутил, как она ненадолго отняла руку, а потом, открыв глаза, обнаружил, что она стоит перед ним с высоко задранной юбкой. Одним движением. Легко и плавно. Переживая неизбежный итог пасмурного дня, когда она в далеком городе зашла в магазин музыкальных товаров. Давая выход порыву, приведшему ее сюда через моря и годы, тайне, пронесенной через всю вечность своего отрочества, она опустилась на Фортуни, вновь ставшего любовником.
Так и не распустив узел бабочки, с платочком, все еще торчащим из нагрудного кармана, Фортуни откинулся на груду подушек. Люси приподнималась и опускалась медленно, нежно, словно боясь спугнуть мгновения. Затем его сердце вдруг точно окаменело, захлестнутое пугающей зеленой волной свежести.
Больше Фортуни уже не открывал глаз, молчанием отдавая дань молодой женщине, принесшей с собой такое волшебство, благодарный за то, что она отмела в сторону все его колебания. Эта – и тут он открыл глаза, – эта полная сил юная Венера принесла ему свои дары.
Оба молча раскинулись на кушетке. Да и не было нужны говорить. Решив, что подходящий момент настал, Фортуни поправил свои летние брюки, жестом дал понять, что у него что-то есть для Люси, и исчез. Потом вернулся, неся поднос с шоколадом, вафлями и бутылкой граппы, и оба с аппетитом (как молодые любовники, подумалось Фортуни) взялись за угощение.
– А какой… – вдруг спросила она, хрустя вафлей, – какой это был язык?
– Венецианский диалект.
Люси перестала хрустеть.
– Красиво.
– Красиво, – кивнул Фортуни.
– А про что там говорится?
– Это старинная песня. Такая старая, что никто не знает, когда и где ее сочинили. А говорится в ней: «Я пересек океаны, пространства и годы, чтобы оказаться здесь».
Конечно. Конечно, правильные слова. И конечно, проговорил их именно Фортуни. Могла ли она поведать их кому-нибудь другому? Единственный, кому она могла рассказать о тайне, что пересекла океаны, пространства и годы, чтобы оказаться здесь, был Фортуни. А он, конечно, и сам все знал.
Чуть погодя он следил за тем, как Люси оделась, легко встала с кушетки и стала собирать свои вещи. Помедлила рядом с Фортуни, склонилась, облизнула кончики пальцев, коснулась его лба и медленно закрыла ему глаза. Проникла в подсознание, подобно плетельщице снов, сплела сновидение и неспешно двинулась к двери.
Фортуни провожал ее молча. За порогом дома стояла теплая ночь. Никто не произнес ни слова. Ее пальцы заскользили по перилам лестницы. Он проследил за этими длинными, тонкими пальцами, все еще чувствуя их прикосновение. Они ощупали его, как пальцы слепого, медля то тут, то там, воскрешая омертвевшие нервные клетки, разгоняя застоявшуюся кровь, оживляя целый пласт чувств и ощущений, погребенных под комфортабельной рутиной замкнутого существования. Люси исчезла во внутреннем дворике, нагнулась, проходя под свисающей веткой глицинии, и, засунув руки в карманы, размашистой молодой походкой зашагала прочь. Зная, что ее провожают взглядом, она ни разу не обернулась.
Разумеется, они были двумя половинками единой сходящейся судьбы, и, удаляясь, эта молодая женщина оставила Фортуни не только длящееся ощущение своих касаний, но и некую надежду. Когда калитка захлопнулась и Люси скрылась из виду, Фортуни даже не отказал себе в удовольствии предположить, что явление этого сказочного существа определялось отнюдь не случайностью, а всей долгой историей его рода.
Он прикрыл дверь, свернул в portego и, как юноша после затянувшейся на всю ночь пирушки, отправился в постель, уверенный в том, что сон его будет, как никогда, крепким.
Как добралась до дому, Люси не помнила. Она вошла в квартиру как сомнамбула; ей хотелось отстранить от себя все помехи, чтобы сон длился и длился, чтобы все шло как идет, только бы не проснуться рывком и не обнаружить, что находишься в незнакомом городе.
В нагревшейся за день спальне было тепло; кожу, не забывшую прикосновений Фортуни, все еще пощипывало; Люси буквально провалилась в наркотический сон усталого путника. Закрыв глаза на окружение, она вернулась в разделенную на отсеки гостиную Фортуни, вспомнила, как падала его рука и как глухо шлепались об пол валившиеся с кушетки подушки.
Разбудил Люси лунный свет; луна светила так ярко, что ее можно было принять за уличный фонарь. Или лампу. Люси забыла задернуть занавески, и все в комнате засеребрилось, но было душно, и она распахнула окно, всем телом ощущая прохладу ночного воздуха. Слабое дуновение ветерка, запах канала, растрескавшаяся штукатурка под пальцами – все это означало, что сон кончился, пора встряхнуться и обратить внимание на ночной город. События прошлого вечера всплыли в ее памяти, но Люси странным образом уже отрешилась от них. Та Люси, что слушала, как падают подушки, сделалась чужой; теперешняя Люси вела ладонями по неровному подоконнику и облизывала сухие, чуть пахнувшие граппой губы.
На следующее утро Люси сидела в квартире Марко, погрузившись в меланхолическое молчание. Они составляли музыкальный репертуар, чтобы играть на площади. Люси вертела в руке чайную ложечку, разглядывала содержимое своей чашки, постукивала по блюдцу. Подняла глаза на Марко, вошедшего с кипой переписанных от руки нот. Его кухонный стол был завален нотами с легкой музыкой, оркестрованной для скрипки, фортепьяно и аккордеона. Популярные мелодии, темы из фильмов, клишированный набор из Равеля и Вивальди.
День выдался жаркий, и красная и розовая герань в горшках под окном ослепительно сияла на солнце. Комната была светлой, яркой, и такими же были населявшие ее предметы – Густо-красная чашка, желтые цветы и красочные корешки книг. В соседней комнате стояла на подставке прислоненная к стене скрипка Марко.
– Вот, – сказал Марко, как всегда по-английски, и с улыбкой свалил кипу на стол. – Выбирай не хочу.
Он улыбался, довольный собой, явно радуясь случаю приобщиться ненадолго к миру легкой музыки. Но Люси глядела на цветы и слушала эхо необычных слов, песни на непонятном языке, звучавшей как бы в чужом сне, несшей в себе чужие воспоминания – чьи-то воспоминания, просочившиеся из чужого сна. Она обернулась к Марко:
– Выбирай сам.
Он озадаченно нахмурился:
– А ты не хочешь?
– Я тебе доверяю.
Марко пожал плечами, помедлил, положил ноты на колени и, произнося названия, стал раскладывать листы на полу в две стопки.
Разобрав почти все и не дождавшись от Люси ни слова, он остановился:
– Ты меня не слушаешь.
Она ответила не сразу, словно их разделяло большое расстояние:
– Разве?
Марко покачал головой и уронил оставшиеся листы на пол, глядя, как они разлетаются по полированному мрамору.
– Отложим до другого раза.
– Извини.
– Сама предложила. Сказала, что хочешь.
– Ну да.
– Но не хотела.
Люси покачала головой, Марко облокотился о стол и уставился на нее, словно стараясь сложить головоломку:
– И зачем тогда пришла?
– Сама не знаю.
– Можешь приходить в любое время, – тихо, но настойчиво продолжал он.
– Спасибо.
– Не нужно никаких предлогов.
– Ага.
Марко осторожно взял ее руку, и Люси закрыла глаза, отдаваясь ощущению тепла и уюта. Легонько сжав ее пальцы, он повторил: «Не нужно».
Это были самые откровенные слова, какие до сих пор позволял себе Марко. Люси отняла руку, отметив, какие тонкие у него пальцы – пальцы скрипача, который, по всеобщему мнению, далеко пойдет; как сомкнулись, подобно створкам моллюска, его кисти, замершие на середине стола.
Она беспокойно подошла к окну и уставилась на крыши домов:
– Не жди меня, Марко.
Он посмотрел, как она перебирает листья в цветочных горшках, и ответил, надеясь, что в его голосе прозвучит прямодушное, невинное любопытство:
– Зачем ты это говоришь?
– Потому что ты ждешь.
– Да?
– Ты ждешь меня, Марко. Не надо.
Вот она и сказала. Оба притихли, Марко наклонил голову. Люси снова присела к столу и проговорила, в этот раз очень ласково:
– Ты же сам знаешь – ждешь. А не стоит. Он кивнул, по-прежнему не поднимая головы. При виде того, как он сидит, прослеживая пальцем узоры скатерти, могло показаться, что он никогда больше не заговорит с Люси. Но, закончив это занятие, он с улыбкой поднял голову:
– Но ведь чуточку я тебе все же нравлюсь?
Впервые за все утро на губах Люси мелькнула улыбка.
– Да, нравишься, – ответила она, помедлив на слове «нравишься».
– Тогда разреши мне подождать. Чуточку? – добавил он и едва не рассмеялся, но тут же оборвал себя: – В чем дело, Люси?
– Ни в чем.
Он медленно покачал головой и потянулся погладить Люси по лбу.
– Не надо! – отпрянула она. Она посидела недвижно, потом прервала наступившую тишину: – Прости. Прости меня, Марко.
Почему всегда так? – подумала она. Почему, в конце концов, мы вечно сначала ищем у кого-то поддержки, а под конец на него орем? И как только она задалась этим вопросом, ей вспомнились непослушная дочь, стук хлопнувшей в ночи двери и убежденность в том, что времени предостаточно, успеешь все уладить. Она неожиданно нагнулась и взяла руку Марко:
– Прости. Я не собиралась так дергаться.
Марко, в свою очередь, в упор взглянул на нее, и у Люси не осталось и тени сомнения, что он все знает. Фортуни, казалось, шепчут его губы. Фортуни. Этим все сказано, и можно не продолжать. Он понял. Он увидел больше, чем она думала. Они были ровесники – Марко и Люси. Однако сейчас он показался ей мудрым – о такой мудрости она и не мечтала. Она держалась и наорала на него, как школьница, которая не понимает, что происходит и что она творит. Но она уже выросла из школьной формы, и оправданий больше нет. Марко оставался невозмутим, он знал. Ей стало жутко от подозрения, что он знает ее лучше, чем она сама, и вдруг до нее дошло, что, возможно, она не видела. Смотрела, но не видела. И та мимолетная, полубессознательная мысль: «Сегодня вечером я увижу Марко» – встала на свое место.
В ту же минуту Марко высвободил свою ладонь из руки Люси и вновь обратился к разлетевшимся по полу нотам.
– «Volare» [17]17
Песня группы «Джипси Кингз».
[Закрыть]. – Внезапно выговорив это, он улыбнулся. – Все любят хорошие клише. Тебе стоит быть чуточку меньше – как же это говорится? – снобкой насчет этого. Они не глупые, эти песенки, очень даже хорошие. Стильные. – Он ухмыльнулся. – У нас нет таких слов вроде «стильный». Вам очень повезло, что у вас есть такие слова, правда ведь? Ох, до чего ж я люблю английский! Впрочем, разве я уже не говорил?
Тут Люси расхохоталась, а Марко уронил ноты на пол у себя под ногами и объявил, что включает их в репертуар. Взял еще ноты.
– «Прогулка слоненка», это ча-ча-ча. – Он захихикал, прищелкивая пальцами в ритм танца. «Ча-ча-ча» – откуда только берутся такие слова? Поднял другой листок, и глаза его загорелись. – «Держи пять». Моя любимая.
– Нет, – сказала Люси, – моя любимая.
– Твоя? У тебя что, на нее исключительные права?
– Да, и тебе она не достанется. Она – моя любимая. Я могу сыграть ее с закрытыми глазами.
Чтобы подкрепить свои слова, Люси шагнула к старому пианино Марко, склонилась над клавиатурой, закрыла глаза и начала наигрывать песню, которая тут же перенесла ее во времена детства и невспугнутых снов невинности, когда она не знала ни Фортуни, ни печальной музыки, а к инструменту прикасалась только ради забавы. И лишь закончив пьесу, она открыла глаза и торжествующе посмотрела на Марко, словно говоря: «Вот так!»
Что это было? В самом деле – что? Люси исполнилось двадцать три, и впервые с самого приезда она позволила себе об этом забыть: играть дурацкие поп-песенки – впрочем, в конце концов, не такие уж и дурацкие. Когда, вдруг спросила она себя, когда в последний раз мне было так весело? Годы, приведшие ее сюда, десяток лет – от тринадцати до двадцати трех, – состояли, как ей представилось, из сплошной работы – бесконечных часов и дней, проведенных за упражнениями, и ей показалось, что они прошли впустую. На все это время она забыла жить – и это странно.
За час они вновь просмотрели свой репертуар и решили на следующий день прогнать всю программу. Не составит труда, улыбнулся Марко. В конце концов, это всего лишь дурацкая попса. Люси рассмеялась и вышла.
Простившись с Люси, Марко посерьезнел. Люси нервничала, была рассеянной, печальной. Непохожей на себя. Не может определиться, подумал Марко. Он проследил в окно, как она широкими шагами пересекала площадь, и с полуулыбкой отметил про себя, что рост у нее по крайней мере не маленький. Вернулся к столу: своей комнате, виду из окна, ярким, летним цветам, нотным листам, рассыпанным по полу, фортепьяно: все это было частью совместного утра, уже прошедшего, и потому от всего этого веяло прошлым.
Несуразные дома, магазины, кафе, гостиницы и общественные учреждения с несуразными проявлениями жизни внутри – все это проплывало мимо Фортуни, как картины на стенах галереи, пока он пробирался узкими, путаными улочками Сан-Поло. Ссорились дети, переругивались туристы, торчали в дверях или читали на солнцепеке учащиеся. Все это было не важно. По крайней мере, для Фортуни. Фортуни влюбился.
Впервые за год он проснулся тем утром, не спрашивая себя: «Как самочувствие?» или «Чем заполнить день?» С тех пор как он перестал быть артистом Паоло Фортуни, маэстро Фортуни, это был вопрос, которым он задавался каждое утро: чем заполнить череду дней? Нежданная любовь окрылила его, вознесла над всеми этими материями. Любовь, чудодейственное схождение разрозненных половинок, стала единственным ответом, когда-либо полученным Фортуни, и эффект этих чар был моментален. И когда он остановился на небольшом мостике сориентироваться и выбрать правильное направление, его душу согрело сознание, что Люси находится где-то рядом, не более чем в миле.
Событие следовало достойно отметить, но загвоздка состояла в том, что в единственном заведении, подходящем для подобного празднования, все столики были забронированы. Уму непостижимо! Тем утром Фортуни первым делом велел Розе заказать столик, но тотчас услышал, что для синьора Фортуни и его гостьи места не нашлось. Во всяком случае, на сегодняшний вечер, и на следующий тоже. Он предположил, что, разумеется, произошла какая-то ошибка, и решил сам все уладить.
Фортуни сошел с мостика, прокладывая путь через запруженный народом переулок, и наконец постучал в стеклянные двери ресторана. Персонал держался доброжелательно, рассыпался в извинениях, но ошибки не было. Просто свободных столиков сегодня вечером не ожидалось. Синьор Фортуни обедал здесь последний раз в прошлом году, и с тех пор времена изменились. Ныне ресторан приобрел широкую известность, и синьор Фортуни, конечно же, понимает, что из этого следует. Заказы от постоянных посетителей поступают заранее – случается, даже из Нью-Йорка.
Ситуация выглядела безнадежно, пока Фортуни не рискнул предположить, что можно освободить немного места рядом с баром, где теперь стоит тележка для десерта. Маленький столик как раз впишется, разве не так? Разумеется, просьба была необычной, но неужели же нельзя сделать это если не в деловых интересах, то хотя бы в память о былых временах?
Владелец поднял брови и поглядел на метрдотеля, который пожал плечами и – рикошетом – вернул проблему владельцу. Настала тишина, Фортуни полез было за бумажником, чтобы вытащить пачку крупных купюр, но владелец остановил его.
– Пожалуйста, – пробормотал он, отстраняя деньги, – синьор Фортуни, пожалуйста.
Затем, поманив официанта, отдал ему соответствующие распоряжения, и Фортуни собственными глазами проследил за тем, как столик на двоих водрузился точно на предложенном им месте. Когда дело было сделано, владелец улыбнулся и поклонился Фортуни и тот поклонился в ответ. Итак, столик для синьора и его гостя будет. Как сейчас, так и всегда…
На обратном пути, не обращая внимания на толпы, Фортуни с наслаждением вдыхал летний воздух и мысленно выбирал костюм, который наденет сегодня вечером.
В конце концов, мир еще не окончательно выдохся, мир не так устал, чтобы не расщедриться еще на одно, последнее чудо. Оставив позади Кампо Сан-Поло, Фортуни подумал, что и в шестьдесят три не только заслуживает даров любви, но и сам способен эти дары преподносить. Ему даже пришло в голову, что, пожалуй, впервые влюбился по-настоящему.
Дома, в гостиной, его глаза вспыхнули при виде виолончели и остановились на ней, но не с сожалением и не с чувством внутренней опустошенности, как бывало в последнее время. Нет, тем утром, заметив виолончель, он вновь почувствовал себя молодым. Он вновь выступал перед публикой; вновь стал тем Фортуни, который много лет назад, жарким римским летом, уставил задумчивый взгляд в глазок фотокамеры. Стоял на сцене, дыша разреженным воздухом, наслаждаясь установившейся в зале тишиной. Ибо стоять на сцене концертного зала со смычком в руке было все равно что стоять на вершине горы и озирать расстилающийся внизу пейзаж – ряды слушателей. Ему даже не нужно было открывать глаза – он и без того знал, что слушатели там. Он чувствовал их, насторожившихся, выжидающих. А затем звук вдруг выплывал из-под смычка, срывался со струн виолончели Фортуни – единственный звук на земле, не считая негромких вздохов напряжения, слышных только ему самому, да легкой подпевки, которая иногда проскальзывала и порой замечалась даже на пластинках.
В тот вечер, двадцать лет назад в Риме, после первого концерта триумфального сезона, когда каждый на свой лад расточал ему похвалы, он полностью владел аудиторией, как и всегда в ту пору. Сейчас он вспоминал это чувство поразительно живо. Вспомнил, как был уверен в своей власти с того самого мгновения, когда исполнил на публике первую из тех басовых нот, что вскоре его прославили, и как притих весь зал, не просто слушая концерт, а присутствуя при особом событии. И заставила слушателей притихнуть в первую очередь энергия, физическая сила, всепобеждающая воля исполнителя, ибо, с точки зрения Фортуни, концерт прежде всего давал возможность навязать слушателям свое «я». Воля, энергия, сила и нечто сверх того, чем больше не располагал никто. Все это уверенно передавалось рукам, от кончиков пальцев – струнам, чтобы сотворить печальнейшую на свете музыку, которая повергала зал в неподвижность и молчание.
Таким был Фортуни в те годы – Фортуни, который принимал эту дань молчания, не знал, что такое нервы, собирал себя в кулак и заставлял зал умолкнуть. И лишь ощутив это молчание, убедившись в своей победе, он признавал концерт успешным. И капли пота падали с его лба, когда он тряс головой, и его голос часто подпевал виолончели, и женщины в первых рядах вздрагивали, словно задетые ударом смычка. Таким был Фортуни в те годы, и отчасти этим он покорял мир, равно как фокусами (которые теперь передавал Люси), ухищрениями, пассажами и движениями, исполнявшимися столь быстро и легко, что можно было подумать, они не требуют усилий. И по сути, так оно и было.
Фортуни, здесь и сейчас стоящий в своей гостиной, но одновременно пребывающий на той сцене в Риме, слушает, как угасает последняя нота того концерта; рубашка его пропитана потом, мозг и тело опустошены. Он вскидывает голову и ловит ухом внезапный океанический гул оваций, которым взрывается тишина. И, вспоминая, как погружался в эти овации, понимает, что никогда не ощущал жизнь так полно, как в подобные мгновения.








