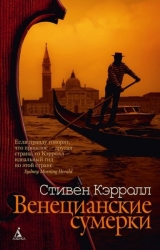
Текст книги "Венецианские сумерки"
Автор книги: Стивен Кэрролл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 12 страниц)
Часть пятая
Глава четырнадцатая
В последующие недели Фортуни часто замечали на городских улицах и в переулках. Он надеялся, Люси покажется в окне кафе, на площади, в книжном магазине, на борту проходящего мимо речного трамвая. Он искал ее в садах Кастелло, поздним вечером – на набережной Скьявони, после наступления ночи – в Каннареджо; повсюду ему чудились ее развевающиеся волосы, размашистый шаг, смех, бездонная зелень глаз.
Иногда он испытывал подобие удовольствия при виде какого-нибудь памятного места, к примеру статуи, возле которой она постояла во время их очередной совместной прогулки. Как-то он остановился у фонтана на площади Сан-Марко, вблизи театра «Фениче». В нем ожило воспоминание о том вечере, когда Люси плескала себе водой в лицо и стряхивала брызги. От этого ему даже на время сделалось хорошо.
Но стоило ему вернуться домой, как вечерняя пытка возобновлялась. Он названивал Люси, однако номер был отсоединен; он стучался в двери ее квартиры, но никто не отзывался. Неделями, вечер за вечером, он просиживал у себя в кабинете, и ему не хотелось ни спать, ни рассматривать успокоительную сцену «Рождения Венеры». А снаружи, где недавно резвились, как дельфины, речные такси, слышался лишь однообразный гул городского транспорта.
Однажды кто-то в консерватории мельком упомянул о том, что Люси уже несколько недель как уехала. Фортуни перестал блуждать по городу и уединился в стенах своего дома, со своими картинами и библиотекой. Дни стали короче, и осенняя прохлада уступила место зимним холодам. Мало-помалу в иссиня-черных ночах той зимы мечта о Люси стала тускнеть, и, по мере того как она блекла, слабела вера Фортуни, его сила воли. В конце концов он понял, что больше не сможет жить надеждой.
Как-то вечером, сидя в гостиной, он откинул усталую голову на спинку кресла и почувствовал, как тело его уступает непреодолимой вялости поражения. И вопреки внутреннему голосу, говорившему: держись за свои чувства, иначе окончательно ее похоронишь, – Фортуни расслабился. Убедившись, что сердце его Лючии никогда не будет ему принадлежать, он отказался от борьбы, и боль постепенно пошла на убыль. И когда он перестал цепляться за подлокотники кресла и с силой выдохнул воздух из легких, это было похоже на глухое стенание, на замирающую каденцию доигранной до конца музыкальной пьесы.
Через несколько месяцев в одном из семи помещений кафе «Флориан» Фортуни угощал дюжину гостей из консерватории, преподавателей и студентов, собравшихся отметить отъезд молодого человека по имени Марко Мацетти – одаренного юного скрипача; Фортуни встречал его и в консерватории, и на площади, где тот играл вместе с Люси. От этого Мацетти ждали больших свершений; он уезжал в Рим, и Фортуни, в приподнятом, жизнерадостном настроении, вдруг проникся симпатией к нему, поскольку сам молодым человеком уехал в Рим.
Лампы в комнате были подвешены низко, и на ярком золоченом потолке играли тени, отчего декор в стиле рококо казался живым. На стенах, загроможденных портретами, мельтешили силуэты гостей. Одни сидели, другие стояли вокруг столов, то склоняя голову, чтобы прислушаться, то запрокидывая в приступе хохота. Снаружи лежала, в голубом свете зимнего вечера, площадь Сан-Марко, эта огромная гостиная, опустевшая с окончанием сезона.
Фортуни развлекал соседей по столу рассказами о своих представлениях, гастролях и путешествиях. Карла, которую он опять стал приглашать в спутницы, сидела за тем же столом и слушала. Фортуни был доволен собой, говорил куда более раскованно, чем обычно, и, отметила про себя Карла, больше пил. Намного. Пожалуй, ей следовало бы отговорить его, но, видя, что он сделался душой компании, она решила, что так тому и быть.
Среди историй Фортуни был рассказ о долгом пребывании в Лондоне в начале шестидесятых, когда он записал сюиты Баха на студии «Эбби Роуд». Во время одной из сессий к Фортуни подошел, чтобы сказать комплимент, молодой длинноволосый поп-музыкант, который внимательно следил за ним, сидя за микшерным пультом. Фортуни рассмеялся и перешел на ломаный английский: «Это было клево». Выдержав паузу, он спросил свою юную аудиторию: «И что же он, по-вашему, хотел сказать этим „клево"?» И добавил, что это была его единственная встреча с одним из «Битлз», хотя в те годы они неоднократно записывались в тех же студиях, что и он. Да, а кроме того, он так и не знает, кто же из четверки это был. «Все они были для меня на одно лицо». Он расхохотался, залпом опрокинул остатки бренди и тут же заказал еще.
Дальше пошли истории об Ирландии, Испании и более того – о Западном побережье Америки. Он приковал к себе внимание всего стола, все вытянули шею, боясь пропустить хоть слово, – все, кроме Марко, наблюдавшего за Маэстро с отстраненным любопытством. За окнами стал накрапывать дождик. Карла встала, поцеловала Фортуни в щеку и, оправдавшись поздним часом, темнотой и дождем, спокойно попрощалась. Фортуни помахал ей рукой и снова повернулся к столу; разговор возобновился, вино и бренди лились рекой.
Официанты исчезали, а затем снова материализовывались в приглушенном свете, неся серебряные подносы с птифурами, напитками, закусками. Все это вполне устраивало собравшееся в кафе общество, говорившее на разных языках и с различными акцентами, которые можно было распознать только с близкого расстояния, издали же эта речь воспринималась как невнятный лепет. Сцену можно было сравнить с живописным полотном, колорит которого постепенно темнеет, и всё – труды мастера, натурщиков, реставраторов, тщательно выстроенная композиция – обречено погрузиться во мрак. Но в ту минуту в кафе господствовала светотень, и гости сидели, напряженно слушая гулкий голос Фортуни, иногда дававший сбой, поскольку выпито было уже немало.
– Могу лишь сказать, что это просто понимаешь. – Фортуни заговорил о выходе в отставку, о том, как определить, что пора пришла, и тон его сделался задумчивым. – Понимаешь, что наступил финал. Этому никто не научит – это либо понимаешь, либо нет. Но оставить свое дело, – заключил он, и слабая улыбка заиграла на его губах, – все равно что прервать роман в полном разгаре страсти, в момент, когда он достиг совершенной зрелости и ничем не омрачен. – Он на мгновение прикрыл глаза, затем оглядел стол. – Зрелость – вот что главное, разве нет? – И он широко улыбнулся.
Но соседи по столу молчали, и он не обратил внимания на то, как двое студентов подняли брови и понимающе переглянулись. И тогда Фортуни обернулся к Марко и предложил тост за него, за его будущее, успехи в музыке и в жизни. Сидевший в конце стола Марко поднял свой бокал и провозгласил ответный тост, к которому присоединились все гости.
Чуть погодя все дружно встали. Когда они расходились, растворяясь в темноте, Фортуни, уже заметно пошатывавшийся, помахал Марко и что-то крикнул, но слова его заглушил шум дождя.
Дождь лил над площадью. Фортуни медленно шел вдоль Прокуратие Нуове, засунув руки в карманы и наклонив голову. Выйдя из-под аркады, свернул в лабиринт разбегавшихся от площади переулков. К колоннаде подбежала парочка под зонтом, мельком взглянув на человека, который неподвижно стоял под дождем и явно о чем-то напряженно думал, а может, вспоминал что-то крайне важное. Он стоял ссутулившись – темная застывшая фигура в фетровой шляпе, насквозь пропитавшейся влагой.
Затем небеса разверзлись, и с них обрушился ливень. Заметив, что чугунные ворота одного из sotoportego [19]19
В Венеции – проход под аркой дома.
[Закрыть]приоткрыты, Фортуни ступил в темный проход и последовал по нему дальше. В голове вертелись мысли о недавнем разговоре в кафе; приятные воспоминания перемежались неприятными: тут он немного забылся, там хватил через край, слишком много болтал. Sotoportego не был освещен и напоминал подземелье какого-нибудь старого дворца. Фортуни оступился в темноте, оперся рукой о стену и затем зашагал дальше, к тускло-серому выходу. Все еще поглощенный разрозненными воспоминаниями вечера, не сознавая, что все больше пьянеет, он снова вышел на улицу, под дождь.
В промокшей шляпе, сползшей на глаза, Фортуни поспешил по узкому переулку, ответвляющемуся от sotoportego, и через несколько секунд уже стоял на главной улице Фреццерии. И тогда Фортуни, уроженец города, всю жизнь проживший в Дорсодуро, покачнулся под действием винных паров и, вместо того чтобы свернуть налево, к дому, по ошибке повернул направо. Низко опустив голову, он шел вперед уверенным шагом местного жителя, не сомневающегося в том, что ноги сами понесут его куда надо и чутье подскажет дорогу домой.
Все еще думая о вечере, он вдруг вспомнил многозначительные взгляды исподтишка, которыми обменивались некоторые студенты, намекая, что Маэстро немного перебрал… Шаткой походкой, не позаботившись осмотреться, Фортуни свернул в другой sotoportego, чтобы укрыться от непрекращающегося дождя. В низком, темном проходе, где по стенам свисала паутина и тянулись провода, где едко воняли лужи мочи, взбаламученные ветром и дождем, Фортуни набрел на незнакомый причал и застыл на месте.
Затем произошло нечто поразительное, нечто, чего никогда не случалось прежде. Фортуни остановился, осмотрелся, недоверчиво вгляделся в ночную темень и понял, что заблудился. Это потрясло его. Такого не могло быть, однако чем больше он озирался, тем менее знакомым казалось все вокруг. Никаких кафе, никаких магазинов, никаких названий, по которым он мог бы определить свое местоположение. Даже дома вдоль канала, притушеванные дождем, не отличались один от другого. Воды в канал явно прибывало, и дождь, налетавший, как волны бомбардировщиков, рябил водную гладь. Это ведь то самое направление? Этот путь должен вести домой. Но дождь шел сплошной стеной, в жилах пульсировал бренди, и все вокруг внезапно сделалось неузнаваемым. Растерявшийся, нелепо беспомощный, Фортуни бродил по проходу туда-сюда, оскальзываясь на камнях, и не находил никого, чтобы спросить дорогу.
И тут в просвете прохода показался нос гондолы, медленно и плавно скользящей по серой вздувшейся воде. На борту никого не было, лодка проплывала бесшумно во всем своем черном величии, только золоченый декор посверкивал под дождем. Это была отвязавшаяся гондола, которую течением принесло в канал. Фортуни следил за ней молча, с досадой. Намокшее пальто, в которое он завернулся как в плащ, свинцовым грузом висело на плечах. Не зная, что делать, Фортуни стоял и смотрел на воду, подбиравшуюся к ступенькам причала.
Не сходя со ступенек и всматриваясь в потоки дождя, Фортуни заметил прямо перед собой мостик. На углу противоположного здания виднелась табличка, возможно с названием улицы, но там обвалился кусок штукатурки, и надпись было не прочитать. Тогда Фортуни наклонился, надеясь прочесть через железную решетку название моста. Но это ему не удавалось, и, опираясь рукой о стену sotoportego, он наклонился еще больше. Пока Фортуни тянулся к табличке, ноги его заскользили по серому мху на ступеньках, проехались по гладким истоптанным камням, и он свалился в воду.
Быть может, шум и потревожил на миг чей-то сон, но кто станет обращать внимание на всякий случайный, вполне обыденный звук? Всплеск, отчаянно затрепыхавшиеся руки и бьющие по воде ноги – как тоненькие ножки жука, который пытается перевернуться. Но Фортуни упал ничком, его намокшее пальто навалилось на него всей своей тяжестью, сковав, как стальная цепь, и чем больше он барахтался во вздувшихся водах канала, тем больше сил терял. Голова его скрылась под водой, и липкая зелень канала уже проникала в легкие, хотя он все еще сознавал, что каменные ступени и кромка берега – близко. Если бы только ему удалось приподняться, он ухватился бы за кромку и выудил себя из этого канала, который, наверное, пересекал за свою жизнь несчетное количество раз, не обращая на него внимания. Но до кромки было уже не дотянуться…
Затем каким-то чудом ему удалось приподнять голову и за пару секунд разглядеть смутно знакомую сцену с непривычного угла зрения. Он услышал далекие перекликающиеся голоса и увидел почтовый ящик с надписью «Иво» – так назывался ресторан, где Фортуни частенько обедал. Вдруг Фортуни точно понял, где он, понял, что его дом не более чем в десяти минутах ходу. И он подумал о том, как это просто – встать и дойти до дому; это мелькнуло у него в мыслях, прежде чем лицо его вновь погрузилось в воды канала.
Вокруг плавал мусор. Пластиковые обертки, окурки сигарет, надкусанные ломти хлеба… Фортуни уже почти не барахтался, мысли стали медлительными, вялыми, его как будто уносило в самое желанное, самое заманчивое сновидение. Когда вода канала просочилась в его нутро, а дождь забарабанил по спине, руки и ноги Фортуни совсем замерли, оглушительный грохот дождя умолк для него, и он медленно и безвольно поплыл, увлекаемый течением канала, почти как мирный купальщик в безмятежных прибрежных водах.
И в эту минуту титаническим усилием (вспомнив, что, в конце концов, он все еще жив и не собирается угробить себя, нет, благодарю покорно!) он сумел перевернуться; его осоловевшие, пьяные глаза ловили сквозь туман темное, истекающее влагой небо, здания по берегам; голова, нос то поднимались над водой, то вновь скрывались. Сил уже не оставалось, он просто плыл по течению, то приходил в себя, то снова терял сознание, окружающее представлялось сном. Шляпа Фортуни, свалившаяся, когда он падал, теперь плыла перед ним по каналу, и серебристые волосы окружали голову наподобие венка.
И так, влекомый вздувшимися каналами, под проливным дождем, за которым наутро наверняка последует aqua alta [20]20
Букв. высокая вода (ит.) – паводок, наводнение.
[Закрыть], Паоло Фортуни, Маэстро, отпрыск знаменитого рода, отправился в свое последнее турне по городу.
Фортуни не знал, а может, и знал, пока в нем еще теплилось сознание, что упал он в небольшой канал Сан-Марко – поток, стремящийся в реку Рио-ди-Сан-Моизе и, мимо гостиницы «Бауэр Грюнвальд», в обширное пространство Большого канала, где ряды черных гондол ждали его прибытия, как вереница черных машин.
Следом за опередившей его шляпой Фортуни несло через темный, залитый дождем город. Сначала по Рио-деи-Баркаролли. Он плыл мимо церкви Сан-Фантин, с проглядывавшим на заднем плане фасадом «Фениче», миновал знакомую лавочку канцелярских товаров, темную, с опущенными на ночь стальными ставнями. Там ждали часа открытия свежеотпечатанные конверты, писчая бумага с эмблемами, гравюры с видами старой Венеции. Через несколько часов, в дождливую среду, рано утром, хозяин, которого Фортуни знал всю жизнь, отопрет двери своей лавочки «L'art d'Écrire», и торговля, источник живительной силы города, продолжится как обычно. Но в данный момент магазинчик был безмолвен и пуст, и только призрак владельца мелькнул с улыбкой в дверях и в последний раз помахал проплывавшему мимо дону Фортуни, которого неизменно встречал как почетного гостя.
Мимо замусоренной туристами улицы Веньер, с бачками, переполненными ресторанными отходами, мимо сумбурного фасада самой Сан-Моизе Фортуни вынесло в воды Большого канала, и он оказался лицом к лицу с сияющими куполами Салюте, куда намеревался снова наведаться, хотя бы ради Тициана и Тинторетто в сакристии. А потом, как бы по собственной воле (на самом же деле влекомое течением), тело Фортуни свернуло налево и последовало по каналу обратно в город. Шляпа его к тому времени уже далеко уплыла вперед.
Слева показался Музей Гуггенхайм [21]21
В музее находится коллекция Пегги Гуггенхайм – племянницы мецената Соломона Гуггенхайма.
[Закрыть], а затем и деревянный Академический мост, по которому Фортуни прогуливался каждый день и рядом с которым, еще юношей, узрел удаляющуюся фигуру Эзры Паунда, в шляпе, с тростью и в пальто, в которое он кутался, как в плащ.
Неподалеку от моста, за каналом, – ветхий ренессансный дворец, в котором помещается консерватория. Здание оставалось бы темным и тихим, если бы не фортепьяно, флейты, трубы, барабаны, не ритмичные вздохи виолончели и струнных; жизнерадостная мешанина звуков плыла над водой, сквозь струи дождя, к уносящейся вдаль фигуре Маэстро, причем каждый из молодых исполнителей, закончив, ждал реакции Маэстро – легкого кивка, а может быть, и улыбки или безразличного взгляда. И где-то – память о том вечносущем утре, когда ему явилось юное создание с солнечными волосами – явилось, сказало несколько слов и всколыхнуло волну сладчайшей боли в сердце Фортуни. Нет, даже не волну, а колыхание бездонной зелени, обещавшее стать волной. И, под дождем, его сердце снова встрепенулось в груди, вновь переживая момент ожидаемой остановки, слишком сладостной, чтобы ее вытерпеть…
И тогда, накатившись из вздувшейся пучины, темная волна подхватила его и закачала туда-сюда, голова его погрузилась в воду и там и осталась, канал свободно вошел в его легкие – Фортуни сдался на милость тому колыханию бездонных зеленых глубин, с которым впервые соприкоснулся весенним утром, ныне принадлежавшим прошлому.
Проплывая под мостом по прибывающим водам aqua alta, недвижное тело Фортуни приближалось теперь к арабским аркам piano nobile просторного дома, где его семья жила последние шестьсот лет. Свет все еще горел, и Роза, обеспокоенная тем, что в столь поздний час хозяин еще не явился, смотрела на серую пелену дождя и бесконечно перебирала четки, меж тем как тело последнего представителя рода проплывало под окнами.
Против обыкновения, Роза позвонила в консерваторию, потом в кафе «Флориан», и все без толку. Тем же утром, отчаявшись, преданная служанка позвонит в квестуру, чтобы синьора Паоло Фортуни внесли в список пропавших без вести.
И вот в серые предрассветные часы, когда Большой канал свободен от транспорта и продвижению ничто не мешает, Фортуни совершил путешествие по спящему центру своего родного города. Мимо каналов, через Сан-Поло, под мраморными ступенями моста Риальто, через Санта-Кроче – к не столь пышным домам Каннареджо. С низко нависших темных небес не переставая лил дождь, уровень воды в каналах поднимался, на низко расположенные площади стала выплескиваться первая aqua alta, превращая их в первобытную топь, – море временно заявило свои права на город, которым, конечно же, когда-нибудь завладеет навсегда.
Рано утром, когда муниципальные рабочие начали возводить барьеры на затопленных городских площадях, Фортуни торжественно, чуть ли не по-царски, был принесен к вокзалу Санта-Лючия. Тело первым заметил по пути на работу некий лавочник; отчаянно размахивая руками, он подозвал полицейский катер, медленно патрулировавший по каналу. Когда тело выловили из воды и сбросили на ступени станции, двое полицейских проверили бумаги, остававшиеся во внутренних карманах темного пальто синьора Фортуни, обменялись кивками и, пока поблизости собиралась небольшая толпа, позвонили с катера в квестуру.
На протяжении того утра и всю вторую половину дня медленно, потихоньку, словно вторя дождю, по городу пошли слухи о том, что прошлой ночью скончался Маэстро. В последний раз его видели в кафе на Сан-Марко, и все безуспешно ломали голову над тем, как его тело, мертвое уже целых восемь часов, оказалось у вокзала Санта-Лючия. Течения, конечно же, должны были стремиться в обратную сторону – к бухте Сан-Марко. Однако отлив длился всего два-три часа, потом вода хлынула обратно в город, а тут еще дождь (полицейский пожал плечами) – и кто знает, что в таких обстоятельствах могло приключиться?
Черную фетровую шляпу выбросило в Дорсодуро на затопленную Кампо Сан-Вио, под деревянный барьер, где она и застряла и где тусклым будним днем ее затоптали резиновые сапоги и галоши городских рабочих.
Эпилог
Широко шагая, Люси шла по мосту к бульвару Сен-Мишель. Дул свежий, резкий ветер, в воздухе пахло дождем. Скоро настанет весна, а затем и снова лето. Лодки на реке заполнятся туристами, деловое утреннее солнце во второй половине дня будет умерять свой пыл, на тротуаре к вечеру станут множиться столики кафе.
Она остановилась и, перегнувшись через перила, стала смотреть на медленно текущую внизу Сену. Взгляд Люси проследил реку до той точки, где она распадается на два рукава, обтекая старинные городские острова, набережные Иль-де-ла-Ситэ, все еще залитые водой, похожие на бак стоящего на якоре дредноута. Вдруг из-под моста выплыла плоская баржа, груженная деревянными ящиками, и всколыхнула воду; от кормы бежали волны, бились о берег, выплескивались на мощенные камнем тротуары, где днем гуляли собачники, а по ночам спали бездомные. Неделю назад река, принявшая в себя столько дождей, готова была выплеснуться из берегов; теперь же она снова превратилась в спокойный поток, и парижские рыбаки вернулись.
Люси жила в Париже уже больше пяти месяцев, сначала в гостиничном номере рядом с университетом, а затем в небольшой квартирке-студии чуть дальше от реки, у Центра Помпиду. Фортуни она не писала, не оставила в Венеции адреса, куда направлять письма, и, следовательно, не получала никакой корреспонденции, не считая письма от Роны – студентки консерватории, с которой она почти сразу по приезде в Париж столкнулась на концерте. Помимо прочего, Рона написала, что Марко очень хвалили газетные критики в Риме. Марко, продолжала она, уверенно шагает к славе и все им очень гордятся.
Читая письмо, Люси представила, как Марко сфотографируют однажды летом в студии, как во время сессии все будут друг друга раздражать и как где-то за тысячу миль какая-то девочка влюбится в юного Марко с его задумчивым, отрешенным взглядом. Люси уже почти решила отправить ему почтой ту самую пятифунтовую банкноту, но заколебалась. Она подумала, что он давно забыл о том дурацком пустяковом пари, заключенном, как ей казалось теперь, не в прошлом году, а много лет назад. Но она продолжала носить банкноту в сумочке и после, выжидая подходящего момента, хотя в глубине души и знала, что упустила этот момент уже не раз. Кроме того, твердила она про себя, он теперь на пути к славе и вовсе не нуждается, чтобы ему навязывались старые друзья.
А Марко после своего громкого успеха все ждал письма с пятифунтовой банкнотой, которое так и не пришло. Спустя месяцы он предположил, что Люси не читает прессу, но, сколько бы ему ни твердили, что ему обеспечен наивысший успех, он верил, что подлинная слава придет к нему, лишь когда он получит письмо с пятифунтовой банкнотой.
Обычно Люси посвящала утро работе, но, поскольку в тот день разъяснилось после дождей, поливавших на предыдущей неделе всю Европу, ей захотелось посидеть с газетой и насладиться редким солнечным деньком на исходе зимы.
Поначалу вся городская обстановка – кафе, бульвары и мосты, даже кружившиеся в воздухе листья, даже река подавляла Люси, но в последнее время она приободрилась. Теперь она листала газетные страницы, оглядывала магазины на противоположной стороне улицы и подмечала вполглаза, как набухли почки у платанов. Купаясь в солнечных лучах, она на миг закрывала глаза, чтобы представить себе, как будут выглядеть эти площадь и кафе весной и летом, которые уже не за горами.
Но когда Люси вновь заглянула в газету и перелистнула страницу, там оказался Фортуни. Да, ошибки быть не могло. Это был синьор Паоло Фортуни, Маэстро, лицо искусно погружено в полутень, волосы зачесаны назад, в глазах самоуверенный блеск.
И вдруг Люси снова стало тринадцать. Этой фотографии (ныне хранившейся дома, в ее старой комнате, вместе со старыми рабочими тетрадями и учебниками) хватило, чтобы Люси, словно течением, которому она была бессильна противиться, отнесло обратно в детство. Она опять сделалась девочкой, которая каждую ночь играла на виолончели, чтобы ничего не чувствовать. Те долгие месяцы лета, те теплые одинокие вечера, когда мысль о мире Фортуни впервые овладела ею, теперь вернулись; это была часть ее «я», отложенная со временем в сторону, но не потерянная навсегда. Оно возродилось и набрало силы – желание иметь это все и в то же время быть свободной от этого всего, ностальгия, чувства, пережитые в прежних мечтах, а теперь снова дающие о себе знать… Люси закрыла глаза, и первая тень уходящего дня наискосок пересекла залитую солнцем площадь.
Некролог был большей частью посвящен музыкальным достижениям венецианского виолончелиста, который сохранил популярность у местной публики, однако был забыт слушателями и критиками в других странах Европы. В некрологе лишь кратко излагались обстоятельства его смерти: Фортуни на прошлой неделе утонул – вероятно, оступился; дело происходило ненастной ночью, лил проливной дождь, вызвавший наводнение, быть может, маэстро сбился с пути.
Люси оторвалась от газеты и ошеломленно уставилась невидящими глазами на поток машин по ту сторону моста. Заблудился? Утонул? Странно. Это был не ее Фортуни. Разношерстная смесь ночей и дней в Венеции, круговерть воспоминаний взметнулись в ней как уличный мусор и листья, поднятые внезапным порывом ветра, ищущие, где бы осесть.
Дом Фортуни, эти арабские арки, колонны, простой, лишенный каких бы то ни было украшений балкон piano nobile (она всегда будет помнить его залитым молочно-серым лунным светом) – все это умрет вместе с Фортуни. Уже умерло. Ни звука шагов по мраморным плитам, ни музыки, ни древнего языка, восставшего из позабытого уголка истории, чтобы поведать об океанах, пространствах и годах. А во дворе, наверное, ранний весенний ветерок всколыхнет новую поросль жасмина и потревожит в своем неостановимом полете старую вьющуюся глицинию. Но никаких более признаков жизни, ибо сад, как и дом, будет заброшен. Признаки запустения – сорняки, буйно распускающиеся в висячих корзинах и в путанице лоз, – вскоре будут бросаться в глаза.
А внутри всю обстановку гостиной, кушетку, рояль, табурет и кресло Фортуни теперь завесят белыми простынями. И точно так же – его кабинет, библиотеку, столовую – и спальню. Все-все комнаты в доме. А на стенах останутся только те картины, что не представляют денежной ценности: беспечные персонажи в одеждах по послевоенной моде и безупречная копия «Рождения Венеры». Комнаты, в которых нечем дышать, спертый воздух мертвого дома – дома, из которого улетучилась душа, дома, где кончилась история рода.
Когда Люси стряхнула с себя груз мыслей и посмотрела в окно, небо было затянуто облаками; зимняя стужа пронизала ее до костей. Она встала, сложив газету и взяв ее под мышку, и поспешно направилась к себе в студию.
Деревянный бок виолончели, твердый и пожелтевший от старости («Уильям Хиллз и К°, 1893»), поблескивал в углу. Люси не играла на ней ни сегодня, ни вчера, ни позавчера. По сути, целую неделю с тех пор, как прочитала о смерти Фортуни. Она даже не бралась за инструмент, даже не пыталась. Сейчас она сидела в углу холодной студии, прислушиваясь к ругани супружеской пары наверху, смутно замечая форму и цвет инструмента, позволяя сознанию медленно перемещаться между прошлым и будущим. То в ее слух проникал шум уличного движения, то руку обхватывали пальцы Фортуни и его голос говорил: «Большой палец соскальзывает, вот так. Американцы называют это фокус-покус. Проще простого, да?» И он улыбался. Ее Фортуни.
С удивительной живостью Люси вспомнила тот день, час и минуту, когда Маэстро произнес эти слова, когда продемонстрировал свою хитрость и первая из маленьких уловок Фортуни перешла в ее собственность. Вспомнила тот момент озарения, то чудо, ту поразившую ее простоту. Она поднялась со стула и мимоходом тронула пальцами настроечные ключи, непреднамеренно задев струны. Инструмент изверг из себя низкий, нестройный звук, похожий на отрыжку, и затих. Вдруг Люси осознала, что надо выйти из прострации, выбраться на вольный воздух, повернуться лицом к этому миру, а не вспоминать о другом. Она быстро схватила пальто, сбежала по лестнице и ступила за порог.
Узкие улочки за бульваром Сен-Мишель блестели от вечернего дождя. Кошачью вонь смыло, и мусор бежал к люкам по водосточным канавкам. Чистый воздух, от которого даже пощипывало в носу, отдавал дождем; его хотелось пить, настолько он был осязаемым и прохладным. Люси шла по улице, и рестораны обдавали ее теплыми запахами: чеснок, азиатские специи, греческий кебаб, сладкая ваниль; терпко тянуло вином и сигаретами «Голуаз» из баров для курящих. Люси упивалась окружением, столь отличным от ослепительных декораций Венеции, но, сколько бы она ни впитывала в себя парижский дух, сколько бы ни старалась слиться с толпой на улице, с посетителями кафе, с суетой вокруг, мысли ее возвращались к Фортуни – правда, на сей раз невозмутимо спокойно, с ясным пониманием.
Она поняла, что Фортуни играл для другого века и, сколько бы она ни старалась отождествить себя с этим веком, это было не ее время. Она была не права, когда полагала, что родилась не в том месте и не в то время. Век Фортуни был веком мрачных, далеких, всевидящих титанов, как нельзя более ему созвучных; его мертвой мифологией Люси пропиталась, сама того не зная, как в детстве – волшебными сказками. Но Фортуни ушел, воцарился ее собственный век, и он дожидался разгадки, истолкования. Боги, те самые всевидящие существа, дышавшие только самым разреженным воздухом, в которых она так страстно стремилась поверить, умерли. Ведь если ты когда-то разделял вечернюю трапезу с богами, слышал, как они говорят на незнакомых языках, а затем видел, как они теряют из-за тебя голову, как распадаются у тебя на глазах, оттого что ты уже в них не веришь, то им не остается ничего иного, как умереть. И нет ничего печальней на свете, чем видеть, как уходит то, без чего ты когда-то не мог жить.
Да, они ушли, но не прежде, чем одарить своим умением тех счастливцев, что способны его воспринять. Она вновь поблагодарила про себя Фортуни, но так, чтобы внушить ему, что она найдет собственную дорогу. Ей даже представился его кивок – кивок, которого столь многие дожидались, а удостаивались совсем немногие. Да, теперь его дары в надежных руках. Она примет его даяние – его секреты и маленькие хитрости, и сделает именно то, чего он всегда от нее ожидал: она использует их. Все прочее было бы предательством, ибо только так игра Фортуни всегда будет различима сквозь игру Люси, и – вместе – они будут жить дальше. Отец, проговорила она про себя, отец, теперь я оставляю тебя, но возьму тебя с собой. Ты уходишь, ты здесь. Я ничего не вешу, притяни меня своим весом обратно к земле.
Прошлое и будущее. Она раскачивалась, как былинка. Но сколько бы она ни колебалась на острие бритвы между тем и другим, она понимала, что наступил ее век, и не сомневалась в том, что Фортуни при всех своих достижениях, теперь кивнул бы ей, давая понять, что его дары в надежных руках, и в эту самую минуту позавидовал бы Люси, стоящей перед светофором на пороге необъятного будущего.








