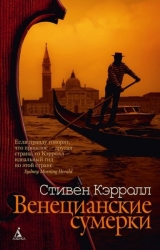
Текст книги "Венецианские сумерки"
Автор книги: Стивен Кэрролл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Молли не унималась: ну что это за девчонка, как она себя ведет, в чем ходит! В голове с того лета засело воспоминание, как хлопает в ночи дверь и она, Люси, чуть помедлив, убегает прочь.
Потом Молли неожиданно умерла. Умерла, и все, самым непостижимым образом, и Люси переполнил стыд, пришедший слишком поздно, однако на долгие годы. Неделю за неделей, месяц за месяцем она убивалась по Молли, желая вернуть то лето и все уладить – быть той самой послушной девочкой, которой матери так не хватало. Я исправлюсь, обещала она, обращаясь к пустым комнатам. Я исправлюсь.
И именно тогда музыка сделалась для нее чем-то большим, нежели просто удовольствием. Потому что за игрой Люси удавалось забыться. За долгие первые месяцы после смерти матери случались такие минуты, когда Люси, закрыв глаза, переставала слышать себя; музыка делалась сродни боли, слишком сильной для того, чтобы ее ощущало тело или воспринимал ум, и наступало состояние, которое можно назвать только небытием. Блаженное несуществование. Ведь это чувство вины так язвило Люси – вины, от которой страдали и отец, и дочь. Доктор Макбрайд не мог простить себе, что не уследил за симптомами жены, не сумел спасти близкого человека. Никто никогда не рассказывает вам о чувстве вины. Даже книги. В них говорится о плаче и стенаниях, о печали по умершему, но не о вине. В последующие годы Люси могла припомнить лишь дурное, те периоды, когда трудная дочь изливала все свое отчаяние на мать. И детская вера в то, что все и вся будет завтра таким же, как сегодня, и так утро за утром до бесконечности, – пошатнулась.
И только во время игры все это: боль, чувство вины – отступало. Только когда она выходила из своей комнаты после долгих, напряженных экзерсисов в странно притихший дом, пальцы Люси оживали и по мышцам растекалась боль; только тогда наваливалась усталость и начинало клонить ко сну.
Постепенно, ночь за ночью, становилось все легче ничего не чувствовать, пока… Пока в конце концов это не стало простейшим делом в жизни: Люси просто закрывала глаза и продолжала играть, препоручая себя музыке. И всегда она приходила к музыке Фортуни. Гнев, резкие удары смычка, дикая энергия и долгие, тянущиеся ноты – отзвучавшие, но странным образом переходящие в следующую фразу. И именно музыка Фортуни погружала ее в тишину. Люси понимала, что это разновидность смерти, и каждый вечер приветствовала это недолговечное умирание, потому что не сомневалась: без него она умрет на самом деле. И постепенно, незаметно для сознания, дни, утра и ночи стали восприниматься все легче. И даже косые лучи солнца, падавшие сквозь листву, однажды снова взволновали ее и вернули отброшенную было надежду. Настойчивую, умоляющую.
Но этим ночам, когда отец, иссохший, с потерянным взглядом, слушал в отдаленной комнате ее игру, – этим ночам суждено было остаться с ней навсегда. И какая-то часть ее существа в последовавшие годы тоже навсегда осталась девочкой, которая не могла себя простить, – девочкой, обещавшей стать хорошей и послушной, если только, если… Девочкой, которая вечер за вечером играла на виолончели, чтобы ничего не чувствовать. Годы спустя настанет время, когда сердечная боль притупится, когда Люси даже захочет втайне, чтобы она, эта боль, вернулась. Такая боль стоит того, чтобы немножко умирать за нее каждую ночь.
И вот, когда Люси в конце концов совершила этот протяженный, этот трудный путь к сцене венецианской консерватории, успех дался ей не только благодаря десяти с лишним годам упражнений – сама жизнь подготовила ее и закалила. Она сделала глубокий вдох, взглянула на Фортуни, стоявшего с правой стороны, в проходе у третьего ряда, и выдохнула.
Она запомнила только первые ноты и аплодисменты в конце: посредине зияла пустота. Чувствовать пустоту было легко. Жизнь хорошо подготовила Люси. Она водрузила виолончель обратно на подставку, тем же путем сошла с поскрипывающей сцены, села в то же холщовое кресло, поспешно откинула волосы со лба и позволила себе мимолетный взгляд на Фортуни, который смотрел куда-то вдаль, позабыв как будто обо всем окружающем.
Когда прослушивание подошло к концу, в зале зазвучали голоса. Казалось, все здесь обсуждают всех. Люси не обращала на это никакого внимания. Она нервно оглядывалась в поисках Фортуни, но увидела только спину черного пальто, мелькнувшую на том конце зала, в главных дверях. В панике она смотрела на удалявшуюся фигуру, шум в зале внезапно сделался невыносим. И слова молодого человека по имени Марко стали едва слышны.
Глава пятая
Это Марко встретил ее на вокзале несколькими неделями раньше. И это Марко в последующие дни и недели познакомил Люси со своей Венецией, отличной от той, какую она знала по своему прежнему краткому посещению или по книгам и картам. Люси приехала на поезде ближе к вечеру. По Большому каналу сновали вапоретти – маленькие пароходики (Люси улыбнулась, без труда переведя слово на английский), водные автобусы города, неуклюжие киты среди других пассажирских перевозчиков, проворных и маневренных, а также городских судов, предназначенных для торговых перевозок или увеселения публики.
Она сидела там почти час, поставив рядом виолончель и большой холщовый саквояж, купленный ей отцом как прощальный подарок. (Их прощание было незатейливым: бодрая улыбка на губах, но не в глазах отца, говорившего прощальные слова последнему члену семьи, последнему осколку старой жизни.) Теперь она поминутно воскрешала в памяти эту улыбку, семью, их троих. Они были миром внутри себя и для себя, и, оглядываясь в прошлое, она видела в этом опасность: ни у Молли, ни у Макбрайда не было никакого другого мира, к которому они могли бы в случае чего прилепиться.
Ступени были холодные, воздух студеный, но Люси сидела замерев и ждала; мысли о доме уступали место волнующим новым впечатлениям, взгляд скользил вдоль водного пути, замечая там и сям на облупившихся фасадах голую кирпичную кладку. Красно-белые, «парикмахерские» [9]9
На причальные столбы принято наносить красно-белые спиральные полосы; небольшие столбики такой же окраски служили в Италии указателем парикмахерских.
[Закрыть]столбы для причаливания, ступени домов обросли снизу мхом и водорослями; статуи были подернуты зеленым налетом; в воде у берега гнили бревна; сушилось на веревках белье, в одно из окон выглядывала старуха, опираясь подбородком о подоконник. А в воздухе этого единственного на свете города – тонущего, осыпающегося чуда по имени Венеция – навсегда повисли запахи водорослей и нечистот.
Так Люси и сидела, сложив руки на черном футляре виолончели, ожидая, когда же все начнется. Начнется что-то настоящее. Ожидая, когда вступит в мир, для которого, по убеждению Люси, готовила ее жизнь – та жизнь, которая от рождения была ей суждена.
Но пока она сидела, разглядывая серый фасад церкви Сан-Симеоне Пикколо, отель «Карлтон», билетные киоски, битком набитые вапоретти, рабочих в синих комбинезонах, мужчин в деловых костюмах, с дорогими кожаными портфелями, ее внезапно осенило, что вся эта плотная людская масса движется с работы. Люси оперлась подбородком о ладонь и стала размышлять о том, что это трудовой город и местный трудовой люд, как в любом другом городе, спешит теперь домой, оставляя за спиной церкви и мосты, не оглядываясь на забегаловки с сэндвичами и автобусные остановки. Она откинулась на ступени, глядя на блеклые – оранжевые, розовые и желтые – тона фасадов, дополненные тонами закатного солнца, слушая безостановочный плеск воды в канале и поскрипывание тележек для багажа, мешавшееся с голосом вокзального громкоговорителя. Долгие часы дороги начинали сказываться; Люси заподозрила, что ждать бесполезно, и стала высматривать ближайшие к вокзалу гостиницы.
Она было подумала, что ее не заметили среди толпы на ступенях, но нет, виолончель сразу бросилась бы в глаза, выдавая в ней ту самую, новую ученицу. Люси вытащила из сумки шоколадку и стала разворачивать, и тут кто-то произнес у нее под ухом: «Извините?»
Возле нее стоял молодой человек; английские слова он выговаривал медленно и тщательно.
– Синьорина… Мисс Макбрайд?
– Люси. – Она встала, улыбаясь и протягивая руку, и молодой человек улыбнулся ей в ответ, – возможно, его позабавил вид девушки, намеревающейся обменяться с ним рукопожатием.
– Добро пожаловать, – сказал он. – Меня зовут Марко. Марко Мацетти. Однако я опоздал. Еще раз прошу прощения.
– Не стоит. – Люси огляделась, указывая на канал. – Ждать было приятно.
Марко снова улыбнулся и обвел рукой панораму, словно это была картина, а он – художник:
– Понравилось?
Разбухшее вечернее солнце, похожее на яркий желток, висело прямо над каналом Каннареджо у нее за спиной, и Люси обернулась в тот самый момент, когда оно коснулось края крыш и, словно кровь, растеклось по черепицам, роняя последние капли света на улицы, закоулки и каналы города Люси улыбнулась:
– Да. Понравилось.
Она взяла виолончель, Марко поднял ее саквояж. Вместе они спустились по ступеням к каналу, где ступили на шаткую палубу переполненного речного трамвая, и тот, взбивая пену на мутной воде, прихлынувшей из Мертвой лагуны, пустился по долгой кривой к Сан-Марко, чтобы, описав круг по городу, вернуться в исходную точку.
Они сошли на остановке «Сан-Стае» и пересекли небольшую площадь перед мощными известняковыми колоннами самого храма Сан-Стае. Оттуда они последовали переулком, минуя подъезд, где какая-то старуха, поставив рядом пластиковые пакеты, пристроилась помочиться. Марко отвел взгляд, возможно смущенный, но Люси уставилась на старуху, которая опустила глаза, завороженно следя за тем, как из нее извергается желтая струя. Чуть подальше переулок выходил на небольшую площадь, где мальчишки гоняли мяч, ударяя им о стену, в то время как их родители, рассевшись на креслах и скамьях, курили, наблюдали за игрой и потягивали коктейли из банок.
– Это ваша площадь, – улыбнулся Марко, – очень симпатичная площадь.
Люси кивнула. По ту сторону симпатичной площади тянулся тихий узкий канал. Пройдя несколько шагов по берегу, Марко остановился.
– Тут, – кивнул он. – Вот тут. – Марко поставил саквояж на землю и снова улыбнулся, когда Люси протянула ему руку в знак благодарности.
Он вручил ей конверт, где лежал ключ, затем написал что-то на обороте карточки:
– Это мой телефон и адрес. Если у вас возникнут какие-нибудь трудности… – Он помедлил, сочиняя в уме предложение. – Звоните без колебаний. – Явно довольный своим английским, он слегка поклонился и направился в сторону площади.
Люси осталась одна; тени расчертили отвесные стены, окна и маленькие балкончики домов. Она помедлила перед дверью своего нового жилища, закрыла глаза и позволила себе на мгновение застыть, прежде чем решительно повернуть ключ.
Всю ночь она проспала как убитая, не озаботившись даже тем, чтобы распаковаться или поесть. В какой-то момент она проснулась – очертания предметов показались ей призрачными, незнакомые тени лежали вокруг – и тихонько продолжала лежать в ошарашивающей безымянной тьме, пока сознание ее не прояснилось и не подсказало, где она; тогда Люси снова закрыла глаза и погрузилась в мертвый сон путешественника.
Но колокола разбудили ее. Все колокола в городе – на церквах, площадях, капеллах, башнях – возглашали наступление нового дня. Близкие и далекие, ясные и чуть различимые, они гудели, трезвонили и перекликались в лад и не в лад, то сплетаясь в некую мелодию, то разражаясь музыкальным хаосом, спотыкаясь и путаясь, пока последний из них наконец не впал в молчание гаснущей, как свеча, нотой.
Город все еще пробуждался, когда Люси спустилась вниз и вышла на площадь. Кафе только открывались, к ним подвозили на ручных тележках хлеб, булочки, круассаны и фрукты. Вдыхая прохладный чистый воздух, в котором уже плавал аромат кофе, и прислушиваясь к нарастающему шуму и гомону наступающего делового дня, плеску воды в канале, Люси улыбнулась про себя, и ее губы расплылись в довольном полусонном зевке.
Она пошла по центральным улицам, по широкому, еще пустому Риальто и, полусонная, свернула на одну из улочек по ту сторону Большого канала. Бродя бесцельно и растерянно, досадуя, что забыла взять карту, она оставляла за спиной витрины, металлические козырьки, магазинчики одежды, кожаных изделий, масок, сувениров, пока не вывернула наконец на площадь Сан-Марко. Она уже бывала здесь и раньше, но все равно застыла, широко и восхищенно раскрыв глаза, блуждая взглядом по просторной площади, безлюдной, если не считать нескольких дворников и двух-трех ранних посетителей из разряда регулярных. Спокойно она раз за разом повторяла себе, что за трудом, суматохой и скучной рутиной, которые неизбежны в ближайшие дни, месяцы и годы, ей нужно все же постоянно хранить в памяти эту минуту.
Ближе к полудню она стояла под холодными голубыми небесами в южном конце Кампо Сан-Стефано и мотала головой. Нет, не может быть. Такого не бывает. Марко хохотал. Ну да, да, настаивал он. И он был прав: полуразвалившийся ренессансный дворец действительно оказался консерваторией. Мрамор, из которого она была сооружена, утратил свою белизну, дым и непогода покрыли здание серыми и черными пятнами, словно его разрисовали углем. Заросший сорняками балкон второго этажа служил приютом жирным голубям; время от времени они, шумно хлопая крыльями, перепархивали на колонны портала или на горгулью над парадной дверью. Из-за серого камня и забранных решетками окон здание напоминало скорее заброшенную тюрьму, чем музыкальное образовательное заведение.
Ничто не говорило о назначении здания, вывески и таблички отсутствовали, только в одном окне висела большая деревянная доска, на которой значилось, что министерство труда ведет здесь реконструкцию. Марко начал было что-то говорить, но его слова вдруг потонули в грохоте: с четвертого этажа по длинной пластиковой трубе во двор посыпались обломки камня. Казалось, здание вот-вот обрушится и Люси подоспела как раз вовремя, чтобы стать свидетельницей его шумного конца. Они подождали, пока грохот стихнет, и Марко провел Люси по ступенькам в зал на primo piano [10]10
Первый этаж (ит.).
[Закрыть]. Это уже гораздо больше напоминает консерваторию, подумала Люси и с довольным, благодарным вздохом огляделась, замечая, что зал едва ли не пугает своим величием. Ступив на зеркальный мраморный пол, она едва не заскользила как по льду. Расписной потолок с золочеными люстрами, резвящимися ангелочками, нагромождением облаков и синим небом с первого взгляда показался ей похожим на огромный свадебный торт, подвешенный над головой.
Марко представил ее женщине за столиком в зале, которая записала имя Люси и исчезла в соседней комнате. Пока они ждали, Люси прохаживалась по залу, разглядывая расписные стены и фрески на потолке и все время слыша дробное эхо своих шагов по мраморному полу.
Вернувшись, секретарша сказала, что синьор Беллини, преподаватель Люси, с которым она пришла встретиться, отсутствует, и предложила ей прийти завтра. И вот тогда Марко провел ее по консерватории. Из соседнего помещения доносились гаммы, исполняемые высоким журчащим сопрано, затем там заиграл рояль. Люси на мгновение закрыла глаза, а открыв их, увидела очередной поблекший плафон в стиле рококо, какими элегантно поблекшее палаццо Пизани, где ей предстояло учиться, было украшено во множестве. Где-то скрипач играл Баха, сопрано одолевало свои экзерсисы, крещендо рояля сменялось треньканьем, за которым следовали оглушительные аккорды, а Люси озиралась, приятно возбужденная этим попурри, этой сумятицей звуков, всей обстановкой в этом святилище музыки. И где-то среди звуков, залов, живописных плафонов, больших мраморных каминов, мутных зеркал в позолоченных рамах, на которых оставили свои инициалы прежние студенты и влюбленные, широких окон в частом свинцовом переплете, смотревших на тихий уютный канал, – среди всего этого витала реальная, осязаемая возможность встретить тут Фортуни.
Ибо это была школа Фортуни. Он преподавал здесь, давал здесь интервью и концерты. Он несомненно и многократно проходил по этому блестящему мраморному полу и, безусловно, вел уроки в зале, где сейчас находилась Люси, или, по крайней мере, здесь бывал. Каждая дверь, окно, помутневшее зеркало говорили о его близости.
Вернувшись на Кампо Сан-Стефано, Люси с Марко сели на ступени у статуи, расположенной в центре площади. Марко задрал голову и спросил:
– А вы знаете, что это за памятник?
Люси помотала головой. Марко хохотнул, внутренне наслаждаясь шуткой, прежде чем поделиться ею:
– Это Никколо Томмазео. Можете поприветствовать. – Он ухмыльнулся, когда Люси кивнула статуе. – Этот человек был героем войны с австрийцами. К тому же он был писатель. И за это ему поставили памятник.
Люси с уважением посмотрела на крепкую бородатую фигуру этого персонажа из девятнадцатого века и на впечатляющую кипу изваянных книг у его ног.
– Но поглядите. – Взяв Люси за руку, Марко подвел ее взглянуть на статую сбоку. – С этой точки кажется, что он… – Марко помолчал, думая, как бы правильнее построить фразу. – Гадит книгами. Верно?
– Да, – кивнула она, внезапно рассмеявшись, – верно.
Они еще посмотрели на Никколо Томмазео, после чего Марко отвел Люси к большому кафе на другой стороне площади, не переставая развивать свою мысль.
– Местные говорят caga libri. Книгосрал. Это хорошо, – сказал он, снова рассмеявшись, когда они подходили к кафе. – Мне нравится. Правда, по-английски звучит еще лучше – the bookshitter. До чего же мне нравится английский язык!
У себя на квартире тем вечером Люси извлекала из виолончели резкие, грубые ноты, ударяла смычком по струнам, словно бы пробуждая звук пощечиной или шлепком, прежде чем включить его в мелодию. Все новички должны были исполнить небольшую пьесу для преподавателей и своих однокашников. Это была местная традиция, нечто вроде ритуала знакомства. И Люси выбрала аллеманду из сюиты № 2 Баха, ту вещь, которая пробудила ее от дремоты в далеком саду десять лет назад. Вариантов трактовки этой сюиты множество, но Люси всегда играла ее так, как играл Фортуни, и всегда уверенно. Однако сейчас она подходила к ней с некоторой опаской, поскольку знала, что через неделю на концерте в числе слушателей будет сам Фортуни. Да, он будет в зале, и она наконец сыграет для него. Волнуясь и немного страшась, она продолжала упражняться, зная, однако, что все в порядке, что жизнь хорошо ее подготовила, и чем раньше этот день наступит, тем лучше.
И вот концерт закончился. Среди студентов и преподавателей шло взволнованное обсуждение своей и чужой игры. Никто, кажется, даже не вышел из зала, кроме Фортуни. А Люси, все еще не оправившейся от страха, в его отсутствие зал представлялся пустым. Марко наговорил ей кучу комплиментов – и за игру, и за посадку, – но она оборвала его на полуслове, оставила виолончель, выбралась из окружившей ее группы студентов и ринулась к дверям.
По крутой мраморной лестнице, лавируя между студентами и преподавателями, Люси ринулась вслед за Фортуни на первый этаж, однако мелкие шаги Маэстро были настолько проворны, что догнать его не удавалось. Он быстро вышел в сумрачный двор, пересек его и скрылся в portego консерватории, но, когда Люси добежала до дверей portego, путь ей преградили двое рабочих, которые несли длинные доски для лесов. Фортуни, сухопарый и стремительный, пересекал площадь перед консерваторией. Люси бросилась за ним.
На гладких камнях Кампьелло Пизано она все время слышала свой внутренний голос: Ну, давай же, окликни его. Скажи хотя бы слово, скажи «маэстро», а дальше будь что будет. Ну, давай.Но она молчала, и казалось, что момент будет упущен и Люси так и останется девочкой, которая всю жизнь ждала, а дождавшись, так и не заговорила. Она не могла, не была рождена для момента, требующего отваги. Кто-то другой, не исключено, сможет, но не она, не Люси. И, глядя вслед удаляющемуся Фортуни, она почувствовала, что момент, а с ним и все годы ожидания ускользают от нее.
И после короткой внутренней борьбы она все-таки окликнула Фортуни. Произнесла слово, способное стать началом. «Маэстро», – позвала она, и темная фигура остановилась и повернулась к ней.
Люси замедлила шаг и теперь стояла перед ним. Волосы ее ветром отнесло назад, щеки пылали после внезапной пробежки; на лице Фортуни была написана досада (он плохо выспался прошлой ночью, но разве Люси могла об этом знать?). Все еще хмурясь, он глядел испытующе, пока Люси здоровалась и представлялась; что у нее за акцент, Фортуни так и не смог определить. Но девушку он помнил. Это была та самая девушка, которая только что исполняла его музыку, это она волной прихлынула к его сердцу, причинив тупую сладкую боль, не оставившую его и на площади.
Потом она замолчала. Фортуни ничего не ответил, не желая поддерживать беседу: молодая женщина его растрогала, и все же он боялся. Он говорил себе, что нет никаких оснований бояться девушки, которую он видит впервые, но тупая сладкая боль под сердцем твердила обратное. Он кивнул, выражением лица давая понять, что ждет продолжения.
– Синьор Фортуни, – начала Люси, – я вас надолго не задержу. Должно быть, многие студенты подходят к вам за советом, но я так давно восхищаюсь вашим творчеством!
И снова Фортуни кивнул и промолчал с терпеливым видом выдающегося профессионала, который все это уже не раз слышал. Снова возникла неловкая пауза, и Люси потупилась, не решаясь перевести взгляд с камней мостовой на Фортуни.
– Пожалуйста, простите меня, маэстро, но мне очень хотелось бы знать, что вы думаете о моей игре.
Фортуни нахмурился, и вид у него стал недовольный, как будто он не привык к подобной прямоте.
– Я не собираюсь вам докучать, – неожиданно добавила она, поняв, что все идет совсем не по плану.
Фортуни откашлялся.
– Мне показалось, – ответил он, очень тщательно взвешивая слова, причем голос его звучал на удивление невозмутимо, хотя и хрипловато, – что вы были весьма небезынтересны.
– И все? – выпалила она и тут же пожалела, что родилась на свет.
Но он заговорил, не давая ей времени на оговорки:
– У вас впереди долгий путь.
– Знаю. – Она опустила глаза, потом подняла.
Фортуни улыбнулся и повторил:
– Долгий путь.
Он продолжал улыбаться, не двигаясь с места.
Она рискнула задать еще вопрос:
– Докуда?
Улыбка сбежала с лица Фортуни, он пожал плечами:
– А докуда вы хотите?
– Я хочу быть лучшей. Как вы.
– Лучшей, – повторил он и коротко рассмеялся.
Смех, отметила Люси, был мудрым. Смех человека, который все это уже слышал. Его усталость не бросилась ей в глаза. Взгляд Фортуни лучился, улыбка – заинтересованная, благосклонная, всеведущая – была улыбкой того, кто познал жизнь с особой, недоступной большинству людей стороны, кто побывал на высотах и вернулся, осыпанный звездной пылью; кто не просто поддается течению жизни, а творит ее. Кто живет по собственным правилам, дополняя ими законы Всевышнего и заставляя судьбу менять свои намерения.
– Я готова работать, не жалея себя, – сказала она едва ли не умоляюще.
Фортуни обвел взглядом площадь, и Люси решила, что он ищет повод закончить разговор. Но он обернулся к ней и прищурился:
– У вас сильная воля?
Люси ничего не ответила.
– Сильная? – повторил Фортуни, повышая голос и жестом подчеркивая важность вопроса.
– Да, – сказала Люси, стараясь, чтобы это прозвучало уверенно, но притом явно сомневаясь.
– Тогда всего вам наилучшего.
Он собрался уходить, но Люси, чувствуя себя обманутой, снова остановила его. Он повернулся к ней, и она заметила, что они одного роста и лица их на одном уровне. И еще Люси подметила густые волосы и знакомые усталые глаза, в которые она глядела все свое бесконечное отрочество.
– Маэстро, я знаю, что иногда вы даете уроки.
– Уже нет.
Но Люси не собиралась отступаться.
– Пожалуйста. Пожалуйста, разрешите мне сыграть для вас, – настаивала она. – А если вы решите, что смысла нет, значит так тому и быть.
Фортуни помолчал, с ног до головы оглядел эту решительную молодую особу и задумался. Взгляд его скользил по обширной площади со снующими туда-сюда прохожими, пальцы легонько постукивали по бедру.
– Как вас зовут?
– Люси Макбрайд.
Еще помолчав, Фортуни дал ей визитную карточку и назвал время (совсем как отец Люси, доктор, когда назначал прием), после чего продолжил путь через площадь к магазинам на другой стороне.
Люси проводила его взглядом, затем опустила веки и, крепко зажав в руке карточку, вернулась к стрельчатому порталу, увенчанному горгульей. В консерватории Люси извинилась перед Марко и другими студентами, которых так стремительно покинула всего несколько минут назад. Пока они спускались по лестнице, Марко снова поделился своими впечатлениями о ее игре, но, хотя Люси и улыбнулась, она даже не расслышала, о чем это он.
В тот вечер Фортуни без устали бродил из конца в конец своей гостиной. Если бы дело происходило летом или хотя бы весной, в теплую погоду, он, наверное, вышел бы во дворик, сел под кустами сирени и так скоротал бы вечер. Но шел дождь, и воздух в доме едва-едва прогрелся от включенных батарей. Роза уехала к родителям. Готовой еды в доме не осталось, а Роза вернется не раньше утра.
Тишину в гостиной нарушал только звук его шагов. Фортуни остановился возле виолончели, бегло провел пальцами по блестящему полированному дереву и впервые с самого утра подумал о молодой женщине из консерватории. Ему совсем не хотелось снова обзаводиться учениками, но она тронула его, и он до сих пор чувствовал ту волну или, лучше сказать, то колыхание, которое могло обернуться волной. Неужели молодые женщины так изменились, думал Фортуни, или все дело просто в том, что он сам уже не молод? И правда ли в их глазах написано, что, едва тебя захотев, они могут тут же тебя раздеть, или подобное читалось во взглядах молодежи испокон веков? Играла она не то чтобы так уж хорошо, но с напором, и если уж быть до конца честным с собой, то в ее игре была свежесть. Да, жизнь в ней есть. Бьет через край. Иной раз и чересчур, пожалуй. Но эти острые углы всегда можно как-то скруглить. Кроме того, ее юный голос будет звучать в гостиной, а дом нуждается в юных голосах. Он закурил, что было ему запрещено врачом, и мысленно вернулся к утренним событиям, изредка бросая рассеянный взгляд на висящую на стене Венеру.
Чуть позже, усевшись за круглый стол орехового дерева у себя в кабинете, Фортуни стал лениво прослеживать свое генеалогическое древо. Аккуратно начерченное на пергаменте, оно лежало перед ним. Пальцы Фортуни медленно блуждали сквозь века, останавливаясь в тех точках, где какая-либо из ветвей пресекалась, затем двигаясь дальше, туда, где древо давало новые побеги. Наконец его пальцы остановились на конечной точке, на нем самом. Обведя кружком свое имя, он прошептал, ни к кому не обращаясь: «Фортуни, Великий Тупик» (так он именовал себя в подобном состоянии духа), затем провел незримую линию от своего имени к пустующему месту внизу.
Когда наконец он отправился на покой, стояла уже поздняя ночь. Он так ничего и не съел, правда выпил небольшой стаканчик спиртного – своего любимого кальвадоса. В последний раз в тот вечер тишину дома нарушило эхо его шагов, и, выключив свет, он отчетливо осознал, насколько нуждается в том, чтобы эту тишину нарушали и другие звуки.








