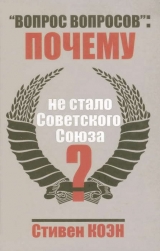
Текст книги "«Вопрос вопросов»: Почему не стало Советского Союза?"
Автор книги: Стивен Фрэнд Коэн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Пустые полки государственных магазинов, несмотря на яркость образа, не означали массового голода. Деревенские жители во все времена питались в основном тем, что вырастили сами, но даже многие горожане не были полностью зависимы от государственных прилавков. Существовали, пускай более дорогие, негосударственные – колхозные и кооперативные – рынки и магазины, существовали личные дачи с огородами, а, кроме того, существовала система общественного питания: почти все работающие и учащиеся советские граждане традиционно обедали в столовых по месту работы или учебы, откуда они также могли брать продукты домой. Эта устоявшаяся система продолжала действовать и в 1990–91 гг., хотя, без сомнения, качество такого питания заметно снизилось{136}.
Впрочем, каким бы серьёзным ни был данный кризис, его главная причина была не экономическая. Как говорят в один голос многие западные и российские экономисты, «СССР убила… политика, а не экономика»{137}. С конца 1980-х гг. и по 1991 г. следующие одно за другим политические решения и события непрерывно ослабляли и расшатывали старую советскую экономическую систему, не оставляя при этом времени для развития на её месте новой. И, как результат, – экономический кризис. Между тем, присущая советской бюрократической системе проблема претворения в жизнь новых политических решений, только обострилась. (К лету 1990 г. Горбачёв, несмотря на свои новые президентские полномочия на бумаге, на деле был не в состоянии осуществить ни одной крупной экономической инициативы. Как сетовал один из его помощников, «самые реформаторские решения повисают в воздухе»){138}.
Начало череде политических факторов, дестабилизировавших экономику, было положено принятием Горбачёвым реформ, направленных на демократизацию и децентрализацию власти. Это привело к сокращению партийно-государственного контроля над предприятиями, ресурсами, заработной платой, денежной массой и, в конечном итоге, собственностью. Затем последовали «парад суверенитетов» (причём в суверенитете многие республики и регионы всё больше видели экономическую автономию), стихийная «приватизация» без оглядки па производство и целый ряд заявлений правительства – сначала горбачёвского, затем ельцинского – о грядущем повышении цен, спровоцировавших покупательский и «запасательский» ажиотаж. Негативное воздействие на экономику оказали даже некоторые аспекты внешней политики Горбачёва: так, для вывоза военной техники и оборудования из Восточной Европы потребовалось задействовать значительные железнодорожные мощности, что также способствовало перебоям в продовольственном снабжении. В ответ на растущий спрос и дефицит товаров, региональные власти – и, похоже, не без участия недругов Горбачёва – начали придерживать свою продукцию, саботируя общенациональный рынок и, тем самым, нанося ему ещё больший ущерб{139}.
И здесь также свою разрушительную роль сыграл августовский путч 1991 г. Ещё более ослабив центральную власть Горбачёва и союзного правительства, он усугубил экономическую ситуацию и, в конечном счёте, привёл к расчленению единой союзной экономики. К концу года Ельцин, от имени РСФСР, не только отказался платить налоги в союзный бюджет, но и присвоил себе ряд экономических и финансовых активов Союза{140}. Экономика, жаловался Горбачёв, стала «заложницей политики»{141}. И, по мере того как политика становилась всё более радикальной и экстремальной, те же черты приобретал и экономический кризис.
Политический радикализм, поразивший страну и особенно столичные Москву и Ленинград в 1990–91 тт., является центральным пунктом четвёртой версии распада СССР. Представляя российскую историю как «цикличный» процесс{142}, её сторонники утверждают, что перестройка потерпела крах по тем же самым причинам, что и все предыдущие попытки модернизации страны путём постепенных, эволюционных преобразований: пала жертвой полного драматических страстей и предельно деструктивного экстремизма.
В соответствии с этим «трагическим» взглядом на давнюю российскую традицию неудачных реформ и упущенных возможностей, «с её жуткими гримасами и жестокой иронией», итогом всегда была либо революция, либо реакция, либо и то, и другое{143}. Так, реформы Александра П, предпринятые им в 1860-е гг. с целью либерализации российского общества, привели к его убийству радикалами, политике «закручивания гаек» со стороны его наследников и революционному взрыву в 1905 г. Модернизация земельных отношений, начатая премьер-министром Петром Столыпиным в 1907 г., закончилась его убийством и, в конечном счете, крахом царизма в ходе Февральской революции 1917 г. Возникшее в результате тех февральских событий, демократически настроенное центристское правительство было сметено большевистским переворотом в октябре 1917 г. Эволюционный ленинский НЭП 1920-х гг. пал жертвой сталинской «революции сверху». Даже ограниченные, направленные на десталинизацию, реформы Хрущёва 1956–64 гг. привели к его свержению и двум десятилетиям реакционного «застоя»[55]55
О месте Горбачёва в этой традиции см., напр., Ципко Александр // Комсомольская правда. 1991. 16 марта; о «судьбе реформаторов» см. Бурлацкий Фёдор // Литературная газета. 1990. 27 июня; Шатров М.Ф. // Свободная мысль. 1994. № 10. С. 23; Медведев В. // Прорыв к свободе. С. 9, а также известное высказывание самого Горбачёва: «Я не знаю счастливых реформаторов». В другой раз, комментируя перечисленный здесь ряд событий, он уточнил: «Судьбы русских реформаторов трагичны». Горбачёв. Годы трудных решений. – М., 1993. С. 25; Он же // Комсомольская правда. 1993. 19 августа. См. также Перестройка. Под ред. Толстых. С. 213. Ещё более определённо выразилась однажды жена Горбачёва: «Проблема нововведений заключается в том, что они рано или поздно оборачиваются против своих авторов и уничтожают их». Цит. по: Bescshloss and Talbott. Highest Levels. P. 230. О Ленине как о «трагической фигуре» см. Буртин Юрий // Красные холмы. Альманах. – М., 1999. С. 462. В качестве примера критики подобного «детерминистского» подхода к трактовке русских реформ см. Каменский А.Б. // Вопросы философии. 2006. № 6. С. 25–26.
[Закрыть].
Главным проводником идей деструктивного радикализма при царизме было, как считается, экстремистское крыло русской интеллигенции: образованные, оппозиционно настроенные молодые люди, часто с характерным комплексом вины перед простым народом, – возникшее во второй половине XIX века. Эта радикальная русская интеллигенция, отличавшаяся, как принято считать, политическим нетерпением, максимализмом и нигилизмом, постоянно стремилась свергнуть существующий режим во имя некоего нового порядка, навеянного западными теориями, самой роковой из которых оказался марксистский социализм{144}. Согласно данной версии, нигилистическая традиция интеллигенции XIX века вновь возобладала при Горбачёве, когда ряд представителей советской партийной интеллигенции, проникшись идеями свободно-рыночного капитализма и назвав себя «радикальными демократами», принялись подрывать основы эволюционной перестройки нещадной критикой и всё более антисоветскими требованиями.
В работах западных авторов эта трактовка конца Советского Союза встречается не часто и не в полном объёме – возможно, потому что большинство из них с симпатией относятся к этому самому антисоветскому «экстремизму». Зато она очень популярна в России, где ведущая роль интеллигенции считается «непреложным законом всех русских революций»{145}. Как недвусмысленно пишет известный российский историк, «нет сомнения, что именно интеллигенция явилась главной силой, расшатывавшей советский строй». Другой учёный также уверен, что именно эти «политические противники Горбачёва и его осторожного, эволюционного курса» задушили перестройку и уничтожили Советский Союз. Некоторые авторы ещё более категоричны в своих обвинениях и «на сакраментальный вопрос “кто виноват?”» отвечают однозначно: «интеллигенция»{146}.
В отличие от некоторых других версий развала Советского Союза, эта не является плодом позднейших умозаключений. Начиная с 1988 г. и по 1991 г. более умеренно настроенная часть советской интеллигенции, озабоченная «пресловутыми» прецедентами, предупреждала «сверхрадикалов» об опасности «большевизма наизнанку», который вновь «разрушит всё до основания». Они боялись, что традиционно присущие интеллигенции «нетерпение и экстремизм» и новое попадание «в плен максимализма» приведут к «очередным историческим потрясениям», вновь оставив нераскрытыми «эволюционные возможности отечественной цивилизации»{147}. Страх того, что традиция возобладает над начавшейся советской перестройкой, был настолько велик, что сторонники реформ, от так называемых «умеренных демократов» до самого руководства во главе с Горбачёвым, всерьёз заговорили о грозной аналогии: «Нашу перестройку… постигнет трагическая судьба НЭПа»{148}.
Традиция российской интеллигенции действительно сыграла важную роль в событиях последних лет существования Советского Союза. Она проявилась в поведении многих коммунистов среднего возраста, которые так быстро и круто развернулись и против своей прежней идеологии (в том числе, вдохновивших перестройку идей антисталинизма), и, в духе «своеобразного эдипова комплекса», против недавно освободившего их советского лидера. Как и в случае с их предшественниками из царской России, подобный интеллигентский радикализм часто выглядел как «личное покаяние» за «стыдный факт» предшествующей привилегированной жизни – на сей раз, партийных интеллектуалов-конформистов{149}.[56]56
Сам Горбачёв крайне редко публично упрекал интеллигенцию за то, что она отвернулась от него, но однажды в 1992 г. в сердцах пожаловался на «предательство интеллигенции, которой всё дал». Цит. по: Ципко // Прорыв к свободе. С. 336. Иное объяснение идейного обращения интеллигенции см. Kotz and Weir. Revolution From Above. P. 65–66, 69–70; а пример критической трактовки роли интеллигенции в советское и постсоветское время, см. Boris Kagarlitsky. Russia Under Yeltsin and Putin. – London, 2002. Chap. 2.
[Закрыть] Неудивительно, что они с таким энтузиазмом, в соответствии с ещё одним характерным аспектом данной традиции, восприняли новую максималистскую «сказку» – о возможности одним революционным скачком, всего за «500 дней», достичь полностью приватизированной рыночной экономики. (Даже несмотря на то, что МВФ и другие западные финансовые организации также выступили против «500 дней», когда Горбачёв в 1990 г. отверг этот первый вариант «шоковой терапии» как нереалистический, болезненный в социальном отношении и небезопасный для существования Союза, ненависть к нему радикальной интеллигенции только возросла){150}.[57]57
Влиятельные западные эксперты утверждают, что отказа Горбачёва от плана «500 дней» было либо проявлением его псевдореформаторской сущности, либо «фатальной ошибкой». См., напр., Malia. Soviet Tragedy. P. 479–480; Matlock. Autopsy On an Empire. P. 419; а также Robert G. Kaiser. Why Gorbachev Happened. Exp. ed. – New York, 1992. P. 363, George Soros // Moscow News, Oct. 30 – Nov. 5, 1997. Однако даже сторонники методов «шоковой терапии» из ельцинской команды позднее признавались, что план 1990 г. был «сказкой», «утопизмом» и просто «нереалистичным». См. Гайдар Е. Дни поражений и побед. С. 68; Согрин В. // Новая и новейшая история. 1999. № 1. С. 86, а также McFaul. Russia's Unfinished Revolution. P. 100. Даже Ельцин, поддержавший план в 1990–1991 гг., позже назвал его примером «детского» отношения и «максимализма». – Московские новости. 2003. 21 октября.
[Закрыть]
Другой чертой, унаследованной перестроечной интеллигенцией от предшественников, от революционеров-подпольщиков ХТХ века до Ленина, стала страсть к политике. (Один интеллигентный наблюдатель пришёл в «ужас» от «революционной толпы, состоящей из докторов наук и академиков»){151}.[58]58
Ещё один представитель умеренных назвал их «партией дураков». – Петраков. Русская рулетка. С. 278–286. Более подробный анализ политики интеллигенции см. Devlin. Rise of the Russian Democrats.
[Закрыть] Доверенные им Горбачёвым важнейшие средства массовой информации они всё больше использовали для поляризации политической атмосферы. Уже к 1990 г. они стояли в первых рядах самых радикальных движений своего времени, променяв Горбачёва на более «максималистского» героя («Самые умные – за Ельцина»), о чём впоследствии некоторые из них будут глубоко сожалеть{152}. Но тогда, в ноябре 1990 г. и особенно после официального применения вооружённой силы в Латвии и Литве в январе 1991 г., ответственность за которое они возложили на Горбачёва, даже «прорабы перестройки», которых он выдвигал и поддерживал с 1985 г., выступили с требованием его отставки{153}.
Однако, в конечном счёте, радикальная интеллигенция не была главной причиной развала Союза. Она много сделала, для того чтобы сфокусировать общественное недовольство на политике Горбачёва и поддержать Ельцина, но никакой реальной власти, помимо этих двух руководящих фигур, у неё не было. Несмотря на весь свой вес в обществе и громкие голоса, радикальная интеллигенция пользовалась небольшим авторитетом у простых россиян, по большей части недолюбливавших её. Кроме того, радикалы представляли далеко не всю интеллигенцию даже Москвы и Ленинграда, не говоря уже о провинции, где их почти не было. Как и на протяжении большей части российской истории, интеллигенция оказалась второстепенным, а отнюдь не главным действующим лицом.
Это вплотную подводит нас к проблеме роли лидеров: Горбачёва, Ельцина или обоих, – в исторической драме 1985–91 тт. Рассматриваемый в контексте событий, этот «субъективный» фактор был первой и основной причиной конца Советского Союза, или того, что некоторые русские называют «навязанным роспуском»{154}. Многие западные специалисты (в отличие от большинства российских) с этим решительно не согласны. Советологи, подобно большинству современных интерпретаторов истории, а также по собственным, советологическим, резонам, не любят объяснять важные исторические события поведением отдельных личностей, пусть и очень влиятельных. Они предпочитают говорить об «объективных процессах» – в данном случае, тех, что были связаны с важнейшими, определяющими элементами советской системы, якобы сделавшими её гибель неизбежной{155}.[59]59
Самыми большими «объективистами» в России являются те, кто играл главные роли в упразднении Союза и в управлении возникшим из него постсоветским государством, но при этом отрицает свою личную, то есть субъективную, ответственность за это, о чём говорилось ещё в то время (см. Марков Сергей // Труд. 1991. 15 декабря). См. интервью Ельцина российскому телевидению 14 марта 1996 г., в котором он утверждал, что «крах» был результатом «объективного процесса» и потому «неизбежным». – FBTS. March 15, 1996. Р. 18, а также Ельцин Б.Н. Записки президента. – М., 1994. С. 152; Vladimir Май and Irina Starodubrovskaya. The Challenge of Revolution. – New York, 2001; Гайдар Егор. Дни поражений и побед. С. 148–151. Кроме того, см. русских авторов из прим. 192.
[Закрыть]
Однако «решающая роль субъективного фактора» в развале СССР становится очевидной из простого контрфактического примера: стоит убрать двух этих главных протагонистов, особенно Горбачёва, и становится почти невозможно представить, чтобы события 1985–91 гг., приведшие к печальному итогу, развивались именно таким образом. Зато, считает известный американский учёный, легко представить себе Советский Союз, «продолжающий идти своим путём в условиях относительной стабильности. Вот единственно возможный вывод»{156}. И с ним согласны не только очень многие российские авторы, пишущие на эту тему, но и большинство российских граждан, о чём говорят регулярные опросы общественного мнения, и, по крайней мере, несколько западных специалистов. Все они тоже «не видят каких-то мощных объективных экономических, социальных и политических причин, способных разрушить столь сильное и большое государство»{157}.
Однако и среди сторонников «лидерской» версии имеются существенные разногласия. Споры (особенно в России) вокруг характера руководства в те годы, как то: двигали ли им благие намерения или оно изначально не несло ничего, кроме вреда; отличалось мудростью или непрофессионализмом; достойно или не достойно уважения; насколько преднамеренными или непреднамеренными оказались его итоги, – представляют интерес, но для нас важно другое. Нас больше интересует, кто из лидеров несёт главную ответственность за исчезновение Советского государства. Одни «субъективисты», как западные, так и российские, кивают на Горбачёва, другие на Ельцина, а некоторые возлагают вину на обоих лидеров.
На первый взгляд может показаться, что больше виноват Ельцин. Это он 8 декабря 1991 г. тайно встретился в Беловежской Пуще с лидерами двух других советских республик, чтобы подписать соглашение об упразднении Советского Союза. Однако вклад в этот роковой исход отсутствующего Горбачёва был более значительным – даже несмотря на то, что он изо всех сил старался предотвратить его. Без тех политических перемен, которые Горбачёв осуществил в предыдущие шесть лет, ни Ельцин, ни любой другой из тех факторов, которые называют в качестве причины распада Союза, не смогли бы сыграть сколько-нибудь значительной роли, по крайней мере, в обозримом будущем.
В конечном итоге, именно горбачёвская политика демократизации предоставила интеллигенции свободу открыто говорить о «грехах» прошлого и настоящего, позволила общественному недовольству принять легальные и организованные формы, способствовала развитию национализма и формированию националистических движений, а также, ослабив центральный контроль над экономикой, приблизила её кризис. Что касается Ельцина, то он, как никто другой, выиграл от горбачёвских реформ, оказавшись в 1989 г. делегатом первого всесоюзного съезда народных депутатов, в 1990 г. – первого съезда народных депутатов РСФСР, а в 1991 г. – первым всенародно избранным президентом России. Таким образом, какую бы роль в конце СССР ни сыграли те или иные явления и события, «важнейшим ускоряющим фактором» явилось руководство Горбачёва. Неслучайно американский автор заключил: «Без Горбачёва до сих пор был бы Советский Союз»{158}.
Суждения о том, к каким последствиям привело горбачёвское руководство, существуют самые разные, как в России, так и на Западе. Одни говорят, что он «вывел [Россию] из рабства» и, как «освободитель такой страны», является «единственным великим русским реформатором, которому реформа удалась». Другие, что его «невероятное политическое невежество» сделало его «одним из самых ярких примеров провального руководства в истории». Третьи и вовсе обвиняют Горбачёва (и Ельцина) в том, что они явились вольными или невольными участниками американского заговора с целью уничтожения Советского Союза{159}. (По сути, широко распространённые в России теории заговора и популярные в США триумфаторские утверждения, что это американский президент или какая-то тайная служба «покончили с коммунизмом», – одного поля ягоды. Ни в тех, ни в других нет ничего достойного внимания, так что рассматривать их здесь мы не будем){160}.
Но, каким бы ни оказался вердикт знающих комментаторов, ни у кого из них нет сомнений в том, что в 1985 г. Горбачёв был единственным человеком в руководстве правящей Коммунистической партии, кто хотел и мог начать подобные реформы, а в последующие нескольких лет, когда политический класс перерос рамки КПСС, единственным, кто хотел и мог пойти на ещё более радикальные меры, даже перед лицом растущей оппозиции. Вот почему некоторые американские и российские учёные утверждают, что Горбачёв был чрезвычайно редкой фигурой в истории – лидером, «делающим события», или, как было сказано по поводу его не менее значительной роли в окончании «холодной войны», «исторически роковой личностью»{161}.
Именно в результате способности Горбачёва «делать события» и Ельцин, прежде мало кому известный провинциальный партийный руководитель, после его назначения по личной рекомендации нового генсека в Москву, также превратился в «роковую личность». («Не было бы Горбачёва, – заверяет нас знающий человек, – не было бы Ельцина»{162}). К 1991 г., будучи президентом единственной действительно неотъемлемой республики Союза – России, лидером растущего легиона «радикальных реформаторов» и народным «мессией», он определял судьбу начатых его патроном и оказавшихся в кризисе реформ, а значит, и непосредственно судьбу Союза. До провала августовского переворота он ещё колебался, не зная, поддержать ему Горбачёва или выступить против него. Но сразу после путча Ельцин, словно совершая свой собственный маленький путч, повёл наступление на и без того ослабленного противника, систематически, один за другим ликвидируя союзные институты власти и добиваясь передачи в пользу своей РСФСР практически всех политических и экономических полномочий союзного правительства{163}.
Последним шагом стало уничтожение того, что ещё оставалось у Горбачёва-президента: его государства. И если формально отменившее Союз Беловежское соглашение подписали три человека, по сути это сделал один. Без Ельцина, как говорил потом один из бывших республиканских лидеров, «не было бы Беловежского документа»{164}. Что касается двух других лидеров, то глава советской Белоруссии (вскоре ставшей Белорусью), верный традиционному статусу «младшего славянского брата», беспрекословно последовал за российским лидером, а глава Украины Кравчук, хотя и демонстрировал склонность к «независимости», тоже попал под влияние Ельцина{165}.[60]60
По поводу белорусского лидера Шушкевича, который, по некоторым данным, был в Минске учителем Ли Харви Освальда, убийцы президента Кеннеди (Steven Lee Myers // New York Times. May 30, 2003), см. его собственное, странное и противоречивое, изложение событий в «Огоньке» – Огонёк. 1996. № 49. С. 10–14, а также Гайдар. Дни поражений и побед. С. 150. Информированный российский автор отмечает, что Ельцин и Кравчук замышляли провокацию против Союза, начиная с сентября 1991 г., и всё это время Ельцин подстёгивал сепаратистские устремления последнего. Сазонов. Предателями не рождаются. С. 120, 128. См. также George Bush and Brent Scowcroft. A World Transformed. – New York, 1998. P. 556.
[Закрыть]
Вслед за Ельциным, оправдывавшим Беловежье его «неизбежностью»{166}, большинство западных авторов также уверовали в то, что к декабрю 1991 г. союзная альтернатива окончательно исчерпала себя. Но это было не так. Как признавался всего месяцем ранее сам Ельцин, а впоследствии подтвердил один из его главных советников на Беловежской встрече, она продолжала существовать{167}. Об этом свидетельствовали не прекращавшиеся переговоры между Горбачёвым и рядом республиканских лидеров и опросы общественного мнения, демонстрировавшие неизменную поддержку Союза. Более того, Союз из семи-восьми оставшихся республик, поддержи его Ельцин, мог бы, с учётом его размеров и ресурсов, подтолкнуть к возвращению остальных, в том числе Украину. Проблема заключалась в другом. В том, что, даже формально продолжая переговоры с Горбачёвым, Ельцин уже решил, что союзная альтернатива его больше не устраивает{168}.[61]61
Горбачёв всегда был уверен, что Украина вернулась бы в Союз, и в этом с ним согласны некоторые западные специалисты. См. Gorbachev. My Country. P. 151; Пять лет после Беловежья. С. 5–10, 104–105; и, напр., Simes. After the Collapse. P. 65–66. По поводу Ельцина см. Hough. Democratization and “Revolution. P. 469; а также Gorbachev. My Country. P. 147, Ципко A. // Известия. 1991. 1 октября. См. также прим. 178.
[Закрыть]
Что же заставило двух этих лидеров сделать то, о чём ещё несколькими месяцами ранее практически никто не мог подумать – уничтожить супердержаву XX века? Очевидно, что оба были людьми незаурядной политической воли, но не менее очевидно и то, что воля была у них разная: у Горбачёва воля к реформам, а у Ельцина воля к власти. Различие это не означает автоматического осуждения того или другого: последствия горбачёвской тяги к реформам могут быть так же неоднозначны, как и последствия тяги его противника к власти. Но при этом несомненно то, что эти двое сыграли взаимосвязанную роль в событиях, которые за какие-то шесть лет привели к исчезновению государства, ещё в 1985 г. казавшегося нерушимым.
Это примечательное стремление Горбачёва реформировать унаследованную им советскую систему и неразрывно, в его представлении, связанный с ней международный порядок, основанный на состоянии «холодной войны» между СССР и США, часто упускают из вида те, кто упрекает его в отсутствии энтузиазма и слишком медленном темпе реформ. На самом деле, страстная, безоглядная преданность реформам, названным им перестройкой, была главной чертой горбачёвского руководства, и, по мнению знающих наблюдателей, она обусловила, напротив, слишком быстрый темп нововведений. Имея в виду именно эту почти христианскую приверженность идее реформ, один бывший критик позднее назвал Горбачёва «апостолом Михаилом», подчеркнув при этом, что он использовал власть «не ради власти», а будучи «озабочен… судьбой начатого им переустройства жизни». Мало кто из наблюдателей сомневался, что «все произошедшие [к 1990 г.] титанические сдвиги» произошли благодаря «политической воле Горбачёва»{169}.[62]62
В своё время американские официальные лица не сомневались, что воля Горбачёва была решающим фактором прекращения существования советской империи в Восточной Европе. См. Don Oberdorfer. The Turn. – New York, 1991. P. 361; Beschloss and Talbott. Highest Levels. P. 92. Также см. Jacques Levesque. The Enigma of 1989. – Berkeley, 1997. Даже у противников Горбачёва не возникает вопросов по поводу того, кто положил конец «холодной войне»: «Этот деревенский дурак Миша Горбачёв победил Россию». – Вахитов Рустем // Советская Россия. 2002. 30 июля.
[Закрыть]
Только этой всепоглощающей волей к реформам можно объяснить те фатальные шаги, которые Горбачёв сделал – или не сделал. Этим объясняется то, что он шёл, перепрыгивая через тотемы и табу, на еретические изменения, даже не заручившись поддержкой собственной перестроечной коалиции, а затем и на ещё более радикальные шаги – перед лицом растущей угрозы оппозиции. «Никто не знает, как далеко я пойду», – сказал он помощнику ещё в самом начале пути и так и сделал: пересекая один политический рубикон за другим, ликвидировал диктатуру Коммунистической партии в стране и советскую империю за рубежом и ни разу при этом не повернул назад{170}.
Этим же, что не менее примечательно, объясняются и две характерные черты горбачёвского руководства, которые были и остаются беспрецедентными в российской политической истории. Первая состояла в пренебрежении, буквально разбазаривании огромной личной власти, унаследованной им вместе с должностью генерального секретаря ЦК КПСС. Как он сам неоднократно и без сожаления признавался: «Я бы работал так, как до меня работали, правили. Как Брежнев… как император». И, чтобы подчеркнуть, добавлял: «А есть ли ещё другой случай в истории, чтобы человек, получив власть, сам же её и отдал?»{171}.[63]63
Один из сторонников Горбачёва позже увидел в этом чудовищную ошибку российской политики. – Ципко // Литературная газета. 2005. 19 января.
[Закрыть] Результатом было его растущее политическое бессилие.
Второй уникальной чертой правления Горбачёва была его «глубокая неприязнь к использованию силы». Можно спорить о том, как часто он реально прибегал к использованию вооружённой силы – многие русские до сих пор жалеют, что он делал это не так часто и эффективно, как мог, – но, учитывая суровое прошлое страны и масштаб изменений, произведённых под его руководством, на его руках действительно осталось мало крови, можно даже сказать, «ни капли»{172}. За этим стоит его приверженность тому беспрецедентному для России типу реформ, которому он пообещал следовать в 1987 г., – «революции без выстрелов». Этому своему «кредо реформ» и «принципиальному ненасилию», которые для него были «не просто слова, а твёрдое убеждение, жизненная идея», Горбачёв в основном остался верен до конца – «в отличие от Линкольна», мог бы он добавить. Во имя своей реформаторской миссии, отмечает российский автор, Горбачёв «готов был отдать всё – и корону, и державу, и союзников»{173}.[64]64
Отказ Горбачёва арестовать Ельцина и других заговорщиков против Союза в декабре 1991 г. – «я так не могу» – принято трактовать как результат отсутствия «политической воли», но на самом деле в нём проявилась воля человека, верного своему кредо. См. Сазонов. Предателями не рождаются. С. 132–133.
[Закрыть]
Но если горбачёвская воля к реформам порой и подвергалась сомнению, то воля к власти его соперника, Ельцина, никогда. (Горбачёв, подчёркивая разницу между собой и Ельциным, говорил, что «царь Борис», как он насмешливо называл его, «боготворит власть»){174}. С момента появления Ельцина на советской политической сцене его все воспринимали как человека, убеждённого в том, что его судьба – править. У него, пишет британский корреспондент, была «огромная жажда власти и чутьё на то, где её можно найти», а российский журналист, некогда бывший почитателем Ельцина, назвал его позже «алкоголиком власти». Не отрицал этого и сам Ельцин. «Быть “первым” – наверное, это всегда было в моей натуре», – говорил он, а один из его бывших пресс-секретарей подтвердил: «Власть – его идеология»{175}.
Но дело, конечно, было не только в этом. Ельцин, как и многие его поклонники, видел себя героическим «отцом независимой демократической России»{176}. Но неотступная погоня за властью, осложнённая «патологической, всеуничтожающей, сжигающей его самого ненавистью к Горбачёву»{177},[65]65
Как видно из воспоминаний Ельцина (см. выше, прим. 189), его ненависть была обусловлена и подогревалась, в первую очередь, завистью к высокому посту Горбачёва, затем негодованием по поводу того, что его самого избрали, с подачи лидера, лишь кандидатом, а не членом Политбюро, а ещё позже – унижением, которое он испытал, будучи отправлен Горбачёвым в отставку. См. по этому поводу Marc Zlotnik // Journal of Cold War Studies. Winter 2003. P. 128–164. Добившись власти. Ельцин принялся, в свою очередь, по-всякому унижать Горбачёва, и даже спустя годы не преминул подчеркнуть, что не любит своего бывшего оппонента. См. интервью Ельцина российскому телеканалу ОРТ 17 октября 2000 г., Johnson's Russia List. Oct. 12, 2000.
[Закрыть] оказывалась, в конечном счёте, определяющей для его политической позиции. В разное время Ельцин побывал и «за», и «против» почти всех обсуждаемых в те годы инициатив: по поводу перестройки, «шоковой терапии» и свободного рынка, парламентаризма, коммунистической номенклатуры, Союза, – а также «ни за капиталистическую, пи за социалистическую» Россию. Даже поддержка независимости Прибалтики, которую так часто ставят ему в заслугу, воспринималась как «способ противопоставить себя Горбачёву». Действительно, очень многие из его политических взглядов, отличавшихся растущей радикальностью, похоже, имели смысл «не сами по себе, а, главным образом, как средство достижения личных политических целей». Это, по мнению американского посла в России, заставляло Ельцина «говорить людям то, что они хотят услышать, и он делал это не задумываясь», или, как метко выразился один российский автор, «ради власти он может стать кем угодно, хоть мусульманином»{178}.[66]66
Взять хотя бы то, что «план “500 дней”, который Ельцин с таким энтузиазмом поддерживал, он даже не читал», зато Горбачёв, выступивший против, «дважды прочёл каждое слово». – Braithwaite. Across the Moscow River. P. 293. См. также Matlock. Autopsy On An Empire. P. 418. По поводу других противоречивых позиций Ельцина см.: о перестройке – FBIS. Jan. 18, 1990. P. 131, June 3, 1991. P. 72, Черняев. 1991 год. С. 39; о «шоковой терапии» – Комсомольская правда. 1990. 8 августа, Известия. 1991. 4 декабря. В одном из таких случаев Горбачёв даже заметил: «Я не понял: это один и тот же человек или нет». – Правда. 1991. 16 апреля, а также Горбачёв. Понять перестройку. С. 358, где он пишет, что Ельцин вплоть до 1991 г. присылал ему поздравления по случаю коммунистических праздников. Позже противники Ельцина подробно перечислили, сколько раз и как менялись его взгляды. См., напр., Челноков М. Россия без Союза. С. 30–33; Трушков В. // Правда. 1996. 16 марта. См. также Hough. Democratization and Revolution. P. 279, 308, 333–334, 339–340. Ельцин, похоже, позже признал обоснованность обвинений, во всяком случае, части из них. Ельцин. Записки президента. С. 32. Сходную трактовку Ельцина-политика см. Kagarlitsky. Russia Under Yeltsin and Putin. P. 77–83.
[Закрыть]
Крайним проявлением ельцинской воли к власти стал исторический Беловежский coup d'etat, низвергнувший то, что, несмотря на все кризисы и потери, всё ещё оставалось ядерной сверхдержавой с населением около 250 миллионов человек. Ельцин и его соавторы неизменно отрицали то, что Беловежское соглашение было переворотом, настаивая на том, что после провала августовского путча «Советский Союз фактически прекратил своё существование, и нужно было об этом заявить де-юре». (На самом деле, гораздо больше их беспокоило наметившееся политическое возвращение «хитрого Горбачёва» и то, что его просоюзная позиция набирает голоса){179}. Но если было так необходимо формально прекратить существование Советского Союза, Ельцин мог бы сделать это открыто, обратившись с соответствующим предложением к лидерам или законодательным собраниям оставшихся республик – или даже напрямую к народу, путём референдума, как это сделал девятью месяцами ранее Горбачёв{180}.[67]67
Глава советского Казахстана Назарбаев, к примеру, отказался подписать Беловежское соглашение на том основании, что не может ничего подписывать «без согласия своего парламента и правительства». См. Пять лет после Беловежья. С. 157.
[Закрыть]
Но Ельцин предпочёл отмахнуться от предусмотренных действующей конституцией законных методов и действовать нелегально, в обстановке, как он сам признавал, «сверхсекретности» и, что говорит само за себя, страха перед возможным арестом. (Чтобы обезопасить себя, беловежские конспираторы устроили встречу в надёжно охраняемом месте вблизи польской границы, причём первым человеком, которого они поставили в известность о результатах встречи и заверили в сохранении высшего военного поста, был советский министр обороны.) Результатом, по единодушному мнению самых разных независимых обозревателей, включая посла Великобритании, стал переворот, или, учитывая провалившийся августовский путч против Горбачёва, – «второй переворот». В нём, как признавал позднее один весьма уважаемый сторонник Ельцина, не было ничего «ни легитимного, ни демократического»{181}.[68]68
До тех пор пока ельцинским помощникам не удалось прикрыть акт фиговым листом законодательства, они знали, что он был незаконным. См. Козырев А.В. // Пять лет после Беловежья. С. 161–162, а также дискуссию по этому вопросу, Станкевич. История. С. 299–312; Walker. Dissolution. P. 169. В 1998 г. Беловежский акт стал главной статьей импичмента, который предложила объявить Ельцину преобладающая коммунистическая фракция парламента. См. Советская Россия. 1998. 6 августа. По поводу опасения ареста см. Явлинский Григорий // Московские новости. 1996. 11–18 февраля (со ссылкой на Вячеслава Кебича); Грачев. Горбачёв. С. 409; Барсепков. Введение в современную российскую историю. С. 351; Hough. Democratization and Revolution. P. 482–83; а по поводу министра обороны – Гайдар. Дни поражений и побед. С. 150. По поводу «сверхсекретности» см. Ельцин. Записки президента. С. 150. Кравчук как-то позже заметил, что Беловежье было «не для людей со слабыми нервами». – Цит. по: Andrew Wilson. The Ukrainians. – New Haven, 2000. P. 169. Многие западные специалисты пытались оправдать или положительно истолковать ельцинский переворот, представляя его как «демократический coup d'etat» или «голосование за отставку Горбачёва». См. Hosking. The First Socialist Society. P. 498; Strobe Talbott // New York Times. Feb. 24, 2005.
[Закрыть]
На этот роковой шаг, как уверены многие российские и западные авторы, Ельцин пошёл, прежде всего, чтобы полностью избавиться от Горбачёва{182}.[69]69
По свидетельству Назарбаева, на вопрос Горбачёва, что он скажет народу после Беловежья, Ельцин ответил: «Я скажу, что займу ваше место». Пит. по: Пять лет после Беловежья. С. 158.
[Закрыть] Для того чтобы быть «первым», недостаточно было быть президентом одной из союзных республик, пускай даже самой важной; ему нужен был горбачёвский Кремль – средоточие и символ верховной власти. Ни у одного другого противника Горбачёва – из числа «радикальных реформаторов» или тех, кто стоял по другую сторону политической баррикады, – не было такой воли к власти. Путчисты в августе 1991 г. сосредоточили в центре Москвы внушительную военную силу, но не смогли воспользоваться ею, даже не попытались арестовать Ельцина или кого-то из его сторонников. Причины назывались разные, но все они сводились к одному: «фатальному отсутствию воли»{183}.
Таким образом, именно противоположные, но симбиотически связанные воли двух экстраординарных политиков – экстраординарных ещё и в том, что появились они в один и тот же исторический момент, и, в отдельности, судьба каждого из них могла сложиться иначе – и привели к концу Советского Союза. Возможно, читателям сложно поверить, что столь эпохальное событие явилось делом рук двух личностей, но это вполне соответствовало российской традиции лидерской политики. Два крупных специалиста по этой традиции, русский и американец, не сомневаются в той роли, которую сыграли Горбачёв и Ельцин. Первый выразил своё понимание этой роли при помощи российской исторической аналогии: «Горбачёв наша Февральская революция, а Ельцин – Октябрьская». Американский автор прибег к устойчивому западному образу: «Соперничество между Ельциным и Горбачёвым, похоже, содержало в себе все элементы шекспировской трагедии»{184}.
Это объяснение выявляет главную, сущностную причину исчезновения Советского Союза и означает, что такой итог вовсе не был неизбежен. Но является ли это объяснение исчерпывающим? До сих пор остаётся непонятным, как Ельцин, не имея за собой ни армии, ни даже политической партии, сумел, фактически единолично, покончить с огромным, пускай и ослабленным государством, имеющим 74-летнюю историю, и никто: ни рядовые граждане, ни парламент, никакие другие силы, хотя бы в РСФСР, – даже не попытался воспротивиться этому'?
Отсутствие общественного сопротивления беловежскому демаршу Ельцина (при том, что идея Союза и в 1991 г., и после пользовалась широкой поддержкой населения), возможно, объяснялось тремя факторами. Во-первых, пассивность русского народа в моменты судьбоносных схваток политических лидеров – неважно, чем она была обусловлена: покорностью, страхом, равнодушием или надеждой, – была ещё одной устойчивой традицией. Так что в декабре 1991 г. «народ безмолвствовал» – по расхожему выражению из пушкинского «Бориса Годунова», – не впервые{185}.[70]70
Напротив, как выразился русский политолог, чьё мнение заслуживает безусловного доверия, Беловежский акт был «захватом власти «за спиной» народа». Фурман Дмитрий // Новая газета. 2004. 7–9 июня.
[Закрыть] Второй фактор был более современным. К 1991 г. общественное мнение было уже настолько резко настроено против Горбачёва, что, без сомнения, увидело в Беловежском соглашении не конец советского государства, а желанное избавление от его непопулярного президента{186}.
Третий и, по-видимому, главный фактор был тесно связан с предыдущим. На Беловежской встрече Ельцин и другие аболиционисты заявили, что вместо Советского Союза немедленно образуется Содружество Независимых Государств, которое позволит сохранить единство большинства бывших союзных республик, а также их населения, хозяйства и вооружённых сил. На бумаге это очень напоминало тот «мягкий» вариант союза, который незадолго до того предлагали Горбачёв и Ельцин. В этом смысле, как пишет российский историк, Беловежское соглашение «было преподнесено не как ликвидация, а как трансформация ранее существовавшего государства»{187}.[71]71
С самого начала российские опросы общественного мнения, демонстрировавшие поддержку населением нового Содружества независимых государств, были отражением именно этого ошибочного восприятия, а не антисоветских настроений, как иногда считают. См., напр., Beissinger. Nationalist Mobilization. P. 387.
[Закрыть] Неизвестно, было ли Содружество, со стороны Ельцина и Кравчука, действительно подлинным чаянием или «обманом своих народов», но очевидно, что сразу после подписания соглашения они повели Россию и Украину прочь от какого бы то ни было союза. (Сообщения о том, что в ночь подписания документа участники встречи много пили, особенно Ельцин, помогают объяснить, почему, по крайней мере, один из подписантов впоследствии чувствовал себя запутанным или «обманутым» в том, что там происходило){188}.[72]72
Ельцин и Кравчук, как утверждают, беспокоились, что если они просто объявят народу, что Союза больше нет, и ничего не предложат взамен, неизбежен взрыв. См. Wilson. Ukranians. P. 169–170. Адвокаты Ельцина позже настаивали, что «самостийные интересы пана Кравчука» разрушили это чаяние. Леонтьев Михаил. Сегодня. 1996. 1 марта. По поводу пьянства на встрече см. Remnick // New Yorker. March 11, 1996. P. 78–79; Сазонов. Предателями не рождаются. С. 132; а по поводу ощущения «обманутости» – Огонёк. 1996. № 49. С. 10–14.
[Закрыть]







