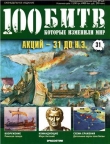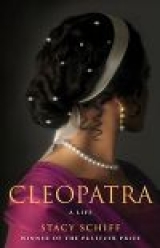
Текст книги "Клеопатра"
Автор книги: Стейси Шифф
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
В начале сороковых годов в истории Клеопатры началась новая глава. Царица делала первые шаги на пути к возрождению былой славы Птолемеев и преуспела в этом куда больше своего отца. Она поддерживала и приумножала доставшуюся ей в наследство интеллектуальную мощь Александрии. Эллинистические правители не только покровительствовали писателям и ученым, но порой и сами от них не отставали. В роду Клеопатры были не только убийцы, но и историк, зоолог, драматург. Первый Птолемей составил биографию Александра Великого. Мы вынуждены судить о личности царицы, опираясь на клевету и наветы, однако круг чтения нашей героини может сказать о ней больше, чем все пристрастные летописцы. Это в Риме Клеопатру считали варваркой, а на родине у нее была слава разносторонне образованной и талантливой женщины. С ее именем связаны достижения в медицине и магии, – по тем временам это было почти одно и то же – парикмахерском искусстве, косметике, науке о мерах и весах. Царица не только хорошо разбиралась в подобных материях, но и легко применяла свои знания на практике или, по крайней мере, в застольной беседе. Она покровительствовала культу Хатор, богини, оберегавшей женщин от болезней.
Среди изобретений Клеопатры есть любопытное средство от облысения: паста из жареной мыши, жженой тряпки, жженых лошадиных зубов, медвежьего жира, оленьего мозга и коры тростника в равных частях. Мазь надлежало смешать с медом и втирать в голову, «пока волосы не начнут расти». Плутарх утверждал, что царица придумала «бесчисленное множество смертельных ядов», которые испытывали на заключенных. Убедившись, что «быстродействующие яды вызывают резкую боль, которая приближает смерть», она занялась изучением ядовитых животных и дни напролет «внимательно следила за тем, как они жалят друг друга». Талмуд хвалит Клеопатру за «великий интерес к науке и поощрение хирургов и лекарей». Учитывая количество врачей при дворе и значение, которое придавали естествознанию другие восточные монархи – многие из них сами устраивали эксперименты или писали трактаты по биологии и ботанике, – скорее всего, так оно и было. То, что следует дальше, уже не столь правдоподобно. Царица якобы проводила опыты над рабынями, чтобы узнать, в какой момент оплодотворенная клетка превращается в полноценный зародыш. Средневековая «Gynaecia Cleopatrae», вне всякого сомнения, апокриф. В ней приводится рецепт вагинального суппозитория, «которым пользовалась и я сама, и моя сестра Арсиноя». Даже если не принимать в расчет, что сестры едва ли стали отвлекаться от подготовки убийства друг друга, чтобы поболтать о контрацептивах, очень сомнительно, чтобы Клеопатра писала на латыни. Говорили, что царица владеет тайными знаниями, хотя единственным алхимическим действием, которое она регулярно производила, было превращение зеленых полей Египта в золотые.
Сведения об учености Клеопатры почерпнуты из арабского мира, куда не проникала римская пропаганда. На Востоке у нее была слава философа, физиолога, ученого, мыслителя. Ее имя имело большой вес и неизменно ассоциировалось с именем волшебницы Исиды. Понять, что здесь правда, так же непросто, как отыскать среди лавины клеветы на царицу справедливые обвинения. Плутарх создает образ мыслящей, образованной женщины, жившей в просвещенное время и любившей окружать себя врачами и философами. Но куда чаще Клеопатру представляют ловкой и коварной обольстительницей, привыкшей добиваться своего «при помощи чар». Как бы то ни было, ни котлов, ни книг с заклинаниями, ни массовых захоронений несчастных жертв экспериментов после нее не осталось. Клеопатра была незаурядной личностью, но до образа, созданного ярким мужским воображением, ей было далеко.
Однако власти царицы еще предстояло пройти испытание на прочность, когда на Египет начали обрушиваться несчастья. В сорок третьем году Нил не разливался, и урожая почти не было. То же бедствие повторилось через год. Тогдашний урожай был самым жалким в истории. Приближался голод. Клеопатра твердой рукой вела страну через невзгоды, стараясь не спотыкаться о знакомые камни. Предыдущий неурожай едва не стоил ей всего. Положение было отчаянное, народ голодал. Царица приказала открыть царские амбары и бесплатно раздавать кукурузу[37]. Инфляция была чудовищной; пришлось обесценивать золотые монеты. Просители из двух крупных провинций умоляли избавить их от налогового бремени. «Преисполнившись сострадания и ненавистью к злу», царица снизошла к их просьбе и повелела повсеместно объявить об отмене податей. У голодающих стали появляться странного вида опухоли и черные язвы; в Египет проник мор. У Дискорда, плодовитого автора сочинений о лекарственных растениях появился превосходный материал для трактата о бубонной чуме.
В довершение всех бед в сорок третьем году до египетских берегов докатилась римская гражданская война. Происходящее на Апеннинском полуострове могло служить превосходной иллюстрацией словам Плутарха о том, что «нет страшнее зверя, чем человек, обуянный страстями и жаждой власти». Для Клеопатры то была старая песня: она наперед знала, какая из противоборствующих сторон в очередной раз обратится к ней за помощью (число таких обращений – главный признак исключительного богатства нашей героини). Царица понимала, что, выбрав неправильную сторону, навлечет на свой народ новые несчастья. Она оставляла призывы из Рима без ответа, поскольку толком не знала, кто говорит от имени Рима. Кого бы она ни поддержала, цена дружеской помощи могла оказаться непомерной. Клеопатра навсегда запомнила завет отца: «Прежде чем принять решение, подумай, какие беды за ним последуют, чего оно будет стоить, и какими алчными бывают римляне, для которых весь Египет – одна большая сокровищница».
Выбрав из всех возможных путей самый простой и надежный, – ничего не делать, царица вскоре зашла в тупик. Встав перед неизбежным выбором, она решила внять зову сердца. Долабелла был любимцем Цезаря, отличным флотоводцем и главным претендентом на должность консула в сорок четвертом году. Горячий и беспутный, он слыл храбрым воином и вдохновенным оратором, народ его обожал. В глазах Клеопатры двадцатилетний военачальник был подлинным наследником Цезаря. Когда он попросил о помощи, царица отправила ему четыре легиона, оставленных Цезарем в Александрии, и свой флот в придачу, взамен заручившись обещанием, что Цезарион будет признан законным правителем Египта. К несчастью корабли Клеопатры были застигнуты врасплох в открытом море и без боя достались врагу Долабеллы Кассию, главному убийце Цезаря. Теперь уже Кассий просил Клеопатру о помощи. Она нашла предлог для отказа. Голод и чума почти полностью разорили страну. Посылая извинения Кассию, царица тайком снаряжала для Долабеллы еще одну флотилию, но шторм не позволил кораблям выйти из гавани. Тем временем среди приближенных Клеопатры зрел мятеж: командующий кипрским гарнизоном отказался исполнить ее приказ и предоставил египетские корабли Кассию. Его неповиновение в свое время обойдется Клеопатре очень дорого.
Затеянная египтянкой игра день ото дня становилась все опаснее: в июле сорок третьего года окруженный и разбитый Кассием Долабелла покончил с собой. Его место заняли давние враги Кассия Октавиан и Марк Антоний. После гибели Цезаря они заключили союз и поклялись отомстить убийцам, в первую очередь Кассию и Бруту. Племяннику Цезаря Октавиану царица отправила мощную флотилию, груженную оружием и припасами, и даже собиралась лично сопроводить ее в Грецию. Прознав об этом, Кассий принялся угрожать Клеопатре, но она не поддалась на его уловку. Кассий надавил сильнее и потребовал, чтобы царица приняла его сторону. Вместо этого она продолжала поддерживать его противника. Придя в ярость, Кассий – его бешеный нрав был всем известен – замыслил поход на Египет. Момент для этого был самый подходящий: в стране свирепствовал голод, римские легионы ушли. Позже Клеопатра утверждала, что «вовсе не боялась Кассия», но на самом деле не бояться его было бы чудовищной глупостью. Это был ужасный человек, крутая смесь жестокости и жадности. «Самый злобный из людей», он был главой заговорщиков. Под его началом было двенадцать первоклассных легионов и несколько отрядов искусных стрелков. Кассий не ведал пощады к мирным жителям захваченных городов. Талантливому полководцу и бывшему адмиралу Помпея прежде уже приходилось сражаться на Востоке. И этот противник был совсем рядом, он уже занял Сирию и вышел к египетской границе.
Так Клеопатра вновь оказалась между двух огней, и вновь в последний момент пришло чудесное спасение. Кассий уже готов был выступить в Египет, но тут Октавиан и Марк Антоний пересекли Адриатику и двинулись на восток, навстречу противнику. Кассий растерялся. Терять дорогой и доступный трофей ему не хотелось. Брут с должной суровостью напомнил соратнику о том, что они сражаются не за власть, а за свободу Рима. Разочарованный Кассий развернул войска и пошел в Грецию, чтобы присоединиться к Бруту. Но радоваться было рано. Египетский флот спешил присоединиться к Октавиану и Антонию. На борту флагмана была сама Клеопатра. Увы, в дело вновь вмешалась погода. Безжалостный шторм делал бесполезными паруса, разбрасывал корабли, словно скорлупки, и утаскивал на дно. Царице с остатками флота пришлось вернуться в Александрию. Как она объясняла позже, буря повредила не только судам, но и ее собственному здоровью, так что возобновить поход не удалось. Кое‑кто поспешил усомниться в ее искренности и обвинить Клеопатру в привычке загребать жар чужими руками (и всем‑то наша героиня не угодила: для одних она слишком сильная и независимая, для других чересчур женственная и хрупкая). Однако на этот раз царица говорила правду: трудно заподозрить ее в нежелании отомстить убийце своего возлюбленного. Кассий, собравшийся было заманить египетский флот в ловушку, – он поджидал неприятеля с шестьюдесятью боевыми кораблями, легионом головорезов и большим запасом горючих стрел – обнаружил у южного берега Греции лишь обломки вражеских трирем. Клеопатра и вправду была больна. Ей стоило неимоверных усилий ни с кем не заключать союзов.
Уклонившись от прямого участия в войне, царица прекрасно понимала, что за свой выбор ей придется отвечать, и очень скоро. В начале сорок первого года в Александрию прибыл эмиссар из Рима. Он оказался ловким переговорщиком с медоточивым языком и весьма своеобразными представлениями о верности. Пока длилась гражданская война, Квинт Деллий успел трижды поменять сторону: сначала он переметнулся от Долабеллы в лагерь Кассия, потом снова перебежал к Марку Антонию. В Александрию он явился получить объяснения от чересчур своевольной египетской царицы. О чем она переговаривалась с Кассием? Почему не спешила помочь наследникам Цезаря? Где была ее хваленая преданность Риму? Деллий, надо полагать, был наслышан о красотах Александрии и царском дворце, сверху донизу набитом драгоценными камнями. К встрече с настоящей Клеопатрой он был совершенно не готов. «Едва узрев владычицу воочию и услышав ее изысканные речи», он сообразил, что испытанные приемы здесь не годятся. Обезоруживающее воздействие царицы на самых непримиримых противников наперебой признают все, кто когда‑либо о ней писал. Перед посмертным обаянием царицы не устоял и Плутарх: с момента прибытия Деллия в Египет она становится главной героиней биографии Марка Антония.
Деллий очень быстро понял, что самовластную восточную правительницу бесполезно запугивать. Клеопатра была не из тех женщин, кого можно призвать к ответу. Прирожденный приспособленец сразу смекнул, что пора менять тактику. Он был большим ценителем женской красоты и по прежним совместным эскападам неплохо знал вкусы своего господина. Если уж он сам растаял от одного взгляда царицы, значит, не устоит и Марк Антоний. Непостоянство Деллия сполна искупалось сообразительностью и ловкостью в устройстве всяческих интриг. Римлянин окутал египтянку такой густой пеленой лести, что впору было задуматься, на чьей он стороне. Деллий – в нем, что ни говори, умер талантливый режиссер – предложил Клеопатре разыграть целый спектакль. Царица должна была нарядиться в лучшие одежды. Так Гера в «Илиаде» умащает свою нежную кожу благовонными маслами, расчесывает золотые косы, облачается в хитон из невесомой божественной ткани, закалывает на груди плащ сверкающей брошью, надевает серьги с драгоценными камнями, собираясь на встречу с Зевсом. Клеопатре предстояло отправиться навстречу Марку Антонию. Деллий убеждал царицу, что ей нечего бояться, ведь его хозяин «добрейший и благороднейший из воинов».
За три года до этих событий, по дороге из Рима, Клеопатра повстречалась под палящим апрельским солнцем с другим осторожным путником. Хотя Октавиан путешествовал как частное лицо, по дороге к нему «неостановимым широким потоком» стекались все новые добровольцы. История его возвращения в Рим изобилует весьма красочными подробностями. Едва отряд вышел на Аппиеву дорогу, небо впервые за долгие недели прояснилось, и вышло солнце, окруженное радужным венцом. Наследник Цезаря и его последователи почти не знали друг друга. Сенаторы встали на его сторону – охотнее, чем ветераны недавних походов – в надежде, что восемнадцатилетний политик отомстит за «бойню на Форуме». Однако Октавиан никому ничего не отвечал и, пока не добрался до владений Марка Антония, продвигался вперед «осторожно и без лишней спешки». Бледный провинциальный юноша с белобрысыми бровями, сросшимися на переносице, не хватал звезд с неба. Он прожил в Риме совсем немного, не имел ни военного опыта, ни политического авторитета. Даже внешне Октавиан был слаб и невзрачен. И такому человеку досталось наследство величайшего из римлян.
Погожим утром следующего дня Октавиан явился на Форум, чтобы вступить в права наследства. Оттуда он отправился к Марку Антонию, который принял выскочку в саду своей роскошной виллы лишь после долгого унизительного ожидания на улице. Как нетрудно догадаться, появление соперника не доставило Марку Антонию – соратники уже звали его Цезарем – особой радости. Если Клеопатру появление Октавиана в Риме немного встревожило, для Антония оно было просто оскорбительно. У двоих мужчин, – учитывая, что Марку Антонию было сорок лет, у мужчины и мальчишки – каждый из которых полагал, что наследство Цезаря по праву принадлежит ему, состоялся неприятный разговор. Октавиан, поначалу учтивый и сдержанный, под конец беседы позволил себе хорошо подготовленный приступ сдержанного гнева. Он явно репетировал свой монолог заранее. Даже разговаривая с женой, наследник Цезаря предпочитал записывать тезисы, а потом читать их вслух. В тот день он изложил их четко и хладнокровно. Почему не стали преследовать убийц Цезаря (на самом деле их помиловали. Марк Антоний председательствовал в Сенате, когда рассматривался вопрос об амнистии)? Почему иные злодеи не только не получили по заслугам, но и сделались наместниками в провинциях или военачальниками? Октавиан призвал старшего товарища «повести его за собой, дабы свершить отмщение». А если Антоний не собирается этого делать, не будет ли он так любезен уступить дорогу другим? Между прочим, он мог бы стать политическим наследником Цезаря, если бы вел себя немного осмотрительнее. Что же касается наследства материального, то не соблаговолит ли его собеседник отдать золото, предназначенное для государственных нужд? Тут Октавиан добавил, что Антоний может «оставить себе на память что‑нибудь ценное», но это предложение больше походило на обвинение.
Марк Антоний был вдвое старше Октавиана. Он «много лет честно служил Цезарю» и за это время сумел заработать громкую, но вполне положительную репутацию. Антоний давно присвоил наследство Октавиана, точно так же, как в свое время разрушил виллу Помпея, раздав друзьям дорогую мебель и уникальные ковры. Ему не следовало напоминать о том, что человек, которого он почитал больше всех на свете, не пожелал сделать его своим преемником. Слушать нотации жалкого выскочки он не собирался. Сдержав ярость, Антоний злым, пронзительным голосом напомнил мальчишке, что власть в Риме не передается по наследству. Из‑за этого Цезаря и убили. Он отчаянно рисковал, добиваясь, чтобы Цезарь был погребен с подобающими почестями, и стремясь увековечить его память. Благодаря ему, Антонию, у Октавиана есть то, что раньше принадлежало Цезарю: имя, семья, богатство и положение. Никаких объяснений он давать не будет, ибо заслуживает благодарности, а не обвинений. Не удержавшись, Антоний добавил своей речи немного яду, напомнив, что молодому человеку «не пристало говорить со старшим в таком тоне». И вообще Октавиан сильно заблуждается, если полагает, будто Марк Антоний жаждет власти или ревнует дерзкого юнца к наследию Цезаря. «Я потомок Геракла, и этого мне достаточно», – заявил Антоний. Крепкий, широкоплечий, по‑своему красивый, с пышной копной волос, он и вправду походил на героя древности. Что же касается денег, то их давно нет. Почтенный отец Октавиана оставил фамильную сокровищницу практически пустой.
Узнав об итогах аудиенции в саду, Сенат в полном составе вздохнул с облегчением: сильнее войны между двумя наследниками Цезаря в Риме боялись только одной вещи. У Антония был большой политический вес. Октавиана уважали, даже любили. По пути приветствовать его собирались огромные толпы. Страшнее вражды племянника Цезаря и его любимца мог быть только их союз. Антоний ни на миг не забывал об этом во время разговора в саду. Для Октавиана римская политика была внове, но он уже начал понимать, что толпа жаждет распри, выдумывает кумиров, чтобы потом с азартом их свергать, страстно науськивает противников друг на друга. Так оно и было. А самым главным поджигателем розни по праву мог считаться Цицерон, всегда готовый, по выражению современника, очернить благородного, искусить властного, оклеветать сильного.
Цицерон назвал их противостояние постыдной тяжбой слабости с подлостью. На самом деле все было куда сложнее. Убийцы Цезаря Кассий и Брут все еще были в силе. Сын Помпея, талантливый молодой полководец, оставался в Испании с изрядной частью римского флота. На стороне Секста Помпея была отцовская слава; нельзя было исключать, что он захочет отомстить и вернуть утраченное наследство (у Секста Помпея тем более был повод для мести, что подростком он видел, как его отца обезглавили у египетского берега). Был еще Марк Эмилий Лепид, правая рука Цезаря, разделивший с ним ужин накануне роковых ид и имевший не меньше оснований, чем Антоний, считать себя его преемником. Он контролировал большую часть войска. У каждого легиона был свой консул. В армии на удивление быстро росла популярность Брута[38]. Один Октавиан остался без поддержки военных.
Самый влиятельный человек в Риме после убийства Цезаря, Цицерон, оказался в таком же замешательстве, что и Клеопатра. К кому примкнуть? Сохранить нейтралитет – то была пятая гражданская война на памяти оратора – не представлялось возможным. Цицерон имел исчерпывающее представление обо всех сторонах конфликта и не питал симпатий ни к одной. Октавиан образца сорок четвертого года показался ему маменькиным сынком, нелепым ничтожеством без каких бы то ни было перспектив. «Сейчас он слишком молод, а каким станет с годами, судить сложно», – ворчал Цицерон. Худосочного Октавиана – в городе румяных здоровяков – и вправду трудно было представить полководцем или вождем. Подумать только, мальчишка хотел стать чуть ли не консулом и при этом наивно верил, будто в Риме умеют хранить секреты! (Заметьте, восемнадцатилетнего юношу никто не принимает всерьез, а ведь Клеопатра в таком возрасте уже правила Египтом).
В мае сорок четвертого года Цицерон перестал чувствовать себя в безопасности и решил с оговорками поддержать Долабеллу. Бравый командир четыре года был его зятем. Потом он развелся с беременной женой и долго тянул с положенным по закону возвратом приданого. Когда‑то ярый сторонник Цезаря, после ид Долабелла отрекся от своего благодетеля. Он открыто поддержал убийц и намекал на собственное участие в заговоре. Оратор громко приветствовал бывшего родственника, предпочитая оставаться в стороне. Первого мая он назвал его «Мой великолепный Долабелла». Плечистый, пышноволосый красавец умел произносить зажигательные речи, приводившие в восторг самого Цицерона. Он так рьяно и красноречиво защищал заговорщиков, что публика была готова хоть сейчас короновать Брута. «Долабелле, конечно, известно о том, как я им восхищаюсь?» – вопрошал его тесть (Долабелле, надо полагать, было известно нечто прямо противоположное). Новый вождь снес обелиск, возведенный в память о Цезаре, разогнал демонстрацию сторонников покойного консула и от этого только вырос в глазах Цицерона. «Еще никто не вызывал у меня такой горячей приязни», – заявил оратор. На плечах Долабеллы держалась Республика.
Через неделю Цицерон полностью поменял мнение о бывшем зяте. «Желчь человечества!» – выплюнул он в адрес нового врага. Что же изменилось за эти дни? Несмотря на лавину славословий, Долабелла так и не вернул приданое. Потом наступило затишье; Долабелла произнес блистательную речь против Антония, и Цицерону ничего не оставалось, кроме как ее похвалить. Как это часто бывает, личные отношения тесно переплелись с политикой. Двое самых верных соратников Цезаря, Долабелла и Марк Антоний оказались втянуты в сомнительную историю с женой последнего (по этой причине она вскоре стала бывшей женой). Порой начинает казаться, что в Риме было не больше десятка женщин. По мнению Цицерона, Антоний переспал с каждой из них.
Политику не зря назвали «систематизацией ненависти». Трудно более точно описать Рим после ид, раздираемый враждой убийц Цезаря, его наследников и последних помпеанцев, у каждого из которых было свое войско, цели и политические амбиции. Но никто из видных жителей города не испытывал друг к другу такой лютой ненависти, как Цицерон и Марк Антоний. Эта распря длилась не первый десяток лет. Отец Антония умер, не оставив десятилетнему сыну ничего, кроме долгов. Его отчима, знаменитого оратора, приговорили к смерти с подачи Цицерона. От отца Марк Антоний унаследовал любовь к жизни и переменчивый нрав. Он легко переходил от уныния к веселью. Матери удалось привить непутевому сыну интерес к сильным и здравомыслящим женщинам. Без них Антоний, вполне возможно, не дожил бы до марта сорок четвертого года. И все же его личная жизнь обернулась полной катастрофой. Еще в юности стало ясно, что Марк Антоний пошел в отца; репутация отчаянного гуляки затмевала даже славу талантливого полководца. Кутежи молодого Антония приводили его наставников в ужас. Больше всего на свете он любил веселую жизнь, шумные пирушки, распутных женщин. Его отличала редкая, почти безрассудная щедрость, особенно когда речь шла о чужих средствах. К Антонию вполне применимы слова, сказанные об одном из трибунов: «Он проматывал деньги и честь, свои и чужие». Блестящий командир кавалерии был не менее обаятелен, чем сам Цезарь, но не обладал его знаменитой сдержанностью; в сорок четвертом году заговорщики сочли, что такого легкомысленного типа можно не опасаться.
После ид Марк Антоний сделался героем в глазах сограждан, и никто не мог затмить его славу. Пока не появился Октавиан. Клеопатра еще не успела добраться до Египта, когда между этими двумя вспыхнули первые искры будущей вражды. События развивались у всех на глазах. «Октавиан мог залезть на любое возвышение в городе, – повествует Аппиан, – чтобы громогласно обличать Марка Антония». Антоний может оскорблять и унижать меня, как ему угодно, гремел Октавиан, в его силах обречь меня на нищету, но «разве существует закон, по которому граждан можно лишать наследства?» Настойчивый мальчишка добился своего. Антоний его услышал и, в свою очередь, не поскупился на брань и обвинения. Сенат не спешил разнимать противников, предпочитая, как отметил Дион и как предсказывал сам Антоний, «наблюдать за их грызней». Однако люди Антония не желали воевать, а заговорщики наращивали силы. Ему пришлось извиниться и пообещать впредь не давать воли словам. Октавиан последовал его примеру. За первым шатким перемирием последовало второе. В октябре Антоний нарушил его, выдвинув ошеломляющее обвинение: Октавиан пытался подкупить охранников своего соперника, чтобы те его убили. На самом деле охрану пытались всего‑навсего перекупить, тогда это было обычным делом. Чтобы обеспечить безопасность Марка Антония, Октавиан вызвался лично стоять на страже у его изголовья. В городе обвинения по большей части сочли нелепыми, но кое‑кто в них все же поверил, чем привел Октавиана в натуральное бешенство. В один прекрасный день его застали у виллы Марка Антония: племянник Цезаря яростно колотил в запертую дверь, орал, что невиновен, принося страшные клятвы доскам ворот и сбежавшимся на шум слугам.
Октавиан старательно обхаживал Цицерона и писал ему каждый день, а тот тянул время. Это было чрезвычайно тонкое дело. Октавиан стремительно набирал очки, заговорщики канули в забвение. Молодой политик был чрезвычайно внушаем и мнителен и с благоговением внимал советам старших. Цицерону было нелегко смириться с обожанием, с которым Октавиан относился к Цезарю. «С другой стороны, – рассуждал оратор, – если он проиграет, Антоний нас не пощадит, так что в наших интересах, чтобы он победил». Антоний жаждал расправы, Октавиан – мести. Цицерон бормотал себе под нос слова, которым предстояло стать одной из его железных формул: «Тот, кто сокрушит Марка Антония, положит конец отвратительной, опасной для всех нас распре». Осенью сорок четвертого года защищать общественный порядок или то, что от него осталось, для Цицерона означало нападать на Антония, которого он вдохновенно громил следующие полгода. Неразбериха тех дней сбила с толку Клеопатру, опрометчиво решившую иметь дело с Долабеллой и Кассием и в результате нажившую врагов в лице Антония и Октавиана.
В своих страстных филиппиках оратор стремился сокрушить и растоптать бывшего помощника Цезаря. В самых мягких из них Антоний представал «дерзким мошенником», а в самых яростных – бессовестным развратником, пьянчугой, разбойником и сумасшедшим. «На самом деле, – утверждал Цицерон, – мы имеем дело не с человеком, а с самым опасным из диких зверей». Антоний то и дело подбрасывал своему обличителю темы для новых речей. Он растрачивал казну, бесчинствовал, присваивал чужую собственность. Он устроил в Риме форменный переполох, вздумав прокатиться по городу в колеснице, запряженной львами. Жизнь Марка Антония протекала в роскоши, праздности и бурном веселье. Впрочем, безрассудные выходки и сделали его всеобщим любимцем; солдаты боготворили своего командира. Антоний знал толк в кутежах, но вовсе не был «воплощением порока», каким его упорно пытался представить Цицерон. Тот не уставал приписывать своему недругу все новые низости. Среди прочего он любил напоминать о том, как в одно прекрасное утро Антоний уже открыл было рот, чтобы произнести перед Сенатом зажигательную речь, но вместо этого выблевал остатки вчерашнего свадебного пира. С тех пор незадачливый оратор был тем, кто «вместо речи извергает рвоту». Антоний обожал покровительствовать актерам, игрокам и куртизанкам, невольно разжигая пыл своего обличителя. Что тот и демонстрировал.
Постепенно речи Цицерона обогатились новыми мотивами. Октавиан из «молокососа» превратился в «моего юного друга», из «нелепого выскочки» – в «необычайно одаренного юношу», последнюю надежду Рима. Антоний тем временем обрел соучастника своих страшных преступлений. Собрав по крупицам доказательства, слухи и сплетни, оратор выдвинул обвинения против его жены Фульвии. Она, как утверждал Цицерон, наравне с мужем приложила руку к разграблению государственной казны. В речах оратора Фульвия неизменно представала алчной, жестокой, властолюбивой и коварной. Среди обвинений против самого Марка Антония самым страшным для римского уха было такое: «Презрев мнение Сената и народа, он трепещет перед женщиной». Инвективы против бывшего соратника Цезаря были на руку Октавиану, который не преминул обратить себе на пользу каждое слово, но позабыл расплатиться с величайшим пиар‑агентом в истории человечества.
В ноябре сорок третьего года Октавиану и Антонию поневоле пришлось объединиться. На восточном побережье Эгейского моря войско Брута встретилось с армией Кассия, собравшегося в поход на Египет. Заговорщики были отлично вооружены и располагали прекрасными обозами. Под давлением обстоятельств наследники Цезаря проглотили обиды и на время заключили союз. К ним присоединился Лепид со своими легионами. Все трое собрались на маленьком островке напротив современной Болоньи, чтобы «обменяться заверениями в дружбе». Обыскав друг друга на предмет спрятанных под плащами кинжалов, новоиспеченные союзники приступили к переговорам. На улаживание спорных вопросов и заглаживание конфликтов ушло два дня. Вот как описал знаменательную встречу римский историк Флор: «Лепид рассчитывал как следует нажиться на войне; Антоний жаждал мести; Цезаря (Октавиана) терзала мысль о том, что его отец до сих пор не отомщен, и Брут с Кассием наслаждаются жизнью и свободой, его пламенный дух не мог с этим примириться». Через два дня троица пришла к соглашению, объявив себя диктаторами на пять лет и разделив между собой империю. Все трое принесли клятвы и пожали друг другу руки. Их армии на берегу приветствовали друг друга. Договор, известный как Второй Триумвират, был заключен в октябре сорок третьего года. Клеопатра могла вздохнуть свободно. Вместе у Октавиана с Антонием появлялся шанс на победу. Теперь царица могла не так опасаться вторжения Брута и Кассия, которые не пощадили бы никого из близких Цезаря, тем более его царственного сына.
Римская казна была пуста, а азиатские деньги текли в карман заговорщиков. У триумвиров не было средств, зато хватало врагов. Было решено, что каждый составит список «самых верных друзей и злейших врагов», чтобы обменяться их жизнями. Марк Антоний согласился пожертвовать любимым дядей, чтобы посчитаться с Цицероном. Чем богаче был несчастный, угодивший в роковой список, тем меньше у него было шансов выжить. «Список рос, пополняясь именами врагов, друзей врагов, врагов друзей и просто богачей», – писал Аппиан. Покончив с расчетами, триумвиры поспешили в Рим, чтобы открыть сезон резни. «Город был завален трупами», – свидетельствует Дион. Убитых оставляли прямо на мостовой, на корм собакам и птицам, или бросали в реку. Те, кого наметили в жертвы, пытались укрыться в канализационных люках или забивались в дымоходы[39].