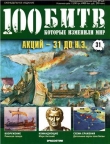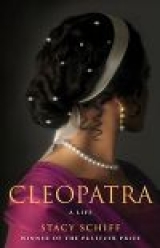
Текст книги "Клеопатра"
Автор книги: Стейси Шифф
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
«Высокомерие царицы, которое она не раз демонстрировала, гостя на берегу Тибра, заставляет мою кровь кипеть от возмущения», – неистовствовал Цицерон в середине сорок четвертого года. Кто бы говорил. Оратор и сам признавал: «Порой я бываю склонен к неразумному тщеславию». Позже Плутарх высказался по этому поводу еще более определенно. Цицерон, несомненно, обладал выдающимся умом, блестяще владел словом, но при этом был до отвращения самовлюбленным. Его лучшие сочинения пронизаны бесстыдной похвальбой. Дион выразился еще резче: «В своем поколении он был самым выдающимся хвастуном». Тщеславие было основным источником творчества Цицерона и едва ли не единственным смыслом его жизни. Для мыслителя не было большего наслаждения, чем тайком обойти закон о роскоши. Цицерону нравилось чувствовать себя богатым интеллектуалом, собирателем книг. И в этом крылась главная причина нелюбви оратора к Клеопатре: образованные женщины, владевшие более обширными библиотеками, оскорбляли его самим фактом своего существования.
Цицерон называл Клеопатру бесстыдной, однако «бесстыдство» вообще было его любимым словом. Цезарь не знал стыда. Не ведал его и Помпей. Союз Цезаря с Марком Антонием – для которого у оратора нашлось немало нелестных выражений – был воплощением бесстыдства. Александрийцы были совершенно бесстыдны. Бесстыдной оказалась и победа в гражданской войне. Цицерон привык, что все вокруг слушают только его. Не хватало еще соревноваться в остроумии с Клеопатрой. И с чего это она держится так заносчиво? Царственные манеры восточной гостьи оскорбляли чувства убежденного республиканца, который не мог похвастать знатным происхождением. Впрочем, высокомерие Клеопатры раздражало не только Цицерона. Возможно, царице и вправду стоило вести себя более осмотрительно. Возможно, она действительно проявляла бестактность и характерную для своего семейства спесь. Клеопатра не терпела панибратства и не стеснялась напомнить собеседникам, что перед ними правительница великой страны. Презрение – лучший способ защиты для того, кто оказался среди чужаков; у царицы были все основания смотреть на римлян свысока. Никто в городе не мог сравниться с ней благородством происхождения. Цицерона это приводило в ярость.
Обстановка вокруг гордой царицы и безутешного философа все больше накалялась. Поглощенный военными заботами, Цезарь не спешил решать другие проблемы, не менее важные, по мнению его сограждан. Список дел выходил весьма внушительный: реформа суда, сокращение расходов, восстановление казны, введение общественных работ, признание новых граждан, исправление нравов, возвращение былых свобод. Иными словами, «спасение самого славного из городов от окончательного падения». Цицерон вместе со всеми пытался постичь мотивы диктатора: задача, обреченная на провал в сорок пятом году и по сию пору весьма неблагодарная. Полководца осыпали всеми мыслимыми почестями, почти обожествляли, точно какого‑нибудь восточного монарха. В храмах начали ставить его статуи. Его изображение из слоновой кости, словно образ бога, несли по улицам во время процессий. Цезарь пользовался практически неограниченной властью. (Цицерон тщательно подсчитывал очередные проявления бесстыдства, с подобострастием принимая приглашения на виллу диктатора). В то же время среди римлян подспудно росло недовольство: Цезарь был известен как полководец, выигравший триста два сражения, тридцать раз одержавший верх над галлами, «неустрашимый и непобедимый». Но он же был излишне склонен к компромиссам, не уважал традиции, вел себя как солдат, но не как политик. В городе то и дело случались вспышки недовольства, умело подогреваемые Цицероном и прочими экспомпеанцами.
В феврале сорок четвертого года Цезаря провозгласили пожизненным диктатором. Новые привилегии сыпались на него, словно из рога изобилия. Отныне он должен был носить одежды триумфатора и восседать в кресле из слоновой кости, определенно напоминавшем трон. Впервые в римской истории его изображение стали печатать на монетах. Сообразно обожанию росло и недовольство, хотя Сенат сам «всячески восхвалял и превозносил его, чтобы потом распространять клевету о том, с каким наслаждением он принимает восхваления и с каким высокомерием – почести». Цезарю, быть может, стоило отказаться от такой чести, но не принять подношений означало оскорбить дающих. Трудно сказать, что перевесило, чудовищное эго или немыслимые почести, но эта тяжесть в один прекрасный день похоронила Цезаря. В довершение ко всему, полководец затеял новую грандиозную военную кампанию, не сулившую его согражданам ничего хорошего. Цезарь обратил свой взор на Парфию, страну на восточной границе Рима, до сих пор сопротивлявшуюся притязаниям могущественного соседа. Предстоящая разлука могла разбить Клеопатре сердце, сам диктатор в то время жаловался на здоровье, но Парфия открывала Риму путь в Индию. Пятидесятипятилетний Цезарь задумал поход, обещавший продлиться не менее трех лет. О Парфию в свое время сломалась военная машина Александра Македонского. Цицерон сомневался, что Цезарь вернется назад.
В начале весны сорок четвертого года полководец отправил шестнадцать легионов и большую часть конницы в Парфию, пообещав, что возглавит их восемнадцатого марта. Отдав необходимые распоряжения о том, что делать в его отсутствие – Клеопатра наверняка старалась им следовать, – Цезарь начал спокойно собираться в дорогу, но по городу катилась волна уныния и страха. Кто будет править в городе? Что станет с Римом? Беспокойство было вполне обоснованно: отправляясь в Египет, полководец оставил вместо себя Марка Антония. Тот оказался неумелым и ненадежным правителем и ко всему прочему снискал репутацию расточителя. Тех, кто ждал, когда Цезарь наконец восстановит Республику, смутило зимнее предсказание оракула. По словам пророка, Парфия могла покориться только царю. Стало быть, чтобы одержать победу, диктатор должен был принять корону. Предсказание можно было со спокойной совестью проигнорировать – оракулам в Риме не очень‑то верили, – но оно отчасти объясняло, отчего Цезарь поселил Клеопатру на своей вилле. Конечно, у диктатора могли появиться царственные амбиции, однако он и сам должен был прекрасно понимать, что не годится для престола. Цезарь слишком долго пропадал в походах, чтобы разбираться в римских делах, и был чересчур властным там, где монарху надлежало проявлять терпение и мудрость. Для того, кто не мог царствовать сам, было вполне естественно искать близости царственной особы.
До сорок четвертого года мартовские иды, знаменующие начало весны, были у римлян любимым праздником и поводом для большой пирушки. Придуманные в честь древней богини конца и начала, иды превратились в лихую и шумную встречу нового года. Компании гуляк ставили шалаши на берегу Тибра и ночь напролет веселились под полной луной. Последствия веселья нередко давали о себе знать через девять месяцев. В иды сорок четвертого утро выдалось пасмурным; проснувшись с рассветом, Цезарь уселся в паланкин и отправился на заседание Сената отдать последние распоряжения. На роль его местоблюстителя претендовали двое: яркий молодой политик Публий Корнелий Долабелла и любимец диктатора Марк Антоний. Сенат собрался в просторном зале, примыкавшем к театру Помпея. Когда в собрание вошел Цезарь с лавровым венком на голове, все поднялись с мест; полководец уселся в новое золоченое кресло. Было около одиннадцати утра. Цезаря окружили сенаторы, среди которых было немало его друзей. Оказавшийся в толпе проситель протянул диктатору петицию и попытался поцеловать ему руку. Цезарь попытался отстраниться, но проситель вдруг резко подался вперед, вцепившись в полководца и сорвав тогу с его плеча. То был условный сигнал. Вокруг Цезаря сомкнулось кольцо, сверкнули ножи. Диктатору удалось уклониться от первого клинка, но на него тотчас же обрушился град ударов. Каждый заговорщик спешил нанести рану своей жертве, целя в лицо, бедра, грудь, иногда случайно задевая товарищей. Цезарь пытался сопротивляться, страшно напрягая свою жилистую шею, «бешено вращая головой от одного убийцы к другому и рыча, словно дикий зверь». Наконец он со стоном уткнулся в складки своего плаща – совсем как Помпей у египетского берега – и рухнул наземь.
Нападавшие бросились прочь, а Цезарь, получивший тридцать три ножевых удара, остался лежать на полу «в изодранных, пропитанных кровью одеждах». Убийцы в обагренных тогах и забрызганных кровью сандалиях бежали куда глаза глядят, крича, что покарали тирана. Прохожие в ужасе шарахались от них. Кто‑то пустил слух, что в убийстве замешан Сенат. В это время на арене завершились гладиаторские бои, и на улице стала собираться толпа. Кто‑то крикнул, что гладиаторы режут сенаторов. Кто‑то еще предположил, что в город вот‑вот ворвется армия, и начнутся грабежи. «Бегите! Двери! Запирайте двери!» – слышалось отовсюду; в домах, мастерских и лавках поспешно захлопывали ставни. Погруженный в хаос город опустел в один миг: только что «народ с криками метался по улицам», и вот уже «все притихли и затаились, будто перед приходом вражеского войска». Мертвый Цезарь лежал на залитом кровью полу в зале собраний. Никто не решался к нему прикоснуться. Только ближе к вечеру рабы с громкими стенаниями подняли тело и унесли прочь.
Если не считать Кальпурнии, в дом которой привезли изувеченное тело, никто во всем Риме не был потрясен случившимся так, как Клеопатра. Для нее смерть Цезаря была не только личной потерей, но и политической катастрофой. Царица потеряла главного защитника, и больше не могла чувствовать себя в безопасности. Клеопатру охватил страх. А что если заговорщики решат заодно расправиться с близкими своей жертвы? Марк Антоний – правая рука диктатора – думал именно так. Он бежал, переодевшись слугой и спрятав под одеждой панцирь. Заговорщики и те, кто им сочувствовал, разбежались (Цицерон, который приветствовал убийство, но не принимал участия в заговоре, тоже предпочел пуститься в бегство). Клеопатра собиралась покинуть Рим в середине марта. Если бы она только знала, как все обернется. Слухи о заговоре против Цезаря ходили уже четвертый год. Были и знамения, но любое знамение хорошо толковать задним числом. Древняя история почти не знает ошибочных предсказаний. Кривотолки определенно были на руку тем, кто хотел доказать, что убийство полководца было предопределено и даже оправдано.
Вскоре последовали первые версии, своего рода предсказания наоборот. Разумеется, в убийстве поспешили обвинить Клеопатру. Пребывание царицы в Риме, окружавшие ее тайны, отношения с погибшим нуждались в объяснении. Взять хотя бы затянувшийся александрийский поход. Здесь точно не обошлось без влияния египтянки. А как прикажете понимать появление ее статуи из чистого золота прямо на Форуме, рядом с Венерой? Злые языки и ядовитые перья особенно разошлись после пятнадцатого марта, когда стало ясно, что у заговорщиков не было никакой программы дальнейших действий и что Рим понес великую потерю. Как ни странно, главный враг Клеопатры на этот раз решил промолчать: в длинном списке преступлений и ошибок Цезаря, который приводит Цицерон, египетская царица не фигурирует вовсе. В речи к скорбящему Риму упоминается Елена Троянская, но оратор имел в виду, скорее, Антония, чем Клеопатру.
В последние месяцы жизни Цезаря осыпали небывалыми, почти неприличными почестями. В дело пошли даже короны, украшения, заведомо отвратительные любому порядочному римлянину. Сам ли полководец придумал все эти привилегии или он лишь благосклонно принимал их, неизвестно. Известно, однако, что среди тех, кто пел ему хвалы, заговорщики были в первых рядах: «Они делали все, чтобы пробудить в народе зависть и ненависть и тем самым подтолкнуть его к гибели». Цезарь принимал почести как должное. Не удивительно, что он хотел сделаться богом в Риме, раз Клеопатра считалась богиней в Египте. Незадолго до смерти диктатора прошел слух, что готовится закон, дающий ему право «познать любую женщину, которую пожелает» (Светоний уточняет, что Цезарю хотели позволить завести много жен, «дабы оставить потомство»). И жениться на иностранке, вопреки правилу признавать браки только между гражданами Рима. Еще говорили, что полководец хочет перенести столицу в Александрию. Пугали, что он непременно «опустошит казну, истощит Италию налогами и отдаст город на растерзание своим приспешникам». Цезаря клеймили не только за Клеопатру, но и за экстравагантные архитектурные вкусы, за маниакальную страсть к перестройке Рима. Цезарь до Египта и Цезарь после Испании – это два совершенно разных человека. Межевым столбом была встреча с Клеопатрой. Ею было так удобно объяснять и страсть к привилегиям и титулам, проснувшуюся в полководце в последние полгода жизни, и безумное желание объявить себя богом, и замашки тирана, и все эти короны. В истории навеки остался образ коварной азиатки, раздающей диадемы направо и налево. Это она посеяла в душе Цезаря любовь к безграничной власти и сама не прочь была сделаться императрицей. Это она занесла в Республику заразу разврата и коррупции. Новый Цезарь родился в Египте, а царицу Египта по праву можно считать основательницей Римской империи.
Клеопатра, безусловно, была причастна к гибели Цезаря, но что имело место на самом деле – предательство, властные амбиции или безрассудная страсть, – нам узнать не дано. Трудно сказать и насколько значительной была ее роль. Даже такая неординарная женщина едва ли решилась бы вмешаться во внутреннюю политику чужой страны. А что если они с Цезарем собирались править вместе? Возможно, но доказательств у нас нет. Порой официальный визит это лишь официальный визит и ничего больше. Светоний верно заметил, что «глупцы вечно стараются разукрасить простую и понятную историю всевозможными финтифлюшками». Первым Клеопатру открыто обвинил Николай Дамаскин, великий ученый и наставник ее детей. Спустя век его слова с энтузиазмом подхватил Лукан, объединивший доводы против царицы и Цезаря в одну емкую формулу: «Она пробудила в нем алчность». Все эти обвинения разбиваются о тот факт, что у полководца была тьма врагов, большинство которых не имели никакого отношения ни к владычице Египта, ни к римской конституции. Даже реформу календаря многие встретили в штыки. Те, кто был у Цезаря в долгу, тяготились им. Другие не могли простить ему военные потери. Кто‑то бунтовал против системы. «Итак, – заключает современник, – все восстали против него: слабые и сильные, друзья и враги, солдаты и политики, всякий, у кого был хоть малейший повод, всякий, кто готов был роптать и внимать чужому ропоту».
Семнадцатого марта, на вилле Марка Антония, прежде принадлежавшей Помпею, было вскрыто и оглашено завещание Цезаря. Клеопатра в нем не упоминалась, хотя в сентябре, когда диктатор составлял документ, она была в Риме. Если у царицы и был повод для разочарования, то не у нее одной: никто из окружения покойного не получил того, на что рассчитывал. Последняя воля больше напоминала посмертный упрек убийцам. Цезарь завещал виллу, на которой жила Клеопатра, и землю вокруг нее римскому народу. Каждый взрослый мужчина в городе получал семьдесят пять драхм. Полководец не мог оставить деньги чужеземке и не стал этого делать; те, с кем он провел последние месяцы, не были упомянуты ни словом. Цезариона будто вовсе не существовало. К всеобщему удивлению, обойденным остался и Марк Антоний. Наследником Цезаря был назван его племянник Гай Октавиан. Официально усыновив мальчика, диктатор оставил ему три четверти состояния и – что было едва ли не более ценно – свое имя. Антоний провозглашался опекуном Октавиана наряду с другими приближенными полководца, среди которых затесались его убийцы.
Многим казалось, что дела в Риме пойдут по‑прежнему. Они недооценивали Антония. Спустя три дня город охватили волнения, похороны жертвы обернулись варварской охотой на убийц. Стоя над израненным телом, покоившимся на ложе из слоновой кости, Марк Антоний произнес пылкую речь. В знак траура он был небрит. Выступая перед Сенатом, оратор выпростал из тоги обе руки, воздев их над головой. «С маской гнева и скорби, застывшей на лице», Антоний перечислил все заслуги Цезаря, назвал все его победы; это тогда он решительно отверг обвинения в сладострастии, которое якобы задержало старшего друга в Египте. Затем, внезапно сменив тон «с громового на тихий и печальный», оратор мастерки изобразил смесь горя и ярости; никто из слушателей не мог сдержаться от слез, когда он, склонившись над покойным, бережно приподнял его окровавленную седую голову. Через мгновение Антоний резким движением сорвал с Цезаря изрезанную ножами тогу и подбросил ее над головой. Толпу будто охватила лихорадка; начались поджоги, погромщики не пощадили даже Сенат. Волна ярости не спадала несколько дней, как пишет Цицерон: «Город выгорел чуть ли не наполовину, кровь лилась рекой». Рим сделался небезопасным для Клеопатры, и вообще небезопасным. Эпитеты, которыми римляне награждали александрийцев – фанатики, безумцы, кровожадные варвары, – как нельзя лучше подходили к ним самим. Одного бедолагу приняли за убийцу Цезаря и растерзали прямо посреди рыночной площади.
Клеопатре в известном смысле повезло. Убийцы не уставали повторять, что «задумали и совершили свое злодеяние сами, ведомый одной лишь жгучей ненавистью». Если бы дела обстояли иначе, царицу могли задержать в Риме силой. Она была в городе во время страшной бури, разразившейся сразу после похорон, и в течение целой недели могла наблюдать, как темное небо вспарывает хвост кометы. Из окон своих покоев царица смотрела на город, прежде непроглядно темный, а теперь озаренный огнем множества костров, которые жгли до самого утра, чтобы легче было поддерживать порядок. Наконец царица покинула виллу, ее вещи погрузили на телеги и свезли извилистой тропой по склону холма Яникул, а оттуда вдоль реки к морскому берегу. Морские пути как раз открылись; соратники Цезаря торопили Клеопатру, настаивали на ее скорейшем возвращении. Она уехала через месяц после убийства, оставив за спиной придирчивый взгляд Цицерона и наполнявшие Рим пересуды. Разговоры стихли только в середине мая. Цицерон подождал еще несколько месяцев – за это время царица должна была достичь Александрии – и разразился своими инвективами. «Я ненавижу царицу», – повторял он, кипя от ярости, словно котел на огне. Цицерон ни разу не назвал Клеопатру по имени: особая привилегия, которой удостаивались его заклятые враги и бывшие жены. Оратор не мог простить египтянке истории с книгой, не мог позабыть, как скомпрометировал себя и выставил на посмешище. Отныне обличение царицы сделалось его главной целью. Даже свите Клеопатры не удалось избежать обвинений в чванстве и «редкой подлости натуры». Надменные египтяне только и ждали, как побольнее унизить несчастного Цицерона. «Они обращались со мной так, будто у меня нет души, да и селезенка вряд ли имеется», – бушевал обвинитель.
На этот раз путешествие далось Клеопатре особенно тяжело. Царицу недаром считали воплощением Исиды – Венеры: она опять была беременна и к марту уже не могла скрывать свое положение. У Цицерона появилась дополнительная причина следить за каждым ее шагом. Беременная подруга покойного диктатора была серьезной угрозой для будущего Рима. В отличие от Цезариона, второе дитя было зачато на римской земле. Весь город знал, что это дитя Цезаря. А что если Клеопатра родит сына и решит использовать его в своих целях? Оратор боялся даже вообразить последствия такого решения. Однако жизнь распорядилась иначе. Богиня отвернулась от царицы: то ли еще в море, то ли уже после возвращения домой у нее случился выкидыш. Цицерон мог вздохнуть свободно.
Как бы то ни было, у Клеопатры было не так уж много причин для уныния. Никто не посмел потребовать назад «дары Цезаря». Проблему Кипра можно было считать решенной. Царица оставалась другом и союзницей Рима. Позади остался город, «охваченный оргией разрушения, огня и резни» и, вполне вероятно, стоявший на пороге новой гражданской войны. Все, кого могли заподозрить в причастности к убийству, наперебой оправдывались и клеветали друг на друга. Впрочем, кое‑кто из заговорщиков верил, что хмурым утром мартовских ид они совершили благое дело. Свержение тиранов было давней римской традицией, и цареубийц порой почитали как героев. Даже нейтральные партии спешили влиться во всеобщее безумие. Дион писал: «Есть силы, что стремятся возвыситься за счет вражды и смуты, чтобы добиться своего, они сеют рознь и стравливают соперников».
Клеопатра, с ранних лет привыкшая бояться, что Рим поработит ее страну, теперь наблюдала, как он разрушает сам себя. Тот год выдался нудным, сырым, пасмурным, солнце почти не показывалось, «лишь изредка посылая сквозь тучи свои слабые тусклые лучи» (скорее всего, виновником мрачной погоды был сицилийский вулкан Этна, однако римляне склонны были видеть в ненастьях дурные предзнаменования). Царица спешила оставить несчастья за морем. Вероятно, ее флотилия вышла из Путеол, обогнула итальянский берег, прошла негостеприимный Мессинский пролив и к апрелю была в открытом море. Дул попутный ветер. Плыть на юг было несравнимо легче; толковый и решительный капитан вполне мог уложиться в пару недель. Вскоре мрак и холод Европы сменился африканской жарой. В солнечной Александрии Клеопатру ждали государственные дела и торжественные приемы, ритуалы и церемонии. В Рим она больше не вернулась, хотя продолжала внимательно следить за тем, что там творится. Правительница вела свою игру чрезвычайно умно и осторожно, не в пример другим Птолемеям, и не ее вина, что правила все время менялись. Один мудрец сказал: «У кого найдутся слова, чтобы выразить изумление, в которое повергают нас капризы судьбы и странности человека?» Клеопатре было двадцать шесть лет.
Возвращение домой тех, кто чудом спасся из затопленного кровью города, могло бы стать превосходным сюжетом для оперы. Ни один либреттист до сих пор не проявил к нему интереса, потому, вероятно, что оно никем не описано. Женщина, способная переломить ход римской истории, перестала интересовать его летописцев, как только рядом с ней не стало великого римлянина. Некому было поведать о том, как вдали показались красные крыши Александрии, как сверкнул огонь маяка, как корабль, миновав гигантские статуи предшественниц Клеопатры и каменные волнорезы, вошел в тихую, отлично оснащенную гавань. Во время визитов иностранных правителей египетский флот обыкновенно выходил им навстречу; вероятно, так произошло и на этот раз. Отправляясь в путь и отдавая оставшимся в Александрии приближенным последние распоряжения, Клеопатра даже помыслить не могла о том, как все обернется. У царицы было несколько недель, чтобы прийти в себя и обдумать случившееся. Даже если боль утраты оказалась не слишком острой, ей в пору было тревожиться о собственном будущем. Не имея в Риме ни единого союзника, она, по сути, вмешалась в чужую игру, кровавую и опасную. Ее главным козырем был Цезарион, единственный сын Цезаря. Младенец мог возвысить свою мать, а мог и погубить. Клеопатра была в опасности, едва ли не большей, чем в сорок восьмом году, когда она впервые оказалась между двумя смертельными врагами.
Нам неизвестно, о чем думала царица. Если верить Плутарху, Клеопатра по‑прежнему была властной, самоуверенной и коварной. В будущем она не раз справится с невыполнимой миссией. И теперь, сходя на родной берег – полноправная владычица, вернувшаяся к любящим подданным, – она должна была торжествовать[34]. Клеопатра вырвалась из варварского Рима, пережила и жестокую качку на море, и кровавый мятеж в чужой стране, возвратилась в город, где уважали царскую власть, а ее саму почитали как богиню, равную самой Венере, в город, где никому не пришло бы в голову обвинить свою правительницу в высокомерии, где никто не требовал запретить позолоченные кресла и не падал в обморок при виде ее диадемы. Это был ее мир, благоустроенный и цивилизованный. В Египте было лето, пора важных церемоний. Даже местные праздники здесь не похожи на римские. Люди собирались на берегу Нила, пели, плясали и веселились. В эти дни царица, должно быть, не раз припомнила греческую поговорку: «В гостях хорошо, а дома лучше». «Александрия – заявил в свое время Цицерон, – дом разврата и лжи».
Нам неизвестно, кто был местоблюстителем Клеопатры – обычно эти полномочия возлагались на министра финансов, – но он блестяще справился со своими обязанностями. Царица вернулась в мирную, богатую страну, почти не заметившую ее отсутствия. Никто и не думал возмущаться налоговым бременем, на въезде в город Клеопатру не встречала толпа восставших, как когда‑то ее отца. Храмы процветали. Клеопатра приготовилась править как ни в чем не бывало. Но тут из‑за моря пришли тревожные вести. Младшая сестра царицы Арсиноя и в изгнании не оставила притязаний на престол. Горя желанием взять реванш за поражение четырехлетней давности, она заручилась поддержкой в Эфесе и провозгласила себя владычицей Египта. Подобная дерзость свидетельствовала о том, сколь шатко было положение Клеопатры на международной арене. В распоряжении Арсинои оказались несметные сокровища храма Артемиды и надежные союзники в Риме. Тогда же объявился самозванец, назвавшийся Птолемеем Тринадцатым, чудесным образом спасшимся из нильских вод. Сестры ненавидели друг друга. Арсиноя переманила на свою сторону командира египетского гарнизона на Кипре. От Кипра до Эфеса было рукой подать; тамошний командующий пользовался большой властью. Между тем возле Клеопатры находился еще один потенциальный предатель, Птолемей Четырнадцатый. «В народе есть поговорка о тех, кто дважды спотыкается об один и тот же камень», – напоминает Цицерон. Клеопатра, вновь оказавшаяся в окружении врагов, твердо решила больше не спотыкаться. Вскоре Птолемея Четырнадцатого убили, вероятнее всего, отравили[35].
Не так уж важно, стал ли пятнадцатилетний брат Клеопатры предателем на самом деле: одно его существование было угрозой для ее власти. Смерть Птолемея позволила царице назвать сына своим соправителем, что она и сделала тем же летом. В июле, месяце Цезаря – у Цицерона появился дополнительный повод скрежетать зубами от ярости – Цезариона провозгласили фараоном. Он был третьим по счету соправителем Клеопатры. Такое решение, на первый взгляд, довольно странное, на тот момент было оптимальным. Отныне ее сын звался: «Царь Птолемей, он же Цезарь, Любящий Родителей Бог». Обычай обязывал царицу править вместе с консортом. Так на египетский трон взошел римлянин, потомок двух богинь. Дитя трех лет от роду едва ли могло помешать политическим амбициям своей матери.
В коронации Цезариона скрывался глубокий смысл, не только политический, – царица спешила покрыть сына мантией Цезаря, за которую разворачивалась ожесточенная борьба – но и религиозный. Вернувшись из Александрии, Цезарь стал настоящим правителем. Клеопатра после возвращения из Рима сделалась настоящей богиней. Она еще прочнее утвердилась в роли Исиды, божественной матери. На церемониях царица появлялась в одеждах богини. Убийство Цезаря разрушило ее политические замыслы, но придало новых красок легенде. Согласно мифу, Осирис, супруг Исиды и главное мужское божество, был зверски умерщвлен врагами, но у него остался сын. Вне себя от горя, Исида собрала куски разрубленного тела и сложила их вместе. В канун мартовских ид миф воплотился в жизнь; утрата превратила Клеопатру в скорбящую супругу замученного бога. Неважно, что о божественной сущности самого Цезаря было официально объявлено лишь в сорок втором году, во время пышной религиозной церемонии.
Клеопатра играла роль Исиды, матери мудрости, создательницы земли и небес, а ее дитя воплощало идею божественной троицы, вечного возрождения[36]. Миф вдохновил царицу начать грандиозное строительство. Цезарион чудом уцелел во время обрушения храма в Дендере, который начали возводить еще при Авлете. В честь спасения сына Клеопатра приказала изобразить его на стене храма в коронах Верхнего и Нижнего Египта, напротив Исиды, Гора и Осириса. Получилось весьма эффектно: художники изобразили подле фараона его божественную мать в одеждах Исиды и двойной короне. Под мозаикой начертано имя Клеопатры; царица лично следила за украшением храма. Когда строительство в Дендере было закончено, рабочих отправили в Верхний Египет завершать храмовый комплекс в Эдфу, еще один проект Авлета. Клеопатра основала храм в северном городе Коптосе и возвела маленькое святилище в честь божественных младенцев в Гермонтисе, неподалеку от Луксора. Цезариона почитали как воплощение Гора, который – едва ли это совпадение – отомстил убийцам своего отца. Чтобы увековечить память Цезаря, царица повелела возвести над Александрийской гаванью Цезариум, город в городе из множества портиков, галерей, беседок, аллей, садов и ворот необычайной красоты. Главный памятник эпохи, храм Исиды, не дожил до наших дней.
Задуманные Клеопатрой преобразования не ограничивались строительством храмов. При ней Александрия увидела настоящее интеллектуальное возрождение. Царица собрала вокруг себя блестящих мыслителей, зазвала в город знаменитых ученых и постепенно воссоздала греческую интеллигенцию. Среди ее приближенных был Филострат, великолепный оратор, умевший завораживать публику своими удивительными речами. Есть свидетельства, что он наставлял в риторике саму Клеопатру. Скептик Энесидем Кносский, исповедовавший относительность человеческого восприятия и непознаваемость мира, основал в городе новую философскую школу. Снова начали развиваться история и грамматика, хотя повторить поразительный научный расцвет предыдущих столетий так и не удалось. Исключением были медицина и фармакология. Врачи всегда пользовались большим влиянием при дворе Птолемеев. В окружении Клеопатры нашлось место и для талантливых практиков, и для авторов теоретических трактатов. Особых успехов египетская медицина достигла в лечении глаз и легких. Немало решительных шагов было сделано и в хирургии. В целом же научная работа шла неспешно, без видимых прорывов, и была направлена, скорее, на классификацию уже существующих знаний, чем на добычу новых. Выросло первое поколение ученых, рожденных в Александрии. Сын торговца рыбой Дидим четырьмя годами моложе Клеопатры сумел пробиться ко двору исключительно благодаря живому уму и трудолюбию. Молодой человек прославился необыкновенно тонкими суждениями о Гомере и Демосфене, о грамматике, драме и поэзии. Острие его сатиры нередко метило в самого Цицерона. Дидим был автором трех с половиной тысяч трактатов и комментариев: неудивительно, что он не помнил наизусть названия всех своих произведений и не раз был уличен в противоречии самому себе. Вот с какими людьми Клеопатра обедала, беседовала, обсуждала государственные дела. Придворный мыслитель был для своей госпожи «интеллектуальным стимулом, наперсником и совестью». Наставником и слугой.