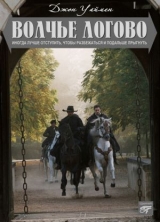
Текст книги "Волчье логово"
Автор книги: Стэнли Уаймэн
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
Глава Х. HAU, HAU, HUGUENOTS!
Я помню, что покойный Генрих IV Великий (я не знавал человека храбрее его: он любил опасность, как женщину – ради ее самой) никогда не мог сомкнуть глаз перед битвой. Я это слышал и от него самого перед сражением под Арком. В натуре Круазета было нечто подобное: он был способен к сильному напряжению, не покидавшему его пока грозила опасность, – после чего, как правило, следовал упадок сил. Мы же с Мари, хотя и не менее его готовые постоять за себя, были менее впечатлительны и менее подвижны и, пожалуй, в этом больше походили на немцев, чем на французов.
Я сделал это отступление, чтобы после всего, рассказанного про Круазета, его не заподозрили в женской слабости (хотя его сердце было нежнее женского), не скрывая, что каждый из нас вел себя сообразно своему характеру. И я, в то время как Круазет, объятый трепетом, безуспешно пытался скрыть свои слезы, стоял ошеломленный увиденным, взглядывая то на разоренный дом, то на застывшее под лучами солнца мертвое лицо, а в глубине души у меня таилась мысль о несправедливости Провидения, допустившего это. Постепенно вид мертвеца и поруганного дома затмила в моем уме другая картина: я видел родной старый замок, зеленые поля вдоль реки, серые холмы, поднимавшиеся над ними, нашу террасу и… Катерину, выходящую нам навстречу с бледным лицом и широко раскрытыми глазами, вопросительно смотревшими на нас. Но мы не могли утешить ее, – ведь с нами не было ее жениха!..
Легкий шум, созвучный скрипу качавшейся над нами вывески, внезапно вывел меня из задумчивости. Медленно, все еще во власти грустных дум, я обернулся. Одна половинка двери книжной лавки отворилась, и из нее на нас выглядывала старуха. Когда наши взгляды повстречались, она сделала движение, намереваясь как бы закрыть створку, но я не двинулся с места, и, успокоенная этим, она еле заметно кивнула мне головой. Я сделал шаг вперед.
– Ш-ш-ш! – отвечала она, и ее старое, сморщенное лицо, походившее на вылежавшееся нормандское яблоко, выразило глубокую жалость, когда она взглянула на Круазета.
– Что такое? – тоже шепотом машинально спросил я.
– Взяли его, – прошептала она.
– Кого взяли? – переспросил я без задней мысли.
Она кивнула в сторону разоренного дома и пояснила:
– Молодого сеньора, который жил там! О, господа! Каким красавцем он вернулся вчера с королевского приема! Я еще не видывала такого красавца – в атласном колете с бантами… И подумать только, что сегодня утром за ним гонялись как за крысой!
Слова старухи произвели полный переворот в моих мыслях. Сердце мое встрепенулось, и в нем пробудилась новая радостная надежда.
– Ушел ли он от них? – воскликнул я в волнении. – Удалось ли ему скрыться, тетушка?
– Как же! – отвечала она с живостью. – Вон этот бедняга (спокойно теперь лежит, – прости, Господа, ему его же ересь!) храбро отбивался у двери, пока сеньор, выбравшись на крышу, побежал вдоль улицы, а они внизу ревели и стреляли по нему словно мальчишки, с каменьями гоняющиеся за белкой.
– И он скрылся?
– Скрылся? – отвечала она, в раздумье покачивая седой головой. – Этого я не знаю. Боюсь, что теперь-то они его уже взяли… Мы все время наверху дрожали с моим стариком, словно в лихорадке, боясь высунуть нос (он и сейчас в постели, да хранят нас святые!). Но я слышала, как они двинулись с криками и выстрелами к реке и, пожалуй, если взяли его, то около Шатле. Мне так думается!
– Как давно это случилось? – нетерпеливо спросил я.
– Да с полчаса… А вы будете его родные? – с любопытством спросила она.
Но я не отвечал ей, стараясь растормошить Круазета, который за слезами не слышал нашего разговора.
– Есть надежда, что он жив! – сказал я ему на ухо. – Он убежал от них, слышишь!
И я быстро повторил ему рассказ старухи. Приятно было увидеть, как румянец заиграл на его бледных щеках, слезы высохли и новая жизнь, подкрепленная отвагой, пробудила каждый его мускул.
– Значит есть надежда? – воскликнул он, хватая меня за руку. – Надежда, Ан! Идем скорее, не теряя ни мгновения! Если он жив, мы станем сражаться рядом с ним!
Напрасно старуха пробовала удержать нас. Полная жалости к нам и уверенная, что мы идем на верную смерть, она забыла прежнюю свою осторожность и кричала нам вслед, чтобы мы вернулись. Но мы, не обращая никакого внимания на ее вопли, во всю силу молодых ног бежали уже вслед за Круазетом. Одолевавшее нас недавно утомление (а следует помнить, что мы не спали и не прикасались к еде в течение многих часов) покинуло нас, благодаря радостной надежде на то, что Луи еще жив и скрылся.
Скрылся! Но надолго ли? Ответ не заставил себя долго ждать. Только мы повернули за угол к реке, как до нас донесся гул человеческих голосов, свежий ветер охладил наши лица и тысячи крыш на противоположном берегу ослепили нас отраженным солнечным светом. Но мы быстро свернули направо, замедлив шаги только подойдя к большой толпе на площади у моста (кажется Pont au Chanse, насколько я помню) подле Шатле с его седыми от времени башнями и стенами.
Меж людьми, составлявшими ее, царила сравнительная тишина, и было заметно какое-то сосредоточенное ожидание зрелища, в котором толпа еще не обнаруживала желания принять активное участие. Мы направились прямо в центр ее и скоро догадались о причине странной тишины и спокойствия, изумивших нас вначале. Отсутствие ужасных симптомов повального грабежа и резни, которые мы видели прежде на каждом шагу, – преследование, крики, проклятия, пьяный вой – успокоило нас сперва, но не надолго. Толпа, бывшая перед нами, видимо находилась под влиянием организованной силы, и наши сердца только сильнее сжались при этом открытии. От слепой ярости обезумевшей в погоне толпы, похожей на сорвавшегося с привязи бешеного быка, еще можно было спастись. Но холодное, кровожадное преследование не оставляло никаких шансов.
Все, без исключения, лица были направлены на старые дома, находившиеся напротив реки. Площадка перед ними была пуста, и несколько десятков королевских стрелков и конных стражников, стоявших в оцеплении, не допускали сюда народ, нанося наиболее смелым из толпы удары плашмя своими палашами. По сторонам площадки, там, где она закруглялась по линии домов, стояло по небольшой группе всадников, где-то по семь человек в каждой. В центре этого свободного пространства выделялся одиночный всадник, передвигавшийся на своей лошади взад и вперед по площадке, внимательно посматривая на дома. Это был громадного роста человек, вооруженный с головы до ног, в высоких сапогах и с большим пером в шляпе, мерно раскачивавшимся при каждом движении. Лица его я не видел, да это и не нужно было. Я и так узнал его. Мучительный стон вырвался у меня – это был Безер! Смысл происходящего становился понятен. Всадники – большей частью суровые бородатые швейцарцы, – смотревшие с презрением на окружавшую их толпу и не жалевшие ударов, все носили его цвета и были вооружены также с головы до ног. Весь этот порядок и дисциплина были делом его рук: он добивался своего мщения. Стальным кольцом он охватил нашего друга, и я чувствовал, что для него пропала последняя надежда. Пытаться пробить себе дорогу сквозь эту организованную вооруженную облаву, – это было то же самое, если бы Луи де Паван уже лежал на пороге своего дома рядом со своим слугой.
С отчаянием смотрели мы на старые деревянные дома. Крыши их представляли лабиринт крутых скатов, желобов, покосившихся труб, обветшалых шпилей и гниющих брусьев. Между ними, должно быть, и скрывался жених Кит. Да, это было недурное место для игры в прятки, но только не со смертью. В нижних этажах домов не было ни окон, ни дверей, потому что, как я узнал впоследствии, этот берег часто затоплялся рекой. По всему фасаду шла длинная деревянная галерея, выше человеческого роста, на которую вели две деревянные лестницы по концам ее. Над первой галереей располагалась вторая, а выше – ряд окон в скатах крыш. Весь же квартал, в семьдесят или восемьдесят шагов длиною, состоял из четырех домов, в каждый из которых вела особая дверь, открывавшаяся в нижнюю галерею. Несомненно, что, если бы Видам замешкался, Луи вполне мог бы скрыться здесь; и, когда толпа бросилась бы беспорядочным потоком в этот лабиринт комнат и переходов, то при некоторой удаче, он мог бы остаться незамеченным и скрыться отсюда после того, как они покинули бы здание.
Но часовые были уже не только в каждой галерее, но и на крыше. При малейшем их движении или при попытке заглянуть внутрь домов, где «работала» группа солдат, отряженная для розыска беглеца, в толпе поднимался ропот, иной раз переходивший в рев, который наводил на меня такой ужас ранее. Казалось, волнение начиналось с дальнего конца толпы, где собралось самое отребье, и всадникам Видама не раз приходилось вступать в борьбу на периферии. Отсюда же вскоре раздались и звуки воинственной песни, подхваченные остальными:
«Hau! Hau! Hugenots!
Failes place aux Papegots!» 2020
«Эй! Эй! Гугеноты! Очищайте место папистам!»
[Закрыть]
Песня эта, как известно, была распространена между протестантами, а для пущей забавы и в насмешку над гугенотами последние слова в каждой строке были переставлены.
Не оставляя попытки пробиться в первые ряды, мы спрашивали друг друга безмолвными взглядами: «Что делать дальше?», но даже Круазет не имел готового ответа. Делать было нечего. Мы опять опоздали! Но каков кошмар, – стоять в бездействии перед жестоко беснующейся толпой и ждать, что нашего друга убьют для потехи! Замучают, точно крысу, как выразилась старуха, и нет никого, кроме нас, кто пожалеет его! Ни одной души, которую бы мог потрясти его предсмертный крик, его последний, предсмертный взгляд… Это действительно было ужасно!
– Да, – пробормотала, обращаясь к своей товарке, стоявшая около меня женщина – одна из многих в толпе, – плохо теперь приходится гугенотам. Это все наш молодец Лорен! Но жаль этого красивого парня, Марго!.. Я сама видела, как он перелетел с крыши на крышу, точно сами святые перенесли его через переулок. И подумать, что это еретик!..
– Это все колдовство, – отвечала другая, крестясь.
– Может быть! Только без колдовства ему уж не увернуться от этого здоровяка, – сказала первая успокоительно.
– Этого черта! – воскликнула Марго с ненавистью, украдкой показывая на Видама, после чего шепотом и с проклятиями поведала своей подруге такую историю про него, от которой кровь застыла у меня в жилах.
– Да, он сделал это! А еще святой веры… Да воздаст ему за это Пресвятая дева Лоретская!
Может рассказ ее и был правдой: я слышал о нем и не такие леденящие душу истории; и в то время, как Видам, разъезжавший взад и вперед перед толпой, повернулся лицом к нам, я уставился на него, как очарованный. Его глаза задержались на окружавших нас лицах, и я затрепетал при одной мысли, что он нас признает.
И он увидел нас! Я совсем позабыл о его удивительном зрении. По его лицу пробежала суровая улыбка, в то время, как он отдавал приказание. Я совсем помертвел. О побеге и думать было нечего: мы со всех сторон были сжаты толпой так, что едва могли пошевелиться. Но я все-таки сделал попытку.
– Круазет, – прошептал я, оборачиваясь: он был позади меня, – нагни голову. Может быть он тебя и не заметит. Нагибай голову, мальчик!
Но Сент-Круа был упрям и не послушался меня. А когда к нам подъехали несколько всадников, грубо потребовавших, чтобы мы вышли вперед, Круазет, оттолкнув нас, выступил первым с гордо поднятой головой, крепко сжатыми губами и огнем в глазах. Толпа бросилась было за нами, – уж не знаю, с враждебными целями или из простого любопытства, но несколько ударов пиками заставили ее попятиться и отступить с воем и проклятиями.
Я ждал, что нас поведут к Безеру, но он всегда поступал вопреки моим ожиданиям. Взглянув на нас со зверской усмешкою, он лишь прокричал:
– Смотри, чтобы они не убежали опять! Но не смей к ним прикасаться, пока я не соберу всю шайку! – и отвернулся от нас.
Меня стала душить злоба. Неужто он осмелится тронуть нас! Неужто Видам сможет совершить открытое убийство племянников Кайлю? Я не мог допустить такой мысли, но, вместе с тем…
Дальнейшее течение моих мыслей было прервано Круазетом, которого уже не было рядом с нами. Он бросился к Видаму, и, обернувшись, я увидел, что он обхватил с мольбой его колено. Не в состоянии расслышать слова Круазета, тем более, что сопровождавший нас всадник встал между нами, я все же услыхал ответ Видама.
– Никогда! – закричал он, и неприкрытая ярость звучала в его голосе. – Не вмешивайтесь в мои планы! Что вы в них понимаете? И послушай, Сент-Круа – так, кажется, тебя зовут, мальчик – если ты осмелишься еще раз заговорить со мной, то я… Нет, я не убью тебя! Это тебе может еще понравиться, ведь ты упрям… Но я велю раздеть тебя и высечь плетьми, как последнего поваренка на моей кухне! Иди прочь и помни это!
Злоба и нетерпение перекосили его лицо, и Круазет медленно возвратился к нам, бледный и безмолвный.
– Ничего, – сказал я с горечью, – может быть нам повезет в третий раз.
При этом я не испытывал особого негодования по поводу оскорблений, нанесенных нам Видамом, и не сердился, как в прошлый раз, на спровоцировавшего их мальчика. Слова уже не оказывали на меня действия: что значат слова для обреченного на смерть?
Мы думали теперь только о жизни одного человека и о счастье любящей его женщины. А Круазету, быть может, еще приятно будет впоследствии вспомнить, что в своей последней мольбе он хватался за них, как утопающий за соломинку.
Нас отвели на правый край площадки и поставили в окружении группы вооруженных всадников. Так мы стояли в молчании, пока я не почувствовал прикосновения руки Мари. Он пристально наблюдал за часовым на крыше одного из наиболее отдаленных домов. В этот момент часовой, стоявший спиной к набережной, призывно взмахнул рукой.
– Он видит его, – прошептал Мари.
Я апатично кивнул головой. Но оглушительный рев, пробежавший по толпе, вывел меня из самозабвения и заставил вздрогнуть. Что это? Один из солдат на верхней галерее направил острие своей пики на кого-то, находившегося внутри дома. Но больше мы ничего не видели и не понимали. Однако, находившиеся против этого окна, видели достаточно, чтобы восторжествовать над предосторожностью Видама. Даже он не предвидел той безумной ярости, что может охватить людей, уже попробовавших крови. Я заметил движение, начавшееся, опять-таки, в отдаленных рядах; потом сотни рук поднялись к небу, сопровождаемые криками негодования. Солдаты щедро раздавали удары, хотя и медленно уступали натиску толпы. Но усилия их были бесполезны: с торжествующими воплями беспорядочный поток людей прорвался меж ними, оставил их за собой и хлынул к лестницам.
Безер в этой сумятице оказался недалеко от нас.
– Проклятие! – закричал он. – Они выхватят его из моих рук, чертовы собаки!
Развернув лошадь и вонзив в ее бока шпоры, он в одно мгновение очутился у ближайшего к нам конца галереи, бросил поводья, в несколько прыжков, соскочив с лошади, взбежал по лестнице и устремился на галерею. Шестеро его спутников последовали за ним, бросив поводья одному из их числа, и вскоре раздался стук их тяжелых сапог по деревянному настилу.
У меня захватило дыхание: я понял, что настал критический момент. Это походило на скачки за приз между двумя партиями, или, скорее, между их предводителями: Видамом и вожаками толпы. Последним предстояло пробежать меньшее расстояние, но все они столпились на узенькой лестнице, причем под общим напором некоторые упали, так что произошла задержка в продвижении. Поэтому Видам опередил их и бежал уже по галерее прежде, чем они успели добраться до нее.
Среди всего этого шума и смятения я молил небо, чтобы толпа опередила его, чтобы произошла свалка между людьми Видама и толпою, – тогда Паван еще, пожалуй, мог скрыться в общей неразберихе. Переполох пробудил во мне надежду; выделявшиеся среди рева толпы, выкрики «Волк, волк!» – заставили меня потерять голову, и, выхватив шпагу, я закричал, словно безумный:
– Кайлю! Кайлю!
Остававшиеся на площади с напряженным вниманием на передовые фигуры, неуклонно сближавшиеся на галерее: они встретились как раз у дверей. Я разглядел, что предводителем толпы был худощавый человек, по виду монах, хотя, вопреки сану, он был вооружен, полы его длинного одеяния были подобраны и голова обнажена. Когда же я всмотрелся в него пристальнее; когда увидел, что его, и без того бледное, коварное лицо вовсе помертвело и ужас отразился в глазах в то время, как он увидел, кто перед ним; когда эта презренная фигура дрогнула и готова была повернуть назад, но было уже поздно, – тогда только я узнал коадъютора.
Я замер на месте с открытым ртом. Бывают секунды, которые стоят часов: в их течение решается жизнь или смерть человека. Одна из таких секунд наступила, когда встретились лицом к лицу эти два человека, хотя всякая пауза в их отношениях при таких условиях вряд ли казалась возможной. Перед монахом – и, вероятно, он сознавал это, – был дьявол, позади него – бушующее море. Он замер, и даже бесновавшаяся за ним толпа на мгновение умолкла. Но, вслед за тем, они оба, подобно огрызающимся собакам, кинули друг на друга косые взгляды и одновременно бросились к дверям. Тут то и произошло нечто неожиданное.
Я видел, как поднялись руки Видама, и тяжелая рукоятка его шпаги со страшной силой обрушилась на бритый череп монаха. Тот повалился как сноп, не вымолвив ни одного слова, не издав ни единого звука, и среди рева толпы, способного потрясти самое мужественное сердце, Безер исчез внутри дома.
Тогда я понял, что значит сила, дисциплина и навык: следовавшие за Видамом солдаты, несмотря на свою малочисленность, не задумываясь, бросились на передних в толпе, спотыкавшихся о труп своего вожака, и погнали их с галереи. Толпа на площади не имела огнестрельного оружия и не могла оказать им помощи также по причине узости галереи, которая через две минуты уже была очищена и осталась во владении людей Видама. Какой-то, громадного роста, солдат поднял труп монаха и перебросил его, точно мешок зерна, через перила. Он упал с глухим стуком на землю. Я услышал потрясающий крик, выделившийся в вое толпы, затем толпа обступила тело, и я больше ничего не видел.
Если б только эти негодяи были сколько-нибудь сообразительны, они тотчас же бросились к правой лестнице, где стояли мы, с двумя или тремя верховыми из отряда Безера. Легко расправившись с нами, тем более, что мы еще были обременены лошадьми в поводу, они потом могли бы напасть с обоих концов галереи на кучку занимавших ее людей. Но у толпы не было больше предводителей и никакого плана действий. Они только успели стащить с лошадей двух или трех солдат Безера и жестоко выместили на них свою злобу. Большая же часть швейцарцев избегла подобной участи, благодаря тому, что все внимание толпы было сосредоточено на доме и событиях на галерее; все они, легко отделавшись от нападавших, присоединились к нам, так что у основания лестницы скоро собралась кучка людей, достаточно сурово и решительно настроенных. После минутного колебания, мы встали с ними в ряд, а затем, не встречая препятствий, вскочили на трех свободных лошадей.
Все это произошло скорее, чем я могу передать словами. Только мы успели вложить ноги в стремена, как временное затишье и последовавший за ним рев негодования возвестили о появлении Видама. Трудно передать и то, до чего была проникнута фанатизмом, жестокостью и мстительностью кровожадная парижская толпа того времени. Этот человек сейчас убил не только их предводителя, но и служителя алтаря. Он совершил святотатство! Что же они сделают? Несколько наклонившись вперед, я видел всю галерею, и происходившая на ней сцена заставила меня позабыть о собственной опасности.
Без сомнения, за всю его бурную жизнь, Безеру никогда еще не приходилось проявить с такой поразительной силой отличавшие его качества, как в этот момент, когда он стоял, с насмешливою улыбкой на губах, перед морем обезумевших и непоколебимо твердо смотрел на них, полный презрения к людям, жаждавшим его смерти. Его несокрушимое спокойствие очаровывало даже меня. Удивление сменило ненависть, и трудно стало допустить, чтобы в такой цельной натуре не было бы хоть капли добра! И не было лица в мире (кроме, разве, одного), которое заставило бы оторвать мой взор от него. Но это другое лицо было рядом с ним, и я, судорожно схватив Мари за руку, указал на человека с обнаженной головой справа от Безера.
Это был сам Луи, наш Луи де Паван! Но как изменился он с тех пор, как я видел его в последний раз веселым кавалером, проезжавшим по улицам Кайлю, улыбающимся нам и посылавшим рукой последние прощания своей невесте! Рядом с Видамом он казался совсем малорослым; лицо, которое я привык видеть веселым и добродушным, теперь было бледно и сурово; волосы, волнистые и немного темнее, чем у Круазета, были в беспорядке и покрыты запекшейся кровью, сочившейся из раны на голове. Шпаги у него не было, а платье было разорвано и покрыто пылью. Губы его дрожали, но он гордо держал голову и был полон достоинства.
Я задохнулся от сдерживаемых рыданий, и сердце мое готово было разорваться на части, когда я увидел его таким, – всеми брошенным и безоружным. Я уверен был, что Кит, увидав его теперь, с радостью умерла бы вместе с ним, и я благодарил Бога, что это невозможно. В его твердости было известное спокойствие, представлявшее, тем не менее, сильный контраст с поведением Безера: на его лице не было, как и подобало человеку, стоявшему перед лицом неминуемой смерти, той презрительной улыбки, что играла на лице великана подле него.
«Что же предпримет Видам теперь?» – мысленно спрашивал я себя, содрогаясь при этом. Не отдаст ли он Павана на растерзание толпе? Нет, я был уверен, что он ни с кем не разделит своего мщения, – гордость его не допустила бы этого. Но пока я раздумывал, сомнения мои неожиданно разрешились. Я увидел, что Безер как-то особенно махнул рукой, и в тот же миг небольшая кучка всадников с громким криком понеслась в атаку на толпу у другого конца площади. Их было не более десяти или двенадцати человек, но, поощренные его взглядом, они летели с отвагой, достойной тысячи. Толпа дрогнула и метнулась в сторону. С быстротой молнии всадники развернулись и поскакали назад с торжествующими улыбками на разгоряченных лицах, разгоняя оставшиеся на их пути группки, вскоре опять очутившись подле нас.
Маневр был отлично выполнен, а тем временем Видам с кучкой людей, бывших около него, и теми, кто оставались до того внутри строения, поспешил к нашему концу галереи. Таким образом, тыл его был на время очищен, а его пешие солдаты, сбежав вниз, разбирали теперь лошадей как попало. В суматохе я потерял из виду Павана, но вскоре заметил его сидящим на лошади, позади одного из всадников. Перед каждым из нас также вскочило по человеку, ничем не выразившие своего недовольства на наше присутствие. Да и не было времени для расспросов.
Толпа, оправившаяся от первой атаки, вновь сплачивалась, и раздражение ее, особенно при виде удающегося нам отступления, нарастало с каждым мигом.
Нас было менее сорока человек, к тому же некоторые лошади были перегружены двумя седоками. Безер окинул свой отряд быстрым взглядом и остановился на нас глазами. Отдал какое-то приказание своему лейтенанту, и тот, дав шпоры великолепному, серой масти коню, подскакал к Круазету и перетащил его к себе в седло. Не поняв цели этого, я все же успокоился, увидев, что Круазет уселся позади… Блеза Бюре. Мы тотчас же тронулись с места, пробивая дорогу через собирающуюся толпу.
Нет смысла рассказывать, что было далее. Я видел только метания испуганных лошадей и ряды бледных озлобленных лиц по сторонам. Раз я увидел, оглянувшись назад, как лошадь Видама споткнулась обо что-то в толпе и упала на передние ноги, но неимоверным усилием он поднял ее и продолжал путь. В другой раз, минуту спустя, лошади справа от меня метнулись в сторону, и я увидел зрелище, которого тоже не забуду на всю жизнь.
Это был труп коадъютора, лежавший лицом кверху: глаза его были открыты, а зубы стиснуты в предсмертной судороге. Распростертое на нем, лежало тело молодой женщины с золотистыми волосами, которые раскинулись вокруг ее нежной шеи. Я не знал, был ли это тоже труп, или же живое тело, но вытянутая рука точно окостенела, и, кроме того, через нее вероятно прошла толпа при своем бегстве во время первой атаки кавалеристов Безера, если уж она не была раздавлена копытами его лошадей сейчас. Впрочем, я не заметил, чтобы ее тело было изуродовано. Лицо ее было скрыто на груди монаха, одна рука откинута, но я с ужасом признал в ней женщину, совсем недавно снабдившую меня теми условными знаками, что до сих пор были на моем платье; и на боку у меня все еще была шпага, полученная от нее при прощании. При этом мне вспомнились слова, гордо сказанные монахом в ее присутствии несколько часов тому назад: «Нет человека в Париже, который осмелился бы пойти против меня в эту ночь». Теперь это оказалось пустой похвальбой! Рука его теперь была одинаково бессильна как на добро, так и на зло; мозг его бездействовал, а повелительный голос замолк навеки. Его постигло справедливое возмездие: служитель церкви погиб насильственной смертью от того же меча, который обнажил. Отверженный им крест сокрушил его, и все замыслы и планы, роившиеся в его голове, погибли вместе с ним. В конце концов, только одним злым человеком, бездушный прах которого лежал теперь на площади, стало меньше в Париже! Что касается той, что лежала у него на груди, то кто может судить о женщине, зная ее? А не зная – и того меньше… Я старался подавить в себе всякое воспоминание о ней, но при этом страшная слабость и внутренний холод охватили меня.
Я был до того потрясен увиденным, что пришел в себя только когда мы, оставив за собой толпу, не встречая дальнейших препятствий, въехали в какую-то мощеную улицу. Тут меня стали обуревать сомнения, – куда мы едем, уж не в дом ли Безера? Сердце мое сжималось при мысли о подобной возможности. Но, прежде чем я смог предположить что-либо иное, наша беспорядочная кавалькада остановилась в узком проходе перед какими-то массивными воротами с большими круглыми башнями по сторонам. Безер обменялся несколькими словами с начальником стражи, – последовала некоторая заминка, потом тяжелые ворота медленно открылись, и мы въехали под их своды. Куда вели эти ворота – в крепость, тюрьму или замок, оставалось неизвестным для меня, пока мы не выехали на грязную, заваленную всяким мусором, изборожденную глубокими колеями, открытую площадку, в дальнем конце которой виднелись несколько полуразвалившихся шалашей и домишек, раскиданных по ее окраинам. Но за нею, когда мы быстро переехали ее… О милосердное небо!.. Перед нами открылась картина сельской природы.
Я никогда не забуду того облегчения, которое почувствовал при этом. Глядя на столь мирный сельский пейзаж, освещенный солнцем, я едва верил своим глазам. Я вдыхал всеми легкими свежий воздух; в каком-то радостном восторге подбросил вверх свою шпагу и опять поймал ее, между тем как окружающие меня суровые лица только усмехались, глядя на безумные проявления моей радости. Я почувствовал в первый раз, что лошадь, на которой я сидел, была живым существом. Никакой волшебник не в силах был сделать для меня такого превращения, как начальник стражи у ворот – простым поворотом своего ключа! Так мне казалось, по крайней мере, в первые моменты свободы и когда мы оставили за собой эти ужасные улицы.
Я повернул голову и бросил взгляд на Париж; густой дым висел над его башнями и крышами, но мне показалось, что его окутывало какое-то адское облако. В ушах моих еще звучали крики, вопли, проклятия, сопровождающие смерть. В действительности до меня доносился глухой шум пальбы близ Лувра и трезвон колоколов. Мы встречали по дорогам и деревням группы поселян, привлеченных этим явлением. Они обращались с робкими вопросами к более добродушным из нашей группы, доказывавшими, что молва об ужасах, творившихся в городе, уже распространилась по окрестности. Я узнал потом, что ключи от городских ворот с вечера были отправлены к королю и что за исключением герцога Гиза, выехавшего в восемь часов в погоню за Монгомери и некоторыми протестантами (оставшимися к их счастью в Сент-Жерменском предместье) никто до нас еще не оставлял города.
Говоря о нашем отъезде из города, я должен упомянуть о тех чудовищных делах, которые совершались в Париже в течение этого и нескольких последующих дней и являются позором Франции в настоящее время, заставляя краснеть каждого порядочного француза, даже при восшествии на престол покойного Генриха IV. Меня спрашивают иногда, как свидетеля этих событий, что я думаю о них, и я отвечаю, что виновата в этом не только наша Родина.
Вместе с королевой Катериной де Медичи, сорок лет тому назад к нам было завезено нечто неуловимое, но весьма сильное – дух жестокости и предательства. В Италии это свойство привело к печальным последствиям, но привитый к более отважному характеру французов, к их северной воинственности, этот дух интриги сказался в еще более ужасных делах. В течение почти тридцати лет влияние его было истинным бедствием для Франции. Два герцога Гиза – Франциск и Генрих, принц Конде, адмирал Колиньи, король Генрих III – все эти выдающиеся люди погибли под ножом убийцы, не говоря уже о принце Оранском и Великом Генрихе.
Следует также отметить, что большинство участников этих постыдных дел не перешагнули границы первой молодости. Королем, в первую очередь конечно подчиненным своей матери, управляли юнцы, едва закончившие ученье. Это были молодые горячие головы, безрассудные юные дворяне, готовые на всякое отчаянное дело, совсем не думая о его последствиях. Из четырех французов, игравших главные роли в этом деле, Королю было двадцать два года, его брату – только двадцать, герцогу Гизу – двадцать один. Что же касается других заговорщиков – королевы-матери, Реца, Невера и Бирига, то они были итальянцы, и пусть Италия отвечает за них, если Флоренция, Мантуя и Милан согласны поднять брошенную перчатку.
Но вернемся к нашему путешествию. Проехав около мили, мы сделали привал подле постоялого двора. При этом потерянные в городе лошади были возмещены новыми, а Бюре принес нам еду: мы умирали с голода и накинулись на нее как звери. Видам держался в стороне от всех – ему прислуживал паж, но когда я украдкой взглянул на него, мне показалось, что даже в этом железном человеке события прошлой ночи произвели некоторые перемены. Мне казалось, что я заметил на его лице выражение совершенно несвойственного ему волнения – странного и несообразного его характеру чувства. Я готов был поклясться, что в то время, как он посмотрел на нас, на его мрачном лице промелькнуло ласковое выражение и какая-то печальная улыбка.








