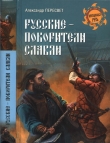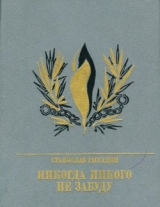
Текст книги "Никогда никого не забуду. Повесть об Иване Горбачевском"
Автор книги: Станислав Рассадин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Они учились жить.
– Чита была наша юношеская поэма…
Так сказал – уже в Петровском Заводе – Иван Пущин, сказал, будто взгрустнул о навсегда покинутом крае счастливого детства, и бывший тут же непременный Михаил Бестужев взорвался саркастическою иронией, даром что сам, как никто, умел видеть свет в самой кромешной тьме и, по словам брата своего Александра, поэта, не только что равнодушно, но весело нес крест:
– Ах, поэма? Еще и юношеская? Стало быть, что-то такое наподобие романтических сочинений твоего друга Пушкина? «Кавказский… pardon, Читинский пленник»? «Забайкальский фонтан»? А ты помнишь ли, милый друг, казематы наши, где мы были набиты как сельди в бочонке? Тесноту, духоту, грязь и все происходящие от того наслаждения? Или то, как спервоначалу приходилось притираться друг к другу – сколько затронутых самолюбий, сколько обид нечаянных!..
Разумеется, Бестужев говорил чистую правду, вот только – всю ли? И, странное дело, Горбачевский, даже он, именно он, совсем не склонявшийся одобрять лицейскую оранжерейную чувствительность, какая ему почудилась в пущинском замечании, не мог не согласиться в душе со своим петербургским тезкой.
Поэма?.. Положим, для него-то Чита оказалась скорее уж ученым трактатом либо энциклопедическою статьей, коли уж подыскивать ей сравнения из мира словесности. Как и иные Славяне, он стал усерднейшим посетителем лекций, которые в их Академии – таким высокопарным манером шутя, они знали, что имеют право на громкое имя, – взялись читать доброхоты из образованнейших; сам читал с самодельной кафедры свою любимую алгебру, выучился по-немецки и по-французски. Но действительно было в читинском их заточении нечто важное и значительное, что не поддается материальному исчислению, не исчерпывается прямой практической пользой, что неосязаемо и, пожалуй, неопределимо, однако же – есть, существует, вот оно!
Поэма? Да пусть хоть и так. Юношеская? Что ж, отчего бы и нет? Это в Петровском Заводе наступила уже пора отчетливой, трезвой прозы, а тут, как и впрямь бывает в стихах, сочиненных молодым человеком единственно от сознания своей молодости, – говорят, что бывает, сам, слава богу, не сочинял, – все еще не уложено, не отлажено, взбалмошно.
И обнадеживающе.
То не была лучезарно-бессмысленная, точно улыбка младенца, надежда, без которой никогда не обходится юность, как бы ни были скованы ее веселые силы. Скованы – вот негаданный каламбур, мгновенно вызывающий четкое воспоминание: бывало, заслышишь за казематной дверью звон кандалов, странным образом мелодически преображенный, а там распахнется дверь, и кто-то влетит, выкаблучивая польку или мазурку и самые цепи свои кощунственно обратив в подобие каких-нибудь там цимбал или литавр из полкового оркестра:
– Почту привезли, господа!..
И не та обнадеженность, уже осмысленная, обсужденная, многажды многими или, по крайней мере, иными обоснованная, но, увы, все же наивная, – будто царь, образумившись и остыв, непременно их амнистирует и притом в самом скором времени, потому что как же иначе, если столь явно, что их заговор был всего лишь вынужденным плодом скверного положения всероссийских дел, а намерения были такими деловито-разумными? К тому ж России только что сопутствовала удача в турецкой кампании, – самое, дескать, время сменить гнев оскорбленного самодержца милостью великодушпого победителя.
Наконец, луч, вдруг появившийся в их беспросветной жизни, не был прежде всего связан даже и с планом побега, немалое время таившимся от глаз начальства, но широко обсуждавшимся среди своих, решавших, куда бы податься, если они сумеют разоружить караул, состоявший всего из пехотной роты да полусотни сибирских казаков. На юг, в Китай, через Маньчжурию и Даурию? На юго-восток, до Амура и по Амуру – в Америку? На запад, к Европейской России? На север, по тундре к Ледовитому морю? Все манило, и все по рассмотрению оказывалось невозможным.
То есть все эти причины весьма способствовали поднятию настроения, но были преходящи и, больше того, сменялись горькими разочарованиями.
Суть таилась в другом.
Открывалась та простая истина, открыть которую есть дело всегда самое непростое, нередко долгое и порою мучительное; обнаруживалось, что ежели нет надежды освободиться по прихоти смягчившегося правительства и нельзя обрести свободу собственными силами, то можно – жить. Что и это – жизнь.
Только-то.
Жизнь не может состоять из одних утрат, – в таком случае она вовсе даже и не должна именоваться жизнью, являясь всего лишь затянувшимся умиранием. Жизнь, любая, если она только и взаправду жизнь, это чреда плюсов, преобладающих над минусами (помогай, алгебра!), чреда открытий и обретений, каждое из которых обещает впереди очередное, новое, слагает будущее, множит надежду.
Они обретали сознание своего братства; это они-то, спорившие и даже ссорившиеся друг с другом в виду революционных планов, которые вот-вот должны были осуществиться, они, не знавшие до суда в лицо многих своих единомышленников, а то и не слыхавшие про них, – их всех незаметно и властно сближало единство дела и цели. Цели недостигнутой и дела проигранного, но, как очевидно открывалось теперь, живых, сбереженных, сохранившихся в них, навсегда неразлучных с ними, – и, значит, все-таки не совсем проигранных. Все-таки осуществленных.
Именно это прочное ощущение приходило в Чите, потому что одна статья – стосковавшись друг по другу, да и просто по лицам людей, не караулящих и не карающих тебя, радостно встретиться во время гражданской казни, победив тяжесть этого мига – мига, не долее, – а совсем другое было пройти испытание казематным бытом.
…Еще в читинском заключении они замыслили, а в Петровском Заводе создали Большую свою Артель, ибо два пуда плохой муки в месяц и два рубля без двух копеек деньгами, получаемые наравне с уголовными каторжными, их пропитать не могли. Артель заботилась – и прекрасно заботилась – о содержании и пропитании узников, положив на каждого в год по пятисот ассигнациями; она покупала гуртами скот и откармливала его, шила одежду и сапоги, имела цирюльню и аптеку; она провожала на поселение, не оставляя отъезжавших без денег, и помогала рабочим Завода; она была учреждением образцовым; ее Устав мог гордиться, что его тринадцать разделов и сто шесть параграфов все до мельчайших мелочен предусмотрели и оговорили, – и в перегруженной памяти Горбачевского особой, небеглой метой мечены те два года, когда его, Ивана Ивановича, набирали хозяином, как патриархально именовался главный артельный распорядитель: обуза, под которую лестно было подставить плечи.
Но Артель ко всему была еще, выражаясь в единожды принятом стиле, практическим продолжением их юношеской поэмы, материализацией самой идеи равенства и независимости.
Кому пришло бы на ум стыдливо считаться: я, мол, кругом неимущ, и мне унизительно знать, что в общий котел, из которого я черпаю по необходимости, другие жертвуют щедро дарящей десницей?
Не было жертвований и даров. Не было ни благодетелей, ни благодетельствуемых.
Они были равны в занятиях ремеслом, различаясь или гордясь разве что титулами признанных мастеров: искуснее всех штопал чулки Трубецкой, первейшим огородником был, конечно, Волконский, хотя сначала многие тщились оспорить его первенство; лучшим токарем – Артамон Муравьев, закройщиком – Оболенский, фуражечниками – Бестужевы. И точно так же немыслимо было вменять в особую заслугу тому же Трубецкому, что он, имея на то возможность и не имея нужды чем-либо пользоваться из Артели – как человек состоятельный и женатый, – ежегодно вносит от двух до трех тысяч в ассигнациях, точно как и Волконский, и Никита Муравьев, и прочие.
Благодарить их за это было не только немыслимо – оскорбительно.
Еще много раньше, во время следствия, полковнику лейб-гвардии Финляндского полка Михаилу Фотиевичу Митькову родные прислали в крепость узел с бельем и английским фланелевым одеялом, однако едва Митьков узнал от соседей, что очень немногие из них имеют эту скромную роскошь, он завязал узел и отправил обратно.
Пользы другим он тем не принес и не ждал от них благодарности, – он сам нуждался в самоотвержении, только всего.
А много позже, в Заводе, Сергей Григорьевич Волконский по какому-то, не припомнить, поводу взялся назвать, чего лишился, пойдя в каторгу, – лишился, как он полагал, навсегда. И называл, запинаясь от долготы перечисления. В Нижегородской губернии родового имения полторы тысячи душ… да в Ярославской, кажется, более пятиста… в Таврической благоприобретенного десять тысяч десятин… в Одессе дом двухэтажный каменный… еще и дача близ сего благословенного города…
Притом вспоминал отнюдь без плотоядности, совсем не так, как гурман перебирал бы в голодной памяти устрицы и дупелей, которых едал в лучшие времена, и вновь пожирал бы мысленно, истекая подлинною слюной, – напротив, в голосе и глазах угадывалось даже некоторое удивление. Неужели все это было его? И неужели он, пусть в незапамятные лета, думал, что это необходимо для жизни?
Тогда Волконский произнес очень запомнившееся:
– Как бы ни сложилась судьба, я вот в чем убежден совершенно. Я тайному обществу уж за одно то благодарен, что оно мне дало минуты свободы – то есть счастия. В товариществе я постиг, как сладостно самоотвержение от аристократических начал. Вы понимаете меня?
И Горбачевский, в богачах и аристократах уж никак не ходивший, ответил без колебания:
– Да. Я вас понимаю.
Потому что это он понял давно – в ту еще пору, когда отказался от своих помещичьих прав. И теперь он, нищий с незапамятных времен и потому в этом отношении как бы даже старейший и опытнейший, нежели Сергей Григорьевич, слушал его с полным сочувствием, хотя тот сравнительно с ним и в каторге, всего, казалось, лишенный, оставался еще богачом несметным. Это особенного значения не имело, оба они, и генерал-майор князь Волконский, и подпоручик дворянин Горбачевский, потерял чины и состояния, потеряв без заметного сожаления, в этом оказались равны. Ибо богатством можно мериться, когда им владеешь, им можно даже гордиться – отчего бы и нет? – добросовестно приобретая, но когда теряешь или отдаешь собственной волею, тут свой счет, не на остаток, а на утрату, на готовность отдать, на то, что счету как раз и не подлежит…
«Никогда никого не забуду, – и кто мне говорит о старом и бывалом, кто говорит о моих старых знакомцах-сотоварищах, тот решительно для моей душевной жизни делает добро».
И. И. Горбачевский – И. И. Пущину
ИЗ ТЕТРАДИ Г.Р.КРУЖОВНИКОВА Продолжение
Любимая!
Мое первое письмо к Вам я начал – и не дописал.
Совсем не только потому, что вдруг прибежали из заводской конторы: управляющему, изволите видеть, срочно понадобился прошлогодний счет, который… Впрочем, эта канцелярская материя скучна не только для Вас, но и для меня самого.
Когда я вернулся, ничто не мешало мне вновь сесть к столу и продолжить фразу, оставленную на полуслове. Ничто – кроме горько нахлынувшего: зачем?! Зачем писать, если письма все равно не отправишь? Зачем дразнить свое сердце, когда оно и без того скукожилось в беспросветном одиночестве?
Не дописал. А вот теперь – продолжаю. Потому что, пока корябал, видел Вас перед собой, бросив же, затосковал круче и понял: мне совершенно необходимо говорить с Вами, хоть так, видеть Вас, пусть не воочию, не как в былое – подумать только, недавнее! – время, когда Вы в общем крике и споре, случалось, обращали и на меня снисходительное внимание:
– Господа! Что это наш Гаврила Романович нынче безмолвствует?..
Будто я когда-нибудь витийствовал.
– …Что же вас не слышно, коллега?
– Да, Кружовников, – тут же старался кто-нибудь бесстыдно Вам угодить, – видать, ты не в тезку своего удался… Как там у него? «Слух пройдет обо мне…»
А Вы – смеялись, хотя, признаться, шутка была совсем не из удачных, мне же надоела донельзя.
«И ты туда же», – смиренно думал я, разве что в мыслях позволяя себе это приятельское «тыканье»…
Что говорящему нужен слушатель – истина, не мною рожденная, но я-то не соглашусь на кого попало. Мне, чтобы выговориться, нужны Вы. Тем более что тут уж я заставлю Вас слушать и дослушать меня, тут Вы меня не прервете, потрясая, как бывало, кулачком-орешком, и не смутите шуткой насчет моего пышно-нескладного имени.
На чем, бишь, я в прошлый раз остановился?
На странности, на непонятности – для нас, нынешних, или по крайней мере для меня – характера и судьбы Ивана Ивановича Горбачевского.
И не его одного.
Чем поразительны для меня они – все, в целом? Объяснить не объясню, но хоть чувству дам выплеснуться. Да и пишу я не ученый какой трактат, а письмо – любимой женщине о любимых людях.
Они, поднимаясь, никак не могли представить, что именно обретут в конце концов. Кто-то из них признавался: он так твердо был уверен в линейной ясности двух, только двух исходов – «или успеем, или умрем», – что о третьем и не подумал. О том, чтобы продолжать жить побежденным. Поверженным.
Их веселая, безоглядная духовная сила проявилась вначале в том, что они готовы были терять: жизнь, богатство, избранное положение в обществе; кто и не был богат, не был знатен, ведь и те были недосягаемо далеки от страдающих низов.
И теряли. Если бы не было боязно, сказал бы: с легкостью.
Да и скажу – чего бояться? Потому что как скажешь иначе, когда одни из тех, о ком я читал и слышал, говорит сразу после суда, что самые цепи свои несет на себе с гордостью; что счастлив делить судьбу старшего брата, который тоже идет на каторгу; что видит в своем положении – как бы Вы думали, что? – поэзию. А другой замечает со всей степенной серьезностью, что правительство, столь жестоко и безрассудно их наказав, дало им право – право! – смотреть на себя как на очистительные жертвы будущего преобразования России. Вновь прошу Вас заметить: говорит так, будто у него не отняли все, что он имел, а, напротив, все дали.
Третий же, услыхав приговор и узнав, что наказан легче прочих соратников, вдруг плачет.
От неожиданного облегчения? Нет же!
– Что это значит? – спрашивает его удивленный и строгий товарищ.
– Мне стыдно и досадно, что приговор мой такой ничтожный и я буду лишен чести разделить с вами ссылку и заточение.
Известны слова Рылеева – из услышанных от него на Сенатской площади:
– Последние минуты наши близки, но это минуты свободы. Мы дышали ею, и я охотно отдаю за них жизнь свою.
Но те, кого лишили чести разделить участь казненных, кто уцелел, кто пошел на долгие годы – а обещалось, что навечно, – в Сибирь, ведь и они сумели до самых последних дней дышать внутренней своей свободой. Пусть не все до единого, но многие, большинство, они – как явление и понятие.
Им самим не всегда верилось, что такое будет возможно.
Открываю книгу одного из декабристских мемуаристов, барона Розена, – она у меня есть стараниями сестры Катерины, Вам известной. Читаю – а Вы послушайте:
«Будущность нашу на поселении рисовал он (это Розен о Лунине) самыми мрачными красками, утверждая, что всем нам предстоят только три дороги, кои все поведут к погибели: одни женятся, другие пойдут в монахи, третьи сопьются».
В монахи никто не постригся; жениться женились – на местных, притом многие счастливо; не спился… что ж, по сравнению с будущим поколением можно снова сказать: никто, – словом, «все мы», то есть они, не погибли. Не потеряли себя, – а как знать, вдруг да в чем-то и обрели?
Я ведь и впрямь не шутки ради помянул огороднический гений Волконского. Конечно, можно и пошутить не без грусти: князь, садящий капусту наподобие древнего императора Цинцинната; можно всерьез опечалиться: тот, кто мог быть государственным мужем, становится всего только земледельцем, – какой общественный убыток! Но, как я сказал уже, есть над чем и призадуматься.
Тем более – один ли Волконский?
Невероятный Николай Бестужев, которому прочили будущее всероссийской знаменитости в словесности и науках и который, лишенный простора, проявил невероятное же число побочных талантов: он и живописец, и столяр, и слесарь, и часовых и ружейных дел мастер, и изобретатель всего на свете, и прочая, прочая, прочая, несть конца, – притом все умел на том уровне, которого достигает лишь истинный мастер. А философ Петр Борисов, который был принужден обрести себя заново в тончайшем искусстве акварельного художника? А лихой полковой командир Артамон Муравьев, проникающий в тайны тибетской медицины? А… Нет, не перечислить всех, кому пришлось стать кем-то совсем иным, чем они могли и должны были стать, – но ведь стали, выстояли! Это власти стыд и позор, которая не сумела, не захотела использовать на благо страны их дарования, – им же, их стойкости только слава!
У того же Рылеева в «Войнаровском», где он многое угадал наперед: и их сибирскую ссылку, и геройскую верность жен, есть сожаление и страдание:
Горит напрасно пламень пылкий,
Я не могу полезным быть:
Средь дальней и позорной ссылки
Мне суждено в тоске изныть.
Вот чего, однако, не предсказал и пророк Рылеев: они-таки стали полезными, победив судьбу и свой приговор. Ремесла – это далеко не все, я о них и речь-то завел больше для сугубой наглядности, – а школы, библиотеки, а всякие прочие способы просвещения, неоценимые и, к несчастью, неоцененные? Они и вправду по-робинзоновски обживали и облагораживали – уже одним своим стойким примером – этот весьма обитаемый, но еще дикий остров.
Отчего с такой нежной гордостью поминают здесь моего Ивана Ивановича?
Я выведывал и прикидывал, – да, следы им оставлены самые вещественные.
Манифест о крестьянской воле он ждал с недоверием и недоверчиво встретил. Правда, узнав о нем, не удержался, расплакался: «Тридцать лет с лишком надеюсь!», но все было не по нем, реформа казалась медлительной, полуобманной, и когда доходили известия, что бывшие ссыльные Свистунов, Розен, Кривцов, Назимов, Михаил Пущин взялись в далекой России за мировое посредничество и согласились – как там говорилось в царевом указе? – «быть примирителями и судьями интересов двух сословий», он с искренней сумрачностью не понимал, как возможно примирить исконно непримиримых.
– В рай, судари мои, силою гнать не годится, – говаривал он раздраженно. – Поведешь туда, а кнут свою дорогу укажет, как раз в ад…
Он сам когда-то отказался от помещичьих прав и до смерти своей полагал, быть может, наивно, что стоит сказать мужикам: «идите куда угодно», как все образуется, – впрочем, замечу, что совсем не наивна была убежденность, что крестьянскую судьбу нельзя решать, не спросившись у тех, за кого решают.
Однако это раздражение оказалось все-таки пересилено.
В Европейской России дела шли, по скептическому суждению Ивана Ивановича, не так, как должно, – когда же он видел, что делается или, точнее, чего не делается в его Заводе, тут было не до ворчливого скепсиса.
Рискую совсем Вам наскучить, но раз уж я здесь пребываю в роли словно бы местного архивариуса, вот Вам доступная мне цифирь, – прикиньте, насколько же не суха была она для Горбачевского.
Уже в марте 1861 года, прямиком за манифестом, касающимся крепостных крестьян, вспомнили о Сибири: был подписан указ об освобождении горнозаводского люда из его крепостного состояния, от обязательных работ.
Прекрасно!
А на деле – надувательски медленно. Нет, и медленно, и надувательски.
В том же 1861-м освободили лишь тех мастеровых, что пробыли – и пробыли безупречно! – в своей неволе больше двух десятков лет. Таких в Заводе оказалось, по прихотливому представлению начальства, всего 41 человек. Только.
На следующий год пощедрели: отпустили прослуживших больше пятнадцати лет (их уже с семьями набралось числом 807), да 45 мальчиков, детей ссыльнокаторжных, также тащивших взрослую лямку.
Год 1863-й: наконец отпущены все рабочие. Мужского полу набралось их 254.
Неторопливо, а главное, толку-то? В таком удалении от метрополии, производящей законы, кабала меняет свое наименование, но кабалой остается – да с розгами, с мордобоем, не говоря уж об экономических притеснениях. И вот Вам то, что по совести уже не могло не явиться, – письмо в нашу контору, там мною найденное и, разумеется, списанное:
«Господин Военный губернатор Забайкальской области от 8 января 1865 г. за № 50, вследствие полученного им предложения господина генерал-губернатора Восточной Сибири, назначил меня к исправлению должности мирового посредника Петровского горного округа, в которую я и вступил с настоящего числа сего января месяца, о чем честь имею уведомить Петровскую горную контору.
Исправляющий должность мирового посредника >Иван Горбачевский».
Значит, не удержал при себе зачесавшихся рук, хоть и знал, что они заранее повязаны.
Стесненный, он сделал немало (если Вам покажется, что немного, ну-ка переведите наш захолустный Завод хотя бы во всесибирский масштаб). Учредил общественную библиотеку. Школа возникла при его решительном соучастии и руководстве. Даже с торговлей пытались управиться – и управились, открыв потребительское общество и при нем необходимейшую для бедняков мясную лавку на паях, торговавшую в два, а то в три раза дешевле, чем перекупщики. Ну, тут, впрочем, хозяйственные дарования Ивана Ивановича, слишком известные по его собственному разорению, дела бы не выручили, да был, слава богу, его же, Горбачевского, выученик, кузнец из ссыльных Афанасий Першин, личность, судя по тому, что я слышал, оригинальная. Иван Иванович начал с того, что обучил кузнеца грамоте, а потом они вместе читали и «Колокол», и «Полярную звезду», и тем более «Современник», – откуда, между прочим, и позаимствовали идею своего потребительского товарищества.
Першин выбран был волостным старшиной, чему весьма способствовал Горбачевский, и известно ли Вам, что он устроил в Заводе не что иное, как забастовку, когда подговоренные им рабочие по гудку на два часа бросили работу, добиваясь – и, вообразите, добившись – облегчения?
Вот Вам, кстати, среди множества бедственных последствий нашего удаления от столиц хотя бы одно, да все-таки преимущество. Здесь беспредельнее и сам начальственный гнет, и, случается, противостояние ему.
Утешение, конечно, невеликое, ибо последствия бедственные преобладали и побеждали. Лавка, увы, проторговалась от чрезмерных усилий продавать честно и дешево. Школа не удержалась дольше семи лет. Библиотеку после смерти Ивана Ивановича разворовали. И все-таки, поверьте мне, я грущу – и не грущу. То, что обычно кажется нематериальным и легко преходящим, порою тверже и постояннее многих вещественных дел. Я вижу, как светлеют лица даже ожесточившихся людей, когда они рассказывают мне о Горбачевском, – и в этом для меня источник надежды.
Когда вспоминают: «При нем не смели лгать», я думаю: пока не забылся этот молчаливый запрет, ложь в их душах еще не совсем победоносна.
А если б им рук не вязали? Если бы царь позволил им развернуться – повторю – в масштабах Сибири, не говоря обо всем государстве?
Куда там! Не только что народного просвещения, к которому власти, даже дозволяя его, должны относиться опасливо, – от них и никакой пользы не хотели, даже такой, что самим властям была практически выгодна.
Вот – чуть было не написал: забавный случай, – но нет, тут не позабавишься.
Генерал-губернатор Муравьев-Амурский, прознав, что Николай Бестужев изобрел ружейный замок невиданной простоты, как говорили, державшийся всего на одном шурупе или на чем-то в этом роде, – в этом я, понимаете сами, профан совершеннейший – уломал его сделать образчик для представления великому князю Константину Николаевичу.
Сделал. Представили. И – как в воду. А солдатики небось и по сей день маются, собирая и разбирая замки, хитроумные и многосложные.
Совсем не уверен, что Вы прочитали некий «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе», – «Русь» не из тех журналов, которые чтутся или хотя бы читаются в Вашем (а прежде – нашем) кругу. Да и ко мне позапрошлогодняя журнальная книжка попала чистым случаем, хотя я в петровском своем уединении до чтения стал неразборчиво жаден. Тем не менее – рад, что попала, ибо наводит на мысли не больно веселые, однако – на мысли, и вот что (послушайте-ка) происходит под занавес этой печальной комедии или «цеховой легенды», как надумал окрестить свое сочинение автор, – может быть, и не сочинил, а записал где-то?
Персонаж этой легенды, косой умелец Левша, побывавший в туманном Альбионе, вывез оттуда урок, полезный для отечества: ни в коем разе не чистить, как у нас это водится, ружейных стволов толченым кирпичом. И умирая в полиции и от полицейского же усердия, заповедал непременно довести важную весть до государя-императора.
Догадываетесь, чем это кончилось?
«Государю так и не сказали, и чистка все продолжалась до самой Крымской кампании. В тогдашнее время как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены…
А доведи они Левшины слова в свое время до государя, – в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был».
Так-то, – а мы еще будучи непримиримыми реалистами, брюзжим на литераторов, что много, дескать, выдумывают. Какое! Где уж нашей словесности тягаться c ежедневными нашими буднями? Ведь в бестужевском случае довели-таки – не до царя, так хоть до великого князя, – толку-то что?..
Возвращаюсь, однако, на круги своя.
Вот что мне подумалось. То, что они вышли на Сенатскую площадь, то, что подняли Черниговский полк, что замыслили устранить деспота, – решения, разумеется, жертвенные. Героические. Это прекрасно – но и понятно, странного тут ничего нету.
Героизм – это, может быть, прежде всего способность человека оставаться самим собою там, где это, кажется, просто невозможно. Быть естественным в условиях противоестественных, будь это – все равно – пожар, наводнение, война или существование без вольного воздуха при деспотизме. Они, декабристы, и были героями истинными – в разные часы своей жизни являя свой героизм по-разному.
Они оставались собой, теми, какими были рождены и воспитаны, выходя на Сенатскую и сговариваясь о цареубийстве. В который раз говорю: это понятно, это не странно, потому что за этим и давний опыт дворянской фронды, и офицерское доблестное умение презирать смертельную опасность в бою или на дуэли, и в конце-то концов даже отечественная традиция расправляться с неугодившим монархом, подававшая им пример и надежду.
То есть тут сама история их сословия приходила на помощь.
Но вот то, что и пойдя в Сибирь, в норы, в дыры, и застрявши там на долгие годы, они не опустились, – разве что опростились, обжились средь народа, что само по себе заставляет снять перед ними шляпу или картуз, и для чего тоже нужна была особая сила души, нужна та самая легкость, с какою они расставались со знатностью и богатством, да хоть и просто с дворянским званием и каким-никаким достатком, но только легкость, теперь уж испытываемая долго, жестоко и страшно… ох, и завернул же я бесконечно-невылазный период… словом, то, что в Сибири они не пропали духовно, вновь оставшись собою, и только собою, вот этому история дедов и прадедов их научить не могла.
Горбачевскому в двадцать пятом году и было от роду двадцать пять, сколько столетию; столько же исполнялось или исполнилось многим из них, – да, впрочем, и те, кому, как Волконскому, было больше, даже они с малыми исключениями угадали сложиться, сформироваться духовно как раз между 1812-м и 1825-м, в удивительный и краткий миг истории российского дворянства. Тогда, когда оно уже прониклось духом свободы и независимости, обнадеженное и «прекрасным началом» Александровых дней, и идеями, принесенными из Франции, и сознанием победителей самого Наполеона.
И тогда, когда еще не получило ужасного удара oт Николая, разгромившего их, а с ними и их воспылавшие иллюзии.
Миг истории, написал я. Нет. Неверно.
Для истории мигом могут быть – и исчезнуть единым мигом – тягучие десятилетия, для людей, которые в них завязли, продолжающиеся бессчетно. И всего несколько лет способны как бы сами стать ею, историей.
Памятны ли Вам герценовские слова из его книги с развитии революционных идей в России, которую – припоминаете? – я же когда-то и вручил Вам на секретный предмет прочтения? Если нет, повторю с охотой.
После 1812 года, писал Герцен, в русском обществе стали все чаще проявляться чувства рыцарские, те, что до сих пор не были ведомы нашей аристократии, по происхождению плебейской и возносившейся над народом только милостью царей.
За холопскую то есть выслугу. За рабские добродетели. Уж никак не за рыцарское достоинство, которое неотделимо от независимости самой что ни на есть реальной, когда феодал может тягаться с монархом – по-европейски – в могуществе. Николай как раз и уничтожил это воспрянувшее достоинство, установив власть бюрократии. Я за многое его ненавижу. За это – тоже. Очень. Век восемнадцатый был веком выскочек, и впрямь выскакивавших, как чертики из табакерок, с пружинной силой и ошеломляющей неожиданностью: у нас – «птенцы гнезда Петрова», да и иные из «Екатерининых орлов» (и ей отдадим должное); в Европе – дети часовщиков, ставшие создателями «Женитьбы Фигаро» и «Общественного договора» (так и слышу: тик-так, тик-так, трак-такт!), сын нотариуса Вольтер и ножовщика – Дидро, Даламбер-подкидыш, взращенный вдовой стекольщика, мелкопоместный дворянишка из корсиканского городишки Аяччо, скакнувший в императоры.
Там были выскочки. Здесь появились выползки.
Взгляните, как раскладывает по полочкам плоды тридцатилетнего Николаева царствования тот же Андрей Розен, немец, аккуратист, – и полки дымятся и обугливаются, в самой обстоятельной холодноватости какая пылкая горечь оскорбленных надежд… Но не буду мешать Андрею Евгеньевичу:
«Исследования о тайных обществах, заговорах, восстаниях раскрыли все состояние государства повсеместно, во всех видах, и гораздо подробнее, нежели как это было возможно дознать государю и министрам его – иными средствами. Правительство не воспользовалось этими указаниями, а только еще сильнее стало питать подозрение к тайным обществам и ненависть к либерализму до такой степени, что шалости школьного юношества, непринужденная беседа молодежи беспрестанно страшили его видениями заговоров и отвлекали внимание от дел важнейших…»
Все-таки – не утерплю, высунусь со своим словечком.
Видения, принимаемые за материальность, – и, конечно, караемые тоже весьма осязаемо – могут стать действительностью и становятся ею. Это закон не физики, но истории и политики. Преследование за слово оборачивается ответным делом, и когда теперь даже ненавидящие правительство с осуждением и печалью говорят о напрасности революционного желябовского террора, я, соглашаясь с этим (да, да!), спрашиваю: а кто его породил? Кто окончательно врыл столбы того холодного здания, в котором недовольным нечего и думать, чтобы договориться с теми, кто всем доволен?