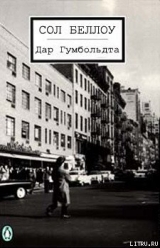
Текст книги "Дар Гумбольдта"
Автор книги: Сол Беллоу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 41 страниц)
* * *
Под нами замелькали пятна воды, отливающие в сумерках металлическим блеском, самолет пошел на снижение и приземлился в Ла-Гардии в рыжевато-коричневых лучах заходящего солнца. В отель «Плаза» мы отправились, едва втиснувшись на низкие сиденья одного из нью-йоркских такси, сильно смахивавшего на душегубку для перевозки бешеных псов. У меня возникло ощущение, что я, должно быть, кого-то покусал, и теперь меня, исходящего пеной от бешенства, срочно везут усмирять в собачий приют. Я поделился своими мыслями с Ренатой, но она, похоже, решила, что я расходую свое воображение специально, чтобы испортить ей удовольствие, уже и без того подпорченное тем обстоятельством, что мы путешествуем как муж и жена, не имея на то права. Швейцар «Плазы» помог ей выбраться из машины, и Рената, обутая в высокие сапоги, прошагала под утепленный навес, украшенный сверкающими оранжевыми скипетрами. Поверх мини-платья на ней была длинная дубленка с тонкими полосами овчины. Я купил ее для Ренаты в Польше. Чудесная мягкая бархатная шляпа фасона, навеянного голландскими портретами семнадцатого века, сдвинута на затылок. А под ней безупречно гладкое белое лицо, расширяющееся книзу. Это утолщение, вроде как у бутылочной тыквы, было ее единственным недостатком. Горло Ренаты из-за очень тонких перетяжек собиралось едва заметными складочками каких-то сугубо женских отложений. Такая же легкая припухлость обнаруживалась на боках и бедрах. Первые суставы пальцев Ренаты несли в себе те же признаки изобильной чувственности. Следом за нею в своем клетчатом пальто шел я, восхищаясь и размышляя. Кантабиле и Стронсон сошлись во мнении, что в этом пальто я похож на убийцу. Но сейчас я меньше всего напоминал убийцу. Мою прическу разворошил ветер, так что я чувствовал исходящее от навеса тепло своей оголенной плешью. Порывы зимнего ветра задували в лицо, заставляя нос краснеть. Под глазами налились мешки. В Пальмовом зале музыканты играли завораживающую и вкрадчивую, но бессмысленную мелодию. Мы зарегистрировались как мистер и миссис Ситрин, указав ложный чикагский адрес, и поднялись наверх в лифте в окружении прелестных школьниц, приехавших на каникулы. Казалось, девочки источают чудесное благоухание незрелости, напоминающее аромат зеленого банана.
– Ты, конечно, взял на заметку этих милашек, – высказалась Рената, снова приходя в хорошее расположение духа, – мы шли по бесконечному коридору, устланному золотистым ковром с бесконечно повторяющимся рисунком черных росчерков и завитков, завитков и росчерков. Моя привычка пристально разглядывать людей забавляла Ренату. – Ты такой жадный зритель, – добавила она.
Так и есть, хотя десятилетиями я пренебрегал этим своим врожденным свойством, своей особой манерой наблюдения. И сейчас не видел никаких причин, почему бы не возобновить ее. Кому это мешает?
– Что это? – воскликнула Рената, когда коридорный открыл дверь. – Что за номер нам дали?
– Это комнаты с мансардными окнами. На самом верху «Плазы». Отсюда открывается самый лучший в гостинице вид, – сказал я.
– В прошлый раз у нас был изумительный люкс. Какого черта мы забыли на чердаке? Где наш люкс?
– Ну-ну, дорогая. Какая разница? Ты совсем как мой брат Джулиус. Он тоже возмущается и надувается спесью, если в гостиницах ему не дают самого лучшего номера.
– Чарльз, у тебя что, очередной приступ скупости? Помнишь, что ты как-то сказал мне о специальном застекленном вагоне в хвосте поезда для туристов, которым нравится разглядывать пейзаж?
Я даже пожалел, что когда-то познакомил Ренату с высказыванием Джина Фаулера[325]325
Фаулер Джин (1890-1960) – журналист, писал биографические книги об актерах.
[Закрыть], который говорил, что деньги – это то, что можно разбрасывать с последней площадки мчащегося поезда. Но ведь то был журналистский стиль золотого века Голливуда, пьяной роскоши ночных клубов двадцатых годов, Синдрома Большого Транжиры.
– И все-таки, Рената, отсюда действительно открывается самый лучший во всей гостинице вид на Пятую авеню.
Вид, если вы к ним неравнодушны, и правда открывался замечательный. Обычно мне прекрасно удается заворажить других всякими красотами ради того, чтобы погрузиться в себя. Внизу Пятая авеню сверкала рождественским убранством, фарами попавших в пробку автомобилей – движение между Семидесятой и Тридцатой улицами было особенно плотным, – разноцветными и прозрачными вывесками, которые, подчиняясь пульсирующим вспышкам, легко меняли форму, как клетки капилляров под микроскопом. Все это я увидел в одно мгновение. Как расторопная девица-крупье, которая сгребает все фишки прежде, чем шарик установится на колесе рулетки. Как и прошлой весной, когда мы с Ренатой поездом отправились в Шартр. «Посмотри, какая красота!» – воскликнула она. Я взглянул, да, вид действительно был прекрасный. Но мне хватило одного только взгляда. Таким образом можно сэкономить массу времени. Весь вопрос в том, что делать с минутами, добытыми такой экономией. Все это, могу добавить, – результат действия того, что Штейнер называет Сознающей Душой.
Рената не знала, что Урбанович собирается заморозить мои деньги. Но по выражению ее глаз я понял, что думает она именно о деньгах. Она частенько воздевала брови с любовью, но то и дело ее взгляд становился сугубо практическим, хотя и это мне безумно нравилось. Через мгновение Рената решительно повернула голову ко мне и сказала:
– Раз уж ты в Нью-Йорке, что тебе мешает встретиться с несколькими редакторами и растыкать свои статьи. Такстер вернул их тебе?
– Неохотно. Он все еще надеется выпустить «Ковчег».
– А то как же. Он сам – все твари по паре вместе взятые.
– Он звонил вчера и приглашал нас на прощальную вечеринку на «Франс».
– Его престарелая мать устроила ему еще и вечеринку? Она, должно быть, уже совсем старая.
– Но понимает толк в роскоши. Она устраивала выход в свет для нескольких поколений дебютанток, и она знается с Настоящими Богачами. Она всегда знает, где ее мальчика ожидает какое-нибудь шале, или охотничий домик, или яхта. Стоит ему переутомиться, и она отправляет его на Багамы или к Эгейскому морю. Тебе стоило бы на нее взглянуть. Такая себе тощая, умная и предприимчивая особа, но сердито зыркает на меня – я недостойная компания для Пьера. Она стоит на страже богатых семейств, защищая их право убивать себя алкоголем и их вековую привилегию быть ничтожествами.
Рената засмеялась:
– Избавь меня от его вечеринки. Закончим твое дело с завещанием Гумбольдта и отправимся в Милан. Мне не терпится туда попасть.
– Ты думаешь, что Биферно действительно твой отец? Все лучше, чем гомик Анри.
– Честно говоря, на кой бы мне сдался отец, если б мы были женаты. Я ищу твердой опоры в своем шатком положении. Ты можешь сказать, что я уже была замужем, но брак с Кофрицем твердой опорой не назовешь. Да к тому же я отвечаю за Роджера. Кстати, мы просто обязаны послать всем детям подарки из «Шварца»[326]326
«Шварц» – знаменитый магазин игрушек в Нью-Йорке, основан в 1870 г.
[Закрыть], а у меня нет ни цента. Кофриц по полгода задерживает алименты. Говорит, что я завела богатого дружка. Но я не потащу его в суд и не засажу за решетку. А ты… У тебя и так слишком много нахлебников, а я не хочу попать в ту же категорию. Хотя я о тебе забочусь и, признай, от меня, по крайней мере, есть какая-то польза. А попадись ты в лапы этой антропософской дочке, этой маленькой блондинистой лисичке, ты бы скоро почувствовал разницу. Она та еще штучка.
– При чем тут Дорис Шельдт?
– При чем? А разве ты не написал ей записку перед отъездом из Чикаго? Я прочла оттиск, который остался в твоем блокноте. Разве это честно, Чарли? Ты самый отъявленный в мире лгун. Хотелось бы мне знать, сколько дам ты придерживаешь про запас.
Я не стал возмущаться тем, что Рената за мной шпионит. Я больше не устраивал сцен. Наши поездки в Европу, приятные сами по себе, кроме того, избавляли меня от посягательств мисс Шельдт. Рената считала ее опасной особой, и даже Сеньора пыталась бросить мне этот упрек.
– Но, Сеньора, – отвечал я, – мисс Шельдт появилась на горизонте только после случая с мистером Флонзалеем.
– Вот что, Чарльз, вопрос о мистере Флонзалее надо закрыть. Вы не просто провинциальный буржуа, вы – литератор, – сказала пожилая испанская дама. – Флонзалей в прошлом. Рената небезразлична к чужой боли, так неужели вы думаете, что она могла поступить иначе, когда тот человек переживал такие муки? Рената проплакала всю ночь, что он находился у нее. Он вульгарный бизнесмен и не идет с вами ни в какое сравнение. Просто Рената чувствовала себя обязанной уделить ему внимание. И поскольку вы homme de lettres, а он гробовщик, более достойный человек должен быть терпимее.
Я не мог спорить с Сеньорой. Однажды утром я увидел ее, когда она торопилась в ванную и еще не успела накраситься, совершенно бесцветная: дряблая желтая, как у банана, кожа, без бровей и ресниц и практически без губ. Жалость, возникшая во мне от этого зрелища, проняла меня до сердца, и я навсегда лишился всякого желания выигрывать у нее хотя бы одно очко. Когда я играл с ней в триктрак, то жульничал в ее пользу.
– В отношениях с мисс Шельдт, – сказал я Ренате в «Плазе», – самое важное – это ее отец. У меня не может быть романа с дочерью человека, ставшего моим учителем.
– Вдалбливает тебе в голову всяческую чушь, – вставила она.
– Рената, позволь мне процитировать: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти». Это Откровение Святого Иоанна, более-менее близко к тексту.
Снисходительно улыбаясь, Рената встала, одернула мини-юбку и сказала:
– Ты закончишь тем, что будешь шлепать босиком по Лупу с плакатом: «Задумайтесь, где вы проведете вечность!» наперевес. Ради бога, позвони, наконец, этому Хаггинсу, душеприказчику Гумбольдта. И не вздумай снова потащить меня на обед в «Румпельмайер».
Хаггинс собирался в галерею Кутца[327]327
Галерея Кутца – галерея современного искусства в Нью-Йорке, основана 1957 г.
[Закрыть] на открытие выставки, и когда я изложил свое дело, он предложил там и встретиться.
– Что там за наследство такое? Неужели там что-то есть? – поинтересовался я.
– Кое-что есть, – ответил Хаггинс.
В конце сороковых, когда Хаггинс слыл в Гринвич-Виллидж знаменитостью, я был почти незаметным членом кружка, обсуждавшего политику, литературу и философию у него в доме. Там собирались такие гиганты, как Кьяромонте[328]328
Кьяромонте Никколо (р. 1905) – итальянский философ-антифашист.
[Закрыть], Рав, Абель, Пол Гудмен и Фон Гумбольдт Флейшер. Объединяла нас с Хаггинсом привязанность к Гумбольдту. И все, пожалуй. В большинстве случаев мы раздражали друг друга. Несколько лет назад во время съезда демократической партии в Атлантик-Сити, в этой жалкой юдоли развлечений, мы наблюдали как Хьюберт Хэмфри[329]329
Хэмфри Хьюберт Горацио (1911-1979) – сенатор-демократ, вице-президент в 1965-1969 гг., неудачный кандидат в президенты на выборах 1968 г.
[Закрыть] делает вид, что оттягивается со своей делегацией в тот самый момент, когда его распекал Джонсон, и что-то в нарядном запустении, в оборванных нитях праздничного веселья настроило Хаггинса против меня. Он обрушился на меня, когда мы вышли на дощатый променад и повернулись лицом к внушающей ужас Атлантике, низведенной здесь до обычной соленой водички обертками от ирисок и похожим на пену попкорном, ежедневно сметаемыми в океан дворницкими метлами. Без оглядки на авторитеты, подкрепляя свои аргументы подергиваниями седой козлиной бородки, Хаггинс резко отрицательно отозвался об опубликованной мною той весной книге о Гарри Гопкинсе. Хаггинс писал репортажи об этом съезде для газеты «Женская одежда». Он не только был гораздо лучшим журналистом, чем я, – мне таким никогда не стать, – но к тому же еще и известным богемным диссидентом и революционером. Он язвительно поинтересовался, с чего это я так благосклонен к «новому курсу» и как это мне удалось разглядеть столько достоинств в Гопкинсе? Заявил, что в своих книгах я постоянно подлизываюсь к американской системе правления. Обозвал меня апологетом, самозванцем и марионеткой, чуть ли не Андреем Вышинским[330]330
Вышинский Андрей Януарьевич (1883-1954) – советский деятель. В 1917 г. был меньшевиком и выдал санкцию на арест Ленина. В 30-е годы прокурор СССР, выступал обвинителем на фальсифицированных процессах против оппозиции Сталину. Затем был дипломатом, умер в Нью-Йорке на посту представителя СССР в ООН. Известный на Западе, служил для американских интеллектуалов олицетворением сталинского режима.
[Закрыть]. В Атлантик-Сити, как и везде, этот высокий розовощекий козлобородый заика и спорщик одевался неформально: хлопчатобумажные брюки из прочной фильтровальной ткани и теннисные туфли.
Я до мельчайших деталей вспомнил, как всматривался в него на променаде. В зеленых и янтарных крапинках моих зрачков он мог разглядеть целые эпохи сна и бодрствования. Возможно, он думал, что неприятен мне, но это не так. Со временем я симпатизировал ему все больше и больше. Теперь он уже состарился, и пагубные гидростатические силы в организме начали создавать растянутые и складчатые мешки на его лице, хотя цвет его не изменился и он по-прежнему оставался гарвардским радикалом, вроде Джона Рида[331]331
Рид Джон (1887-1920) – американский леворадикальный журналист, один из основателей коммунистической партии США, автор книги «10 дней, которые потрясли мир» об Октябрьском перевороте. Умер в Москве.
[Закрыть], одним из тех вечно юных легкомысленных и одухотворенных американских интеллектуалов, преданных своему Марксу и своему Бакунину, Айседоре[332]332
Айседора Дункан (1878-1927) – американская танцовщица, основоположница школы танца модерн. Одно время была женой Сергея Еcенина. Погибла, задушенная собственным длинным шарфом, намотавшимся на колесо ее автомобиля во время езды.
[Закрыть], Рандольфу Боурну[333]333
Боурн Рандольф Силлиман (1886-1918) – американский леворадикальный критик.
[Закрыть], Ленину и Троцкому, Максу Истмену[334]334
Истмен Макс (1883-1969) – американский публицист и политик, приближенный Троцкого.
[Закрыть], Кокто[335]335
Кокто Жан (1889-1963) – французский писатель, художник и кинорежиссер, сюрреалист.
[Закрыть], Андре Жиду[336]336
Жид Андре (1869-1951) – французский писатель левого толка, гомосексуалист.
[Закрыть], Русскому балету, Эйзенштейну – прекрасному пантеону авангарда старых добрых деньков. Он не мог отказаться от этого восхитительного идеологического капитала, как не мог отказаться от долгов, унаследованных им от отца.
В битком набитой галерее Кутца Хаггинс беседовал с какими-то людьми. У него прекрасно получалось разговаривать на самых шумных вечеринках. Несмолкающий гул и выпивка только подбадривали его. Возможно, в голове его не было ясности, но варила она здорово. Голова была удлиненной и крупной, увенчанной тщательно причесанными седыми волосами; неровные кончики длинных прядей сзади напоминали колючки. Его изрядный живот обтягивала рубашка в широкую кроваво-красную и ярко-пурпурную полоску, словно сшитая из лент, какими в Англии украшают Майское дерево[337]337
Майское дерево – столб, украшаемый цветами и разноцветными лентами, вокруг которого водят хороводы на английском народном празднике в первое воскресенье мая.
[Закрыть]. Мне вспомнилось, как лет двадцать назад я оказался на вечеринке в Монтоке на Лонг-Айленде, где голый Хаггинс, усевшись верхом на один конец бревна, обсуждал ход слушаний по обвинениям Маккарти[338]338
Маккарти Джозеф Реймонд (1908-1957) – сенатор, председатель подкомиссии по расследованию антиамериканской деятельности, организатор антикоммунистической истерии конца 40-х – начала 50-х годов, получившей название «маккартизм». Психически неуравновешенный, затеял обвинение в симпатиях к коммунизму против руководства министерства обороны. Сенат вынес ему порицание за оскорбление законодательного органа и растрату казенных средств, после чего Маккарти спился и вскоре умер.
[Закрыть] в адрес армейского руководства с сидящей напротив в такой же позе голой дамой. Хаггинс вел разговор, сжимая зубами мундштук, а его гениталии, примостившиеся на гладкой, как вода, поверхности дерева, отражали все перипетии разговора. Хаггинс пускал клубы дыма и заикался, излагая свои взгляды, а его пенис то вытягивался, то сокращался, как кулиса тромбона. Невозможно испытывать враждебные чувства к человеку, о котором у вас сохранились такие воспоминания.
Мое присутствие в галерее нервировало его. Он ощущал неопределенность моего нынешнего состояния. Я, конечно, не мог им гордиться. Кроме того, я повел себя гораздо дружелюбнее, чем ему хотелось. Если уж у Хаггинса не было в голове полной ясности, то у меня и подавно. Меня переполняли какие-то расплывчатые идеи и невнятные мысли, и я не мог сформулировать ничего путного. По сути, я пытался систематизировать суждения, возникшие в дни суеты. Я сказал Хаггинсу, что рад его видеть и что он хорошо выглядит. И не солгал. У него по-прежнему сохранился здоровый цвет лица, и, несмотря на оплывший нос, морщины и опухшие, словно от укуса пчелы, губы, мне все еще нравился его вид. Только от козлиной бородки, делавшей его похожим на деревенского полисмена, лучше было бы избавиться.
– А, Ситрин, тебя выпустили из Чикаго? Куда направляешься?
– За границу, – ответил я.
– С прелестной молодой девицей. Ужасно п-п-ривлекательной. – Заикание помогало, а не мешало Хаггинсу говорить очень быстро. Голыши в русле горной речки только подчеркивают скорость потока. – Ты хочешь получить свое на-на…
– Да, но сперва ответь мне, куда подевалось твоя сердечность. Мы ведь знаем друг друга больше тридцати лет.
– Ну, учитывая твои политические взгляды…
– Обычно политические взгляды очень напоминают старые газеты, пережевываемые осами, – избитые клише и бессмысленное жужжание.
– Есть люди, которых волнует, куда катится человечество, – сказал Хаггинс. – И потом, не можешь же ты ждать, что я встречу тебя сер-сер-сер, после того, как ты отпускаешь такие шпильки в мой адрес. Ты назвал меня Томми Мэнвиллом[339]339
Мэнвилл Томми (1894-1967) – повеса-миллионер, женился 13 раз, в последний раз в 66 лет на юной буфетчице. Известен афоризмом: «Платить алименты – все равно, что покупать овес для сдохшей лошади».
[Закрыть] левых и сказал, что я п-поддерживаю идеи с тем же р-рвением, что он женится на шлюхах. А пару лет на-назад ты оскорбил меня на Мэдисон-авеню, прицепившись к моим протестным значкам. Ты сказал, что раньше у меня были идеи, а те-теперь остались только зна-зна-значки. – Обиженный и раздраженный, он обратил против меня мое собственное нахальство и ждал, что я скажу в свое оправдание.
– Как ни грустно, но я вынужден признать, что ты процитировал меня достаточно точно. Признаю грех. В захолустье, вдали от событий, разворачивающихся на востоке страны, мне в голову лезут разные нечестивые мысли. В сороковых Гумбольдту удалось пообтесать меня, но я так и не вписался в вашу тусовку. Когда все обсуждали Бернхэма[340]340
Бернхэм Джеймс (1905-1987) – американский социолог, начинал как троцкист, в 40-х годах создал теорию революции управляющих.
[Закрыть] или Кестлера, меня занимало что-нибудь иное. То же происходило с «Энциклопедией единого знания»[341]341
«Энциклопедия единого знания» – проект, подобный французской Энциклопедии XVIII века, вынашивавшийся в 30-х годах австрийским социологом, марксистом-позитивистом Отто Нейратом (1882-1945), основавшим движение «Единство науки».
[Закрыть], с законом совместного развития Троцкого, со взглядами Кьяромонте на Платона, или Лайонела Абеля на театр, или Пола Гудмена на Прудона[342]342
Прудон Пьер Жозеф (1809-1865) – французский социолог, теоретик анархизма.
[Закрыть], или с почти со всеобщими взглядами на Кафку и Кьеркегора. Что-то похожее говаривал Гумбольдт, жалуясь на всевозможных девиц. Он хотел помочь им, а они постоянно сматывались. Я тоже. Вместо того, чтобы испытывать благодарность за возможность сделаться частью культурной жизни Виллиджа в ее лучшем…
– Ты себя изолировал, – сказал Хаггинс. – Только вот от че-чего? Ты держался как светило, но где же с-с-свет?
– Изолировал – очень точное слово, – согласился я. – У других было хоть какое-то, пусть плохонькое, содержимое, а я сохранял великолепную бессодержательность. Мой грех в том, что я тайно считал себя умнее всех вас, восторженных почитателей 1789-го, 1848-го, 1870-го, 1917-го. Но вы коротали время на тех вечеринках и всенощных диспутах гораздо лучше и веселее, чем я. Мне оставалось только субъективное и сомнительное удовольствие от мысли, что я такой умный.
– Ты и до сих пор так считаешь? – спросил Хаггинс.
– Нет, перестал в это верить.
– Что ж, ты не вписываешься в Чикаго, где все думают, что земля плоская, а луна сделана из молодого сыра. Ты вернулся к истокам, более соответствующим твоему ментальному уровню, – сказал он.
– Считай как хочешь. Но я приехал к тебе не за этим. Между нами все еще сохранилась связь. Мы оба обожали Гумбольдта. Видно, в нас есть что-то общее, оба мы любвеобильные стариканы. Мы не принимаем друг друга всерьез. Но женщины, кажется, все еще принимают. Так что там с наследством?
– Что бы там ни было, оно в конверте с пометкой «Ситрин», только я не знаю, что там, потому что старый Во-вольдемар, дядя Гумбольдта, заграбастал его. Не знаю даже, как мне удалось стать ду-душеприказчиком.
– Помнится, тебе тоже досталось от Гумбольдта, после того, как ты ввязался в это дело с «Бельвю» и он заявил, что я украл его деньги. Может, ты и перед «Беласко» был, когда он меня пикетировал.
– Нет, не был. Но в том пикете была к-ка-кая-то прелесть.
Смеясь, Хаггинс попыхивал сигаретой, вставленной в мундштук. Не помню, кто сделал эти мундштуки популярными в тридцатых, то ли старая русская актриса Успенская[343]343
Успенская Мария (1876-1949) – американская киноактриса, родом из Тулы.
[Закрыть], то ли Франклин Рузвельт, то ли Джон Хелд[344]344
Хелд (младший) Джон (1889-1958) – художник почтовых марок, иллюстратор и писатель.
[Закрыть] Младший. Как Гумбольдт, да и я, кстати, Хаггинс любил старое кино. И пикет Гумбольдта, и свое собственное поведение у Белого дома он, должно быть, воспринимал как фрагменты из картин Рене Клера[345]345
Клер Рене (Шометт) (1898-1981) – французский кинорежиссер и сценарист романтической направленности.
[Закрыть].
– Я никогда не думал, что ты украл его деньги, – сказал Хаггинс. – Насколько мне известно, это он нагрел тебя на пару тысяч. Он что, подделал чек?
– Нет. Как-то, расчувствовавшись, мы обменялись незаполненными чеками. Он своим воспользовался, – ответил я. – Только выудил он не пару, а почти семь тысяч.
– Я вел его финансовые дела. Уговорил Кэтлин отказаться от всяких п-п-прав. А он сказал, что я беру комиссионные. Обидно до чертиков. Короче говоря, больше беднягу Гумбольдта я не видел. Он обвинил какую-то пожилую женщину, работающую в отеле на комму-комму-коммутаторе, в том, что та разложила на его кровати развороты с голыми де-де-девочками из «Плейбоя». Он схватил молоток и попытался ударить старушку. Его увезли. Снова шо-шоковая терапия! От одного этого можно зарыдать, как подумаешь, какой жи-живой, оригинальный, милый и удивительный он был человек, а какие шедевры! Да, у этого общества много чего на-на-на совести.
– Да, он был прекрасен и благороден. Я любил его. Хороший он был человек. – Странные слова для шумной вечеринки. – Он всем сердцем хотел приобщить нас к изяществу и изысканности. А к себе предъявлял невероятно высокие требования. Так ты говоришь, его бумаги заграбастал тот самый дядя-игрок?
– И одежду, и ценности.
– Смерть племянника, должно быть, сильно потрясла его, а может, даже напугала.
– Он тут же примчался из Ко-кони-Айленда. Гумбольдт устроил его в дом престарелых. Этот старый букмекер, наверное, п-п-понимал, что бу-бу-бумаги человека, который удостоился такого длинного некролога в «Таймс», чего-нибудь стоят.
– Гумбольдт оставил ему какие-нибудь деньги?
– Страховой полис. Если он не спустил все на лошадей, то живет неплохо.
– Под конец Гумбольдт пришел в себя, если я не ошибаюсь.
– Он написал мне прекрасное п-п-письмо. Переписал несколько стихотворений на хорошую бумагу. Одно – о своем папаше-венгре, скачущем с кавалерией генерала Першинга схватить Панчо.
– Оскалившиеся кони, щелканье кастаньет, колючки кактусов и выстрелы ружей…
– Ты процитировал не совсем верно, – заметил Хаггинс.
– Это ты передал Кэтлин наследство Гумбольдта?
– Да, я. Она как раз сейчас в Нью-Йорке.
– Правда? И где она? Я был бы рад повидаться с нею.
– Заехала сюда по пути в Европу. Не знаю, где она ос-oс-остановилась.
– Надо будет выяснить. Но сперва нужно навестить дядю Вольдемара в Кони-Айленде.
– Он тебе ничего не отдаст, – сказал Хаггинс. – Он вздорный старик. Я писал ему и звонил. Без толку.
– Пожалуй, в такой ситуации звонка недостаточно. Он добивается, чтобы приехали лично. Он же не виноват, что его никто не навещает. Кажется, после смерти матери Гумбольдта у него больше не осталось сестер? Вот он и хочет, чтобы кто-нибудь приехал к нему на Кони-Айленд. И использует бумаги Гумбольдта как наживку. Может быть, он отдаст их мне.
– Уверен, ты сумеешь его у-у-у… Сумеешь его убедить, – сказал Хаггинс.







