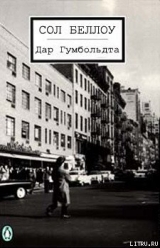
Текст книги "Дар Гумбольдта"
Автор книги: Сол Беллоу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 41 страниц)
Конечно, и самого Кафку распирало от тех же безысходных и изощренных насмешек над Сознающей Душой. Бедняга! – то, что он рассказывал о себе, не делает ему чести. Гениальный человек застрял в ловушке страхового дела? Какой банальный недуг, ничем не лучше насморка. Гумбольдт бы согласился со мной. Мы частенько говорили о Кафке, и мне известно, что Гумбольдт о нем думал. Но сейчас все они – и Кафка, и Штейнер, и Гумбольдт – пребывали в стране смерти, и вся компания, собравшаяся сейчас в кабинете Стронсона, со временем присоединится к ним. Вероятно, сохранив за собой возможность несколько столетий спустя вновь явиться в мире, блистающем ярче прежнего. Впрочем, будущему миру не потребуется слишком сильного блеска, чтобы оказаться ярче мира нынешнего. Как бы там ни было, то, как Кафка описывал Штейнера, меня огорчило.
Пока я предавался этим размышлениям, Такстер перешел к действию. Поначалу нагло, но это ни к чему не привело. Поэтому он решил выяснить недоразумение как можно любезнее, стараясь говорить не очень покровительственно.
– И все же, я полагаю, вы не станете использовать этот ордер и арестовывать мистера Ситрина, – сказал он, мрачно улыбаясь.
– А почему бы и нет? – поинтересовался коп, засовывая массивный никелированный «магнум» Кантабиле себе за пояс.
– Вы же сами признали, что господин Ситрин не похож на наемного убийцу.
– Он изнурен и бледен. Ему бы смотаться на недельку в Акапулько.
– Все это надувательство просто нелепо, – заявил Такстер. Он демонстрировал мне всю прелесть своего таланта общения с самыми разными людьми и то, как хорошо он понимает своих соотечественников-американцев и умеет с ними ладить. Но я ясно видел, каким чуждым существом представляется полицейскому Такстер со всей своей элегантностью и манерами в духе Питера Уимзи[314]314
Уимзи Питер – английский лорд, персонаж серии детективных романов писательницы Дороти Сейерс (1883-1957).
[Закрыть]. – Господин Ситрин – всемирно известный историк. Его даже наградило французское правительство.
– И вы можете это доказать? – поинтересовался полицейский. – У вас случайно нет с собой ордена?
– Люди не носят с собой ордена, – ответил я.
– Ну тогда какие у вас доказательства?
– У меня есть орденская лента. Я имею право носить ее в петлице.
– Дайте взглянуть, – попросил полицейский.
Я вытащил спутанный и ничем не примечательный отрезок выцветшей шелковой светло-зеленой ленточки.
– Это? – спросил полицейский. – Я бы ее даже цыпленку на лапку не привязал!
Я был полностью солидарен с ним и как житель Чикаго в глубине души тоже потешался над этими дурацкими иностранными знаками почета. Я – шизалье, смеющийся над собой до посинения. И над французами тоже. Эта штука сослужила службу и французам. Нынешнее столетие оказалось для них не самым лучшим. Они все делали плохо. А что они имели в виду, вывешивая на груди эти ничтожные обрывки лент странного зеленого цвета? В Париже Рената настояла, чтобы я носил ленточку в петлице, и мы подверглись насмешкам настоящего шевалье , с которым обедали. Его лацкан украшала красная розетка, и себя он именовал «сильный ученый». Он презрительно прошелся по моей жизни. «Язык Америки ужасно скуден, просто ничтожен – заявил он. – Во французском языке для обозначения ботинка существует двадцать слов». Затем он презрительно отозвался о поведенческих науках – видимо, принял меня за ученого из этой области – и очень невежливо о моей зеленой ленточке. Он сказал: «Уверен, что вы написали достойные внимания книги, но такая награда дается людям, которые усовершенствовали poubelles 1». Так что эта французская награда не принесла мне ничего, кроме огорчений. Но через это нужно было пройти. Единственно подлинная награда, которую можно заслужить в этот опасный период человеческой истории и космического развития, не имеет никакого отношения к орденам и лентам. Не впасть в спячку – вот единственная награда. А все остальное – просто шелуха.
Кантабиле все еще стоял лицом к стене. Я с радостью заметил, что у полицейского на него зуб. «Эй, ты там, не шевелись», – рявкнул он. У меня появилось ощущение, будто этот кабинет накрыла какая-то гигантская прозрачная волна. Будто эта громадина неподвижно нависает над нами, сверкая, как кристалл. А мы у нее внутри. Когда она обрушится и разобьется, всех нас разметает по какому-нибудь уединенному белому берегу. Я почти желал, чтобы Кантабиле при этом сломал себе шею. Но нет, я увидел, как нас целыми и невредимыми поодиночке выбрасывает на пустынный жемчужно-белый берег.
Пока стороны продолжали препираться – Стронсон, уязвленный нарисованной Кантабиле картиной, как его тело выуживают из сточной канавы, выкрикивал каким-то поросячьим сопрано: «Нет, это ты свое получишь!», а сквозь его вопли прорывался низкий голос Такстера, претендовавшего на убедительность, – я отключился от них и обратился к одной из своих теорий. Одни люди благодарны за то, что им даровано. Другие же не видят в этих дарах никакой пользы, а думают только о том, как преодолеть свои слабости. Только собственные недостатки способны волновать и подстегнуть их. Так те, кто ненавидит людей, тянется к ним. Мизантропы частенько занимаются психиатрией. Стеснительные люди становятся актерами. Прирожденные воры ищут материально ответственных должностей. Пугливые решаются на отважные шаги. Возьмем случай Стронсона, придумавшего отчаянный план надувательства гангстеров. Или, допустим, я, любитель красоты, настоявший на переезде в Чикаго. Или Фон Гумбольдт Флейшер, человек с явно выраженными наклонностями светского льва, похоронивший себя в унылой сельской глуши.
Стронсону не хватало сил доводить дело до конца. Глядя, как он себя искорежил – элегантная одежда на бесформенной фигуре, коротенькие ножки в туфлях на платформе, искусственная значительность визгливого голоска, – я испытал к нему жалость, да-да! искреннюю жалость. Но мне показалось, что его истинная натура вернет свое. Интересно, он просто забыл побриться сегодня утром или это ужас подстегнул безудержный рост бороды? Мерзкая длинная щетина торчала из-под воротника рубашки. Из-за этого он стал похожим на сурка. Локоны слиплись от пота.
– Я хочу, чтобы на всех троих надели наручники, – сказал он переодетому полицейскому.
– Это одну-то пару?
– Хорошо, тогда на Кантабиле. Давайте, надевайте.
В душе я целиком и полностью соглашался со Стронсоном. Да! скрутить руки этому сукину сыну, надеть на него наручники, и пусть они вонзаются ему в тело. Впрочем, хоть я и твердил эти жестокие слова про себя, мне совершенно не хотелось смотреть, как они исполнятся.
Такстер отвел копа в сторонку и что-то прошептал ему на ушко. Позднее мне пришло в голову, что он мог воспользоваться секретным паролем ЦРУ. С Такстером никогда ни в чем нельзя быть уверенным. И по сей день не возьмусь с точностью утверждать, был он когда-нибудь тайным агентом или нет. Несколько лет назад он пригласил меня в гости на Юкатан. Чтобы добраться туда, я трижды пересаживался с одного самолета на другой, и вот наконец на грунтовой взлетно-посадочной полосе меня встретил слуга в сандалиях, усадил в «кадиллак» и отвез на виллу Такстера, где прислуга сплошь состояла из индейцев. Вокруг стояли легковые автомобили и джипы, в доме находилась очередная жена с маленькими детьми, а Такстер, уже овладевший местным диалектом, раздавал приказания. Этот гениальный лингвист очень быстро усваивал новые языки. Но он уже успел нажить проблемы с банком в Мериде и, кроме всего прочего, задолжал кое-что загородному клубу по соседству. Я приехал как раз тогда, когда он завершал очередной неизменный жизненный цикл. На второй день Такстер заявил, что мы уезжаем из этого проклятого места. Мы упаковали шубы, теннисное снаряжение, сокровища из храмов и электроприборы в большие квадратные чемоданы. В пути я держал на коленях одного из его детей…
Полицейский вывел нас из кабинета Стронсона. Тот кричал нам вслед:
– Вы получите свое, ублюдки. Обещаю. Что бы со мной ни случилось. Особенно ты, Кантабиле.
Завтра он и сам получит свое.
В ожидании лифта нам с Такстером удалось посовещаться.
– Нет, на меня дело заводить не будут, – сообщил Такстер. – Я почти жалею об этом. Мне хотелось бы посмотреть, что будет дальше, правда.
– Надеюсь, ты начнешь действовать, – сказал я. – Я как чувствовал, что Кантабиле выкинет что-нибудь в этом роде. А хуже всего, что Рената сильно расстроится. Не сбегай, не бросай меня в такой момент, Такстер.
– Что за ерунда, Чарльз! Я сейчас же напущу адвокатов. Давай фамилии и телефоны.
– Первым делом надо позвонить Ренате. Вот телефон Сатмара. И еще Томчека и Сроула.
Такстер записал все на квитанции «Американ экспресс». Неужели у него еще действует кредитная карточка?
– Ты потеряешь этот клочок бумажки, – сказал я.
В ответ Такстер довольно серьезно заявил:
– Берегись, Чарли. Ты ведешь себя как нервный гомик. Конечно, для тебя настал час испытаний. Так что тебе надо быть поосмотрительнее. A plus forte raison1.
Когда на Такстера находило серьезное настроение, он начинал говорить по-французски. И если Джордж Свибел вечно требовал, чтобы я не мучил свое тело, Такстер то и дело намекал на мою высокую тревожность. У него-то нервная система обладала достаточной прочностью для избранного им образа жизни. В этом Такстер, несмотря на любовь к французским выражениям, был настоящим американцем; как и Уолт Уитмен, он предлагал себя в качестве архетипа: «Что я предпринял, то и вам сгодится». В данный момент это не особенно помогало. Меня арестовали. И Такстер вызывал у меня чувство, схожее с тем, что испытывает человек, пытающийся найти ключ от двери при том, что руки его заняты бесчисленными свертками, а под ногами путается любимый кот. По правде говоря, люди, от которых я ожидал помощи, ни в коей мере не входили в число моих любимцев. От Такстера же ожидать чего-нибудь путного не приходилось. Я даже подозревал, что его попытки помочь могут оказаться весьма опасными. Если бы я кричал: «Тону, помогите», он бросился бы мне на помощь со спасательным кругом из чистого цемента. И уж если на кривую ножку нужен кривой сапожок, то у людей особенных, если не сказать странных, потребности тоже оказываются особенными, и рождают они довольно странные привязанности. Например, человек, позарез нуждающийся в помощи, обожает тех, кто в принципе не способен помочь.
Бело-синюю полицейскую машину, которая поджидала нас, вызвала, как мне показалось, секретарша. Очень красивая молодая женщина. Выходя из кабинета, я взглянул на нее и подумал: «Какая чуткая малышка! И прекрасно воспитана. Милая. Огорчилась, что кого-то арестовали. Даже слезы на глазах».
– Ты – на переднее сиденье, – приказал переодетый полицейский бледному как смерть Кантабиле; тот в сдвинутой набекрень шляпе Такстера, из-под которой торчали на висках волосы, забрался внутрь. Растрепанный, он наконец-то стал похожим на настоящего итальянца.
– Главное – это Рената. Свяжись с ней, – попросил я Такстера, садясь сзади. – Если ты этого не сделаешь, у меня будут неприятности – слышишь? – крупные неприятности!
– Не волнуйся. Человечество не даст тебе навеки исчезнуть с глаз долой, – отозвался Такстер.
Это утешение вызвало у меня прилив глубокой тревоги.
Такстер действительно попытался связаться с Ренатой и Сатмаром. Но Рената вместе со своей клиенткой все еще выбирала ткани в «Мерчендайз-Март»[315]315
Мерчендайз-Март – оптовый рынок в Чикаго.
[Закрыть], а Сатмар уже закрыл контору. Про Томчека и Сроула Такстер позабыл начисто. Поэтому, чтобы убить время, он отправился на Рандольф-стрит и посмотрел боевик с кунг-фу. Когда кино закончилось, он дозвонился до Ренаты. И сказал ей, что раз она так хорошо знает Сатмара, он считает возможным полностью на нее положиться. В конце концов, он же даже не местный. В тот день «Бостон Селтикс» играли с «Чикаго Буллс», и Такстер купил билет на баскетбол у какого-то спекулянта. По дороге на стадион он остановил такси у Циммермана и купил бутылку портера. Охладить пиво как следует ему не удалось, но под сэндвич с осетриной оно пошло хорошо.
Темный силуэт Кантабиле маячил передо мной на переднем сиденье полицейской машины. И я мысленно обратился к нему. Может быть, все дело в том, что такие, как Кантабиле, злоупотребляют моей несовершенной теорией зла? Он азартно бросался в любую брешь в ней, изо всех сил фиглярничая и отчаянно блефуя. Только вот была ли у меня как у американца теория зла? Наверное, нет. Вот он и врывался на мое поле с той бесформенной, необозначенной стороны, перед которой я пасовал, – врывался со своими бесшабашными понятиями. Его бесцеремонность, похоже, очаровывала дам – он нравился Полли и, очевидно, своей жене-аспирантке тоже. У меня мелькнула догадка, что в постели он слабоват. Но, в конце концов, для женщины важнее всего ее представления. И он прокладывал себе дорогу изящными перчатками для верховой езды, ботинками из телячьей кожи, ярким блеском твидового костюма и «магнумом», который таскал за поясом, угрожая всем и каждому смертью. Угрозы – вот что он любил. Он звонил мне среди ночи, пытаясь запугать. Вчера на Дивижн-стрит угрозы спровоцировали его кишечник. А сегодня утром он отправился с угрозами к Стронсону. Днем он предлагал, точнее, угрожал прикончить Дениз. Да, странное существо, не говоря уже о неестественно белом лице, о длинном, как поминальная свечка, восковом носе с огромными темными, как дымоход, ноздрями. Он все время елозил на переднем сиденье. Словно хотел повернуться ко мне. Создавалось впечатление, будто шея у него настолько гибкая, что он сумеет повернуть голову и почистить перышки на затылке. И зачем ему понадобилось представлять меня убийцей? Неужто он уловил во мне какой-то намек? Или пытался по-своему втащить, втолкнуть меня в мир, в тот самый мир, от которого мне, казалось, удалось отстраниться? Руководствуясь чикагскими мерками, я отмахивался от Кантабиле как от кандидата в психушку. Безусловно, по нему плакал дурдом. Моей искушенности вполне хватало, чтобы обнаружить оттенок гомосексуальности, хотя и не слишком серьезный, в его предложении втроем проводить время с Полли. Я надеялся, что его снова отправят в тюрьму. Но с другой стороны, признавал, что для меня Кантабиле кое-что сделал. Он материализовался у меня на пути в своем поблескивающем твидовом костюме, суровый ворс которого напоминал о крапиве. Этот бледный как смерть псих с норковыми усами, казалось, нес какую-то божественную службу. Он явился, чтобы сдвинуть меня с мертвой точки. Меня, урожденного чикагца, ни один нормальный, здравомыслящий человек не подвигнул бы на это. Я и сам не мог находиться среди нормальных, здравомыслящих людей. Взять хоть отношения с Ричардом Дурнвальдом. Сколь бы сильно я им ни восхищался, в интеллектуальном отношении рядом с Дурнвальдом я чувствовал себя неуютно. Чуть легче было мне с антропософом доктором Шельдтом, но и с ним я испытывал неловкость, неловкость чисто чикагскую. Когда он говорил со мной об эзотерических тайнах, мне хотелось сказать: «Дружище, не забивай мне голову этой спиритической ерундой!». А ведь для меня отношения с доктором Шельдтом чрезвычайно важны. Ни с кем другим я не обсуждал более серьезных вопросов.
Все это пришло мне в голову, точнее хлынуло волной, и я вспомнил Принстон и Гумбольдта, цитирующего мне «Es schwindelt! ». Слова В. И. Ленина в Смольном. Происходящее действительно швинделяло. Может, потому, что я, как когда-то Ленин, собирался основать полицейское государство? На меня обрушился потоп, залило наводнением чувств, озарений, идей.
Конечно, полицейский прав. Строго говоря, никакой я не убийца. Но все-таки я вбирал в себя других и поглощал их. А когда они умирали – страстно их оплакивал. Говорил, что продолжу дело их жизни. Но разве в действительности я не добавлял их силу к своей? Разве не в дни их мощи и славы я начинал точить на них зубки? На них и на их женщин? Я уже начинал представлять, какой тяжкий искупительный труд предстоит моей душе, когда она перенесется в другое место.
«Берегись, Чарли», – предостерег меня Такстер. На нем была все та же накидка, и в руках он держал идеальный атташе-кейс, зонтик с натуральным загибом на ручке и сэндвичи с осетриной. Я берегся. A plus forte raison , берегся. И, пытаясь сберечь себя, сознавал: мое присутствие в полицейской машине означает, что я иду по стопам Гумбольдта. Двадцать лет назад, оказавшись в лапах закона, он сцепился с копами. Они надели на него смирительную рубашку. У него случился понос, когда полицейская машина уносила его в «Бельвю». Они пытались совладать с ним, справиться с поэтом. Но что нью-йоркская полиция знает о поэтах! Их клиентура – это пьяницы и грабители, насильники, роженицы и наркоманы, но поэт для них – нечто непознаваемое. Гумбольдт позвонил мне из больничного телефона-автомата. И я отвечал ему из жаркой грязной облезлой гримерной в «Беласко». Он кричал в трубку:
– Это уже не литература, Чарли, это жизнь!
Не то чтобы я думал, мол, Архангелы с Ангелами, а также Власти, Престолы и Господства и Начала интересовались поэзией. К чему им это? Они преобразуют Вселенную. Они заняты. Но когда Гумбольдт выкрикивал «Жизнь!», он и в мыслях не имел Ангелов, Престолы или Силы. Он говорил лишь о реальной, натуралистической жизни. Будто искусство прятало истину, и только страдания безумных открывали ее. В этом ли проявилось истощенное воображение?
Мы прибыли на место, и нас с Кантабиле разделили. Его задержали возле конторки в вестибюле, а меня провели внутрь.
Предвкушая, что мне предстоит в чистилище, я не видел ни малейшей необходимости воспринимать тюрьму слишком серьезно. В конце концов, что она такое? Постоянная суета и куча людей, специальность которых – показывать, что почем. Меня сфотографировали анфас и в профиль. Пусть. Потом взяли отпечатки пальцев. Очень хорошо. Я ожидал, что дальше меня отправят в каталажку. Толстый, какой-то домашний полицейский поджидал меня, чтобы отвести в камеру. Копы, что сиднем сидят в конторе, жиреют. А этот всем своим видом напоминал домохозяйку: шерстяная кофта и тапочки, брюхо и пистолет, большие надутые губы и складки жира на затылке. Он уже завел меня внутрь, когда кто-то объявил: «Эй, ты, Чарльз Ситрин! На выход!». Я вернулся в главный коридор. Мне стало интересно, как это Сатмару удалось добраться сюда так быстро. Но меня ждал не Сатмар, а молодая секретарша Стронсона. Эта прелестная девушка объявила мне, что ее начальник решил прекратить дело против меня. Он обвиняет одного Кантабиле.
– И Стронсон прислал вас сюда?
Она объяснила:
– Ну, я и сама хотела приехать. Я вас знаю. Как только услышала ваше имя, сразу поняла, кто вы. И объяснила своему боссу. В последние дни он как в шоке. Не нужно во всем винить господина Стронсона, ведь его угрожали убить. Но в конце концов мне удалось убедить его, что вы известный человек, а не наемный убийца.
– О, я понял. Вы очень добры и столь же красивы. Не могу выразить, насколько я вам признателен. Уговорить его было непросто.
– Он действительно напуган. А теперь еще и подавлен. Почему у вас такие грязные руки? – вдруг спросила она.
– Это краска. У меня брали отпечатки пальцев.
Она огорчилась:
– Господи! Подумать только, брать отпечатки пальцев у такого человека, как вы! – Девушка открыла свою сумочку, достала бумажные салфетки, намочила их и начала оттирать перепачканные подушечки.
– Спасибо, не надо. Не нужно, прошу вас! – воскликнул я. Такие знаки внимания всегда меня трогали, тем более что с тех пор, как кто-нибудь проявлял ко мне подобную доброту, идущую из глубины сердца, прошло невесть сколько времени. Случается, что идешь в парикмахерскую не стричься (ибо стричь уже нечего), а только ради человеческого прикосновения.
– Почему нет? – удивилась девушка. – У меня такое чувство, будто мы знакомы всю жизнь.
– Благодаря моим книгам?
– Нет, дело не в книгах. Боюсь, ни одной вашей книги я не читала. Насколько я понимаю, это исторические книги, а историей я никогда особенно не интересовалась. Нет, господин Ситрин, тут дело в моей матери.
– Я знаю вашу мать?
– С детства я слышала, что вы были влюблены, когда учились в школе.
– Ваша мать Наоми Лутц!
– Да. Вы даже представить себе не можете, как они с Доком обрадовались, когда случайно столкнулись с вами в баре.
– Точно, Док действительно был с ней.
– Когда Док умер, мама собиралась позвонить вам. Она говорит, что теперь вы единственный человек, с которым она может поговорить о прошлом. Иногда она хочет что-нибудь вспомнить, но не может. На днях она не смогла вспомнить город, где жил ее дядя Ашер.
– Ее дядя Ашер жил в Падьюке, штат Кентукки. Я обязательно позвоню ей. Я любил вашу мать, мисс…
– Мэгги, – подсказала она.
– Мэгги. Вы унаследовали ее фигуру. Я никогда не видел такой совершенной фигурки, да еще где – в тюрьме. У вас тот же овал лица и зубы, чуть коротковатые, и та же улыбка. Ваша мать была красавицей. Я взволнован, так что простите мне эти слова, но, если бы я смог все эти сорок лет обнимать вашу мать каждую ночь, в качестве ее мужа, конечно, тогда мою жизнь можно было бы считать полностью состоявшейся, успешной, а вместо этого вышло сами видите что. Сколько вам лет, Мэгги?
– Двадцать пять.
– О господи! – воскликнул я, а она стала смачивать мои пальцы ледяной водой из крана. Мои руки очень чувствительны к женским прикосновениям. От поцелуя в ладонь я могу потерять голову.
Она отвезла меня домой на своем «фольксвагене», немного поплакав по дороге. Возможно, думала о том счастье, которое мы с ее матерью упустили. А я пытался понять, когда же наконец я смогу подняться выше всего этого, всех этих второстепенных, полупризрачных, опустошительных и случайных людей, и буду готов перейти в высшие миры?







