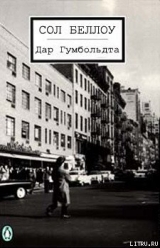
Текст книги "Дар Гумбольдта"
Автор книги: Сол Беллоу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 41 страниц)
* * *
Рената была ужасно недовольна, когда я сказал, что ей придется поехать со мной на Кони-Айленд.
– Что, в дом престарелых? На метро? Не втягивай меня в это. Езжай сам.
– Ты должна поехать. Ты мне нужна, Рената.
– Ты срываешь все мои планы. Мне нужно сделать кое-что по работе. Это же бизнес. И потом, дома престарелых меня угнетают. Последнее посещение такого заведения довело меня до истерики. По крайней мере, избавь меня от метро.
– Другой транспорт туда не ходит. Развлечем старого Вольдемара. Он никогда не видел такой женщины, как ты, а он был азартным парнем.
– Прибереги свою лесть для другого случая. Что ж ты молчал, когда телефонистка назвала меня миссис Ситрин? Словно язык проглотил.
Даже когда мы уже шли по набережной, Рената все еще злилась и сердито вышагивала впереди меня. В метро было ужасно: грязь и совершенно безумные граффити, сделанные цветными струями из аэрозольных баллончиков. Шагая, Рената подбирала полы дубленки, и полосы овечьего меха испуганно вздрагивали. Голландская шляпа с высокой тульей сидела на затылке. Анри, старый парижский дружок Сеньоры, который явно не мог быть отцом Ренаты, восхищался ее лбом. «Un beau front! – повторял он снова и снова. – Ah, ce beau front!» Прекрасное чело. Только вот что внутри? Сейчас я смотрел ей в затылок. Она шагала впереди, обиженная и сердитая. Ей хотелось наказать меня. Но на Ренату я никак не мог злиться. Ее присутствие доставляло мне удовольствие, даже когда она сердилась. Люди оглядывались ей вслед, когда она проходила мимо. Шагая позади нее, я восхищался движениями ее бедер. Мне не к чему было доискиваться, что скрывается под этим beau front ; ее мечты, вероятно, шокировали бы меня, но аромат Ренаты сам по себе наполнял ночи неслыханным успокоением. Наслаждение от того, что спишь с нею, несравнимо выше тривиального удовольствия разделять ложе с женщиной. Даже лежать без сознания рядом с Ренатой – уже выдающееся событие. Даже бессонницу, болезнь, мучившую Гумбольдта, Рената сделала бы приемлемой. Ночью от ее груди моим рукам передавались возбуждающие токи. И я начинал представлять, как эти токи текут по моим пальцам, словно некое невидимое электричество, а затем поднимаются вверх до самых корней зубов.
Белое декабрьское небо висело над мрачной Атлантикой. Природа, казалось, напоминала нам, что жизнь груба и жестока и что люди обязаны утешать друг друга. По мнению Ренаты, именно этой своей обязанности я и не выполнял, потому что, когда телефонистка «Плазы» назвала ее миссис Ситрин, Рената положила трубку, повернула ко мне сияющее лицо и воскликнула: «Меня назвали миссис Ситрин!», я не нашелся, что ответить. Люди действительно гораздо наивнее и простодушней, чем мы привыкли думать. Как мало нужно, чтобы они просияли. Я и сам такой. Зачем скрывать от них свою сердечность, когда видишь, как они сияют. Чтобы еще больше обрадовать Ренату, я мог сказать: «Ну конечно, детка. Ты была бы замечательной миссис Ситрин. Почему бы и нет». Что мне стоило?.. Разве что свободы. Но в конце-то концов, какая мне польза от этой драгоценной свободы? Я полагал, что у меня впереди еще уйма времени, чтобы как-то распорядиться ею. Но что важнее, это море неиспользованной свободы или счастье проводить ночи рядом с Ренатой, счастье, которое даже забытье делает особенным, сладостным небытием? Когда эта проклятая телефонистка назвала ее «миссис», мое молчание сделалось порицанием Ренате, мол, никакая она не миссис, а просто шлюха. И это ее разозлило. В погоне за своим идеалом она становилась чрезвычайно обидчивой. Но у меня тоже были идеалы – свобода, любовь. Я хотел, чтобы меня любили просто так. А не из меркантильных соображений, как в действительности. Это одно из тех американских стремлений и чаяний, которое во мне – уроженце Аплтона, выросшем на улицах Чикаго, – укоренилось слишком прочно. Правда, я несколько страдал от подозрения, что времена, когда я мог рассчитывать на бескорыстную любовь, уже прошли. Боже мой, с какой скоростью жизнь меняется в худшую сторону!
Некоторое время назад я сказал Ренате, что со свадьбой придется подождать, пока не уладится конфликт с Дениз.
– Да брось ты, – отмахнулась Рената, – она перестанет судиться с тобой, только когда тебя отвезут на Вальдхейм и положат рядом с папой и мамой. Она вполне протянет до конца века. А ты?
– Конечно, провести старость в одиночестве ужасно, – сказал я. И отважился добавить: – Ты можешь представить, как толкаешь мою инвалидную коляску?
– Ты не понимаешь настоящих женщин, – сказала Рената. – Дениз хотела вывести тебя из строя. Но из-за меня у нее ничего не вышло. Жалкая лисичка Дорис, которая корчит из себя Мэри Пикфорд, тут ни при чем. Это я сберегла твою сексуальную силу. Я знаю, как это делать. Женись на мне, и ты и в восемьдесят будешь трахать меня. А в девяносто, когда уже не сможешь, я все равно буду любить тебя.
Итак, мы шли по набережной Кони-Айленда. И точно так же, как грохот от моей палки, которой я мальчишкой елозил по заборам, походка Ренаты выводила из равновесия продавцов воздушной кукурузы, сладкой ваты и сосисок. Я шел за ней следом – пожилой мужчина, но в хорошей форме, на лице морщины – следы тревог, но на губах играет улыбка. Я и в самом деле чувствовал себя необычайно хорошо. Даже не знаю, что привело меня в такое прекрасное расположение духа. Не может быть, чтобы оно оказалось результатом только лишь физического здоровья, ночей, проведенных с Ренатой, и хорошего обмена веществ. Или даже временного избавления от проблем, чего, согласно мнению некоторых мрачно настроенных специалистов, совершенно достаточно, чтобы сделать людей счастливыми, и что, возможно, и есть единственный источник счастья. Нет, решительно шагая позади Ренаты, я склонялся к мысли, что нынешним состоянием обязан своему новому отношению к смерти. Я начал рассматривать другие возможности. И одно это помогло мне воспарить. Но еще более радостным оказалось существование места, куда можно воспарять: необжитое, заброшенное пространство. Его не замечают, хотя это самая значительная часть целого. Неудивительно, что люди сходят с ума. Ведь что получается, если допустить, что мы – раз уж мы присутствуем в этом материальном мире – являемся самыми высшими из всех существ? Если допустить, что цикл существования заканчивается нами и после нас ничего уже не будет? При таком допущении, кто обвинит нас в том, что мы бьемся в припадках! Но если перед нами открыт космос – в метафизическом смысле выбор становится несравненно шире.
Рената обернулась ко мне и спросила:
– Ты уверен, что это ископаемое знает о нашем визите?
– Конечно. Нас ждут. Я звонил, – ответил я.
Мы вышли на одну из тех засаженных деревьями улочек, где рабочие швейных мастерских любят проводить летние отпуска, и разыскали нужный дом. Старое кирпичное здание. На открытой деревянной веранде стояли инвалидные коляски и ходунки для тех, кто перенес инсульт.
В прежние дни я мог бы удивиться тому, что произошло дальше. Но теперь, когда мир пересоздается и древние структуры, смерть и все остальное оказались не прочнее японского бумажного фонарика, дела людские виделись мне невероятно яркими, естественными, даже праздничными – я не могу не учитывать праздничности. Самые печальные зрелища могли наполняться ею. Как бы там ни было, нас действительно ждали. Из проема между внутренней и наружной дверьми дома престарелых, опершись на тросточку, за нами наблюдал какой-то человек. Как только мы приблизились, он вышел и крикнул:
– Чарли, Чарли!
– Вы же не Вольдемар Уолд? – обратился я к этому человеку.
– Нет, Вольдемар здесь. Но я не Вольдемар, Чарли. Ну-ка, взгляни на меня. Прислушайся к голосу, – и он что-то запел старческим каркающим тенором. Взяв меня за руку, этот славный старичок пропел «Сердце красавицы» в стиле Карузо. Жалко это выглядело. Я всмотрелся в него, в когда-то курчавые рыжие волосы, в сломанный нос с нервно раздувающимися ноздрями, в двойной подбородок, кадык, в тощую сгорбленную фигуру. И сказал:
– Ну да, вы Менаша! Менаша Клингер! Чикаго, Иллинойс, тысяча девятьсот двадцать седьмой.
– Точно. – Для него это было триумфом. – Это я. Ты узнал меня!
– Елки-палки! Вот это здорово! Клянусь, я не заслужил такого сюрприза.
– Отложи я поиск Гумбольдтова дядюшки на потом, я бы упустил такую удачу, замечательную встречу, почти что чудо. А так я встретил человека, которого любил давным-давно. – Как в сказке, – заключил я.
– Нет, – возразил Менаша. – Для обыкновенного человека – может быть. Но когда ты сделался такой важной персоной, Чарли, это уже далеко не настолько удивительное совпадение, как ты думаешь. У тебя повсюду должны находиться друзья и знакомые, как я, которые когда-то знали тебя, но сейчас слишком стесняются подойти и напомнить о себе. Я бы тоже, наверно, постеснялся, если бы ты сам не приехал повидаться с моим приятелем Вольдемаром, – Менаша повернулся к Ренате. – А это, как я понимаю, миссис Ситрин, – сказал он.
– Да, – подтвердил я, глядя ей в лицо, – это миссис Ситрин.
– Я знал вашего мужа еще ребенком. Я квартировал в его семье, когда переехал из Ипсиланти, это в Мичигане, и работал оператором высадного пресса в «Вестерн электрик». Но на самом деле я приехал учиться петь. Чарли был замечательным мальчиком. Самым добрым ребенком во всем Северном Вест-Сайде. С ним можно было поговорить, когда ему было от силы лет девять-десять, а кроме него друзей у меня не водилось. По субботам я брал его с собой в центр на мои уроки музыки.
– Вашим учителем, – подхватил я, – был Всеволод Колодный, комната восемь-шестнадцать в Центре искусств. Бассо-профундо Императорской оперы Петербурга, лысый, метр с кепкой, в корсете и на кубинских каблуках.
– Он тоже меня узнал, – сказал Менаша бесконечно довольным тоном.
– У вас был драматический тенор, – вспомнил я. И стоило мне это произнести, как Менаша поднялся на носочки и запел, хлопая в ладоши, покрытые мозолями от высадного пресса: «In questa tomba oscura". От рвения его глаза наполнились слезами, а голос, такой дребезжащий, такой душевный, такой резкий, исполненный грусти, мольбы и надежды, звучал совершенно немелодично. Даже в детстве я знал, что Менаша никогда не станет звездой. И все же верил, что он мог бы сделаться певцом, если бы кто-то из боксерской команды Союза христианской молодежи Ипсиланти не заехал ему по носу, чем и лишил Менашу всяких шансов добиться успеха в оперном искусстве. Его пение через этот сбитый на сторону нос никогда бы не звучало так, как надо.
– Расскажи мне, малыш, что еще ты помнишь?
– Я помню Тито Скипа[346]346
Скипа Тито (1888-1965) – итальянский оперный певец (тенор) и композитор.
[Закрыть], Титта[347]347
Титта Руффо (Руффо Титта) (1877-1953) – итальянский оперный певец (баритон).
[Закрыть] Руффо, Верренрата[348]348
Верренрат Рейнальд (1883-1953) – американский оперный певец (баритон).
[Закрыть], Маккормака[349]349
Маккормак Джон (1884-1945) – ирландский певец (тенор), выступал в опере, затем исключительно с концертами.
[Закрыть], Шуман-Хайнк[350]350
Шуман-Хайнк Эрнестина (1861-1936) – американская оперная певица (колоратурное сопрано).
[Закрыть], Амелиту Галли-Курчи[351]351
Галли-Курчи Амелита (1882-1963) – итальянская оперная певица (колоратурное сопрано).
[Закрыть], Верди и Бойто[352]352
Бойто Арриго (Тобиа Горрио) (1842-1918) – итальянский композитор и либреттист, автор опер «Мефистофель», «Нерон» и др.
[Закрыть]. А когда вы слышали, как Карузо поет в «Паяцах», жизнь преображалась, правильно?
– О да!
Давняя привязанность делает такие вещи незабываемыми. Пятьдесят лет назад мы ехали по чикагскому Джексон-бульвару на двухэтажном автобусе с открытым империалом в торговый центр, и Менаша объяснял мне, что такое бельканто; с сияющим лицом рассказывал мне об «Аиде», представляя себя в парчовых одеяниях то жреца, то воина. А когда его урок пения заканчивался, Менаша вел меня к Кранцу на пломбир с орехами, фруктами и шоколадным сиропом. Мы ходили слушать горячий, как масло на сковородке, оркестр Пола Эша[353]353
Эш Пол (1891-1958) – джазовый пианист и скрипач родом из Германии, в 20-х годах руководил большим оркестром, выступавшим в кинотеатрах. В нем играли юные Бенни Гудмен и Гленн Миллер.
[Закрыть], ходили на представление тюленей, исполнявших «Янки Дудл», сжимая груши автомобильных гудков. Мы плавали на пляже Кларендон, где все мочились прямо в воду. Вечерами он обучал меня астрономии. Объяснял теорию Дарвина. Он был женат на своей однокашнице из Ипсиланти. Ее звали Марша. Тучная женщина. Она тосковала по дому, лежала в постели и плакала. Однажды я видел, как она пыталась вымыть голову, сидя в корыте. Марша набирала воду в ладони, но ее руки были слишком толстыми и не поднимались над головой. Эта славная женщина уже умерла. Менаша большую часть жизни проработал электриком в Бруклине. От его драматического тенора ничего не осталось, но лающий старческий голос трогал до глубины души. От его жестких рыжих волос сохранился только оранжево-белесый пушок.
– Все Ситрины были очень добрыми людьми. Кроме Джулиуса, пожалуй. Этот был грубым. Джулиус так и остался Джулиусом? Твоя мать очень помогала Марше. Бедная женщина… Но пойдемте к Вольдемару. Я только встречающая делегация, а он вас ждет. Он живет в комнате рядом с кухней.
Когда мы вошли, Вольдемар сидел на краешке кровати: широкоплечий, с прилизанными, совсем как у Гумбольдта, волосами, с таким же, как у него, широким лицом и серыми, широко посажеными глазами. Возможно, в пятнадцати километрах от Кони-Айленда заглатывал и фильтровал тонны воды, выпуская струю через отверстие в голове, кит с точно такими же глазами.
– Так значит, это вы приятель моего племянника, – сказал состарившийся записной игрок.
– Это Чарли Ситрин, – вмешался Менаша. – Ты знаешь, Вольдемар, он узнал меня. Малыш меня узнал. Черт возьми, Чарли, попробовал бы ты не узнать. Я просадил целое состояние на газировку и прочие угощения. Должна же существовать хоть какая-нибудь справедливость.
Конечно, я слышал о дядюшке Вольдемаре от Гумбольдта. Единственный сын, выросший под крылышком четырех старших сестер и слабоумной мамаши, изнеженный и ленивый, он пристрастился к игре, забросил учебу, клянчил средства у сестер и воровал деньги из их кошельков. Очевидно, он и Гумбольдта воспринимал как старшего. Стал ему скорее братом, чем дядей. Всю жизнь он оставался ребенком.
Я подумал, что жизнь гораздо щедрее, чем я себе представлял. Ее дары столь обильны, что наши чувства и здравомыслие могут попросту потонуть в них. Жизнь одного-единственного человека с ее любовными приключениями, оперными амбициями, долларами и скачками, матримониальными планами и домами престарелых в результате исчерпывается какой-нибудь чайной ложечкой этого сверхизобилия. Этот потоп поднимается и изнутри. Вот, к примеру, комната дяди Вольдемара, наполненная запахом сосисок, которые варят на ленч, Вольдемар сидит на самом краешке кровати, разодетый для приема гостей, лицом и формой головы он напоминает Гумбольдта, правда, тут приходит в голову отцветший одуванчик – все желтое стало серым; вот зеленая рубашка этого пожилого джентльмена, застегнутая доверху; вот его добротный костюм на проволочных плечиках в углу (на своих похоронах он будет выглядеть шикарно); вот сумки под кроватью; вырезанные из журналов фотографии лошадей и боксеров-профессионалов и суперобложка с портретом Гумбольдта тех времен, когда он еще был невероятно красив. Если именно в этом и заключается жизнь, тогда на ум приходит рифмованная строчка, сказанная Ренатой о Чикаго: «Без О'Хэра, знамо дело, безнадега бы заела». Но единственное, что может сделать для нас О'Хэр, так это сменить декорации, перенести от одного уныния к другому, от одной скуки к другой. Но тогда почему в начале нашей беседы с дядей Вольдемаром в присутствии Менаши и Ренаты меня охватила какая-то слабость? Потому что любой опыт, любые связи и отношения несут в себе нечто гораздо большее, чем может вместить обыкновенное сознание или повседневная жизнь эго. Н-да. Вот когда понимаешь, что душа принедлежит всеобъемлющей жизни вовне. Так должно быть. Научившись думать о своем текущем существовании как о лишь одном из длинного ряда, я не очень удивился, встретив Менашу Клингера. Без сомнения, мы с ним неизменно состояли в какой-то более крупной, более обширной человеческой общности, и его желание исполнить партию Радамеса из «Аиды», облачившись в парчу, сродни моему стремлению пойти дальше, гораздо дальше своих сверстников-интеллектуалов, которые утратили творящую душу. О, некоторыми этими интеллектуалами я восхищался безмерно. Особенно королями науки, астрофизиками, чистыми математиками и прочими в том же роде. Но они ничего не сделали для решения главного вопроса. А главный вопрос, как отметил Уолт Уитмен, это вопрос смерти. Ведь музыка свела меня с Менашей. Посредством музыки человек убеждается, что логически неразрешимое, если его иначе представить, может оказаться решаемым. Звуки, сами по себе бессмысленные, делаются тем значимее, чем возвышеннее образованная ими музыка. Вот задача для человека. Даже мое присутствие в этом мире, несмотря на летаргию и слабость, глубоко оправдано. Чем именно, я пойму позже, когда окину взглядом свою жизнь в двадцатом столетии. Календарные листки осыплются под пристальным взглядом души. Но на декабрьской страничке останется отметка о поездке в метро, обезображенном молодежными шайками, о прекрасной женщине, за которой я шел по бульвару, слыша громкие выстрелы, доносящиеся из тира, вдыхая запахи попкорна и сосисок, думая о ее соблазнительной фигуре, о меркантильном духе, воплощенном в ее тряпках, о моей дружбе с Фон Гумбольдтом Флейшером, что привела меня на Кони-Айленд. В пригрезившемся мне чистилище я увижу все это с разных точек зрения и, возможно, пойму, как связаны все эти странности, пойму, для чего, едва я поднял глаза на Вольдемара Уолда, открылся во мне этот эмоциональный канал.
Вольдемар сказал:
– Ну и давненько меня последний раз навещали. Я уже и забыл когда. Гумбольдт никогда не засунул бы меня в такую дыру. Это было временно. Жратва отвратительная, да и уход не лучше. Говорят мне: «Заткнись, старый хрен». Тут одни косоглазые с Карибов. Мы с Менашей практически единственные американцы, все остальные – нелюдь. Гумбольдт даже пошутил однажды: «Двое – это компания, а трое – нелюдь».
– Но он тем не менее поместил вас сюда, – сказала Рената.
– Только временно, пока не уладит некоторые проблемы. Всю неделю перед смертью он искал квартиру для нас двоих. Как-то мы прожили вдвоем месяца три – райское время. Вставали утром и, как настоящая семья, завтракали яичницей с ветчиной, а потом разговаривали о бейсболе. Знаете, это я сделал из него настоящего фаната. Пятьдесят лет назад я купил ему бейсбольную рукавицу. Научил ловить низкую подачу и выводить из игры противника. А футбол! Я показал ему, как навешивать пас форварду. В огромной, как вокзал, квартире моей матери был длинный-предлинный коридор, в котором мы играли. Когда его отец дал деру, получился не дом, а женское царство, так что, кроме меня, некому было воспитывать из него настоящего американца. От этих женщин один вред. Да возьмите хотя бы имена, какие они нам дают, – Вольдемар! Дети прозвали меня Волдырь. У него тоже было дурацкое имя. Гумбольдт! Моя глупая сестрица назвала его в честь статуи в центральном парке.
Все это было мне знакомо по замечательной поэме Гумбольдта «Дядя Арлекин». В старые добрые времена на Вест-Энд-авеню, часов в одиннадцать, когда его сестры-кормилицы уже давно отправились на работу, Вольдемар Арлекин встает, час нежится в ванне, бреется новым лезвием «Жиллет» и, наконец, завтракает. Мать садится рядом и, пока он читает газеты, намазывает для него маслом булочки, снимает кожицу с белой рыбы и подливает кофе. Затем он берет у нее несколько долларов и уходит. А за обедом рассказывает о Джимми Уокере[354]354
Уокер Джеймс Джон («Джимми») (1881-1946) – мэр Нью-Йорка в 1926-1932 гг., вынужденный уйти в отставку из-за обвинений в коррупции.
[Закрыть] и Эле Смите[355]355
Смит Альфред Эманюэль («Эл») (1873-1944) – губернатор штата Нью-Йорк в 1922-1928 гг., неудачный кандидат в президенты от демократической партии на выборах в 1928 г.
[Закрыть]. Гумбольдт считал Вольдемара главным американцем своей семьи. Таков был круг его обязанностей в бабьем царстве. Когда по радио транслировались предвыборные партийные съезды, он мог перечислять штаты одновременно с диктором – Айдахо, Айова, Алабама – и слезы патриотизма наворачивались ему на глаза.
– Мистер Уолд, я пришел к вам по поводу тех бумаг, которые оставил Гумбольдт. Я говорил вам по телефону. У меня записка от Орландо Хаггинса.
– Да, Хаггинса я знаю: долговязый зануда. Но сперва я хочу спросить вас об этих бумагах. Они чего-нибудь стоят, или как?
– Иногда в «Таймс» пишут, – вмешался Менаша, – что письмо Роберта Фроста ушло за восемьсот долларов. Про Эдгара Алана По и не спрашивай.
– А что там за бумаги, мистер Уолд? – спросила Рената.
– Ладно, я вам скажу, – вздохнул Вольдемар. – Я никогда ничего не понимал в его писанине. Я и так не очень-то люблю читать. А уж то, что он писал, у меня вообще в голове не укладывалось. На бейсбольной площадке Гумбольдт дрался как сто чертей. Только представьте, какую силищу он вкладывал в замах, с такими-то плечами. Если бы я настоял на своем, он попал бы в высшую лигу. А он стал околачиваться возле библиотеки на Сорок второй улице и трепаться там на ступенях со всякими бездельниками. И вдруг я узнал, что он печатает какие-то заумные стишки в журналах. Ну, в тех, где совсем нет картинок.
– Ну же, Вольдемар, – сказал Менаша. Его грудь высоко вздымалась от волнения, а голос все дальше заползал в верхний регистр. – Я знал Чарли еще ребенком. Поверь мне, ему можно доверять. Давным-давно, как только я его увидел, я сказал себе: «По лицу этого крохи ясно, какая у него добрая душа». Конечно, он постарел. Но по сравнению с нами он еще парень хоть куда. Так что, Вольдемар, не таись и объясни ему, что у тебя на уме.
– Бумаги Гумбольдта, в смысле, его записи, скорее всего, стоят не очень много, – сказал я. – Можно, конечно, попытаться продать их какому-нибудь коллекционеру. Но возможно, кое-что из того, что он оставил, можно опубликовать.
– Скорее всего, там одни сантименты, – вставила Рената. – Просто послание старого друга с того света.
Вольдемар взглянул на нее и, продолжая упрямиться, сказал:
– А вдруг они таки ценные, с какой стати я должен позволить себя обжучить? Разве у меня нет права что-нибудь поиметь с этого? В смысле, какого черта я должен торчать в этом вшивом притоне? Когда мне показали некролог Гумбольдта в «Таймс» – Боже! Представляете, что со мной сделалось? Он же был мне как сын, последний в семье, моя плоть и кровь! Я со всех ног помчался на метро и поднялся в его комнату. Половину вещей уже растащили. Копы и администрация отеля уже утянули часть. Наличные, часы, авторучка и пишущая машинка исчезли.
– Какой смысл сидеть на этих бумагах и мечтать, что сорвешь куш? – сказал Менаша. – Передай их тому, кто в этом разбирается.
– Не подставляй мне подножку, – буркнул Вольдемар Менаше. – Мы ведь здесь вместе. Я не скрываю, мистер Ситрин, я хочу многого. Я мог бы сбагрить эти бумажки давным-давно. И раз уж вы явились сюда, значит, они действительно ценные.
– Значит, вы их читали, – понял я.
– Черт возьми, конечно читал! А какого черта мне было делать? Только я ни хрена в них не понял.
– У меня нет ни малейшего намерения нагреть вас, – сказал я. – Если эти бумаги представляют какую-нибудь ценность, я честно об этом скажу.
– Может, позовем юриста и составим официальный документ? – предложил Вольдемар.
Да, он несомненно приходился Гумбольдту дядей. Я сделался сама убедительность. Таким рациональным я бываю только тогда, когда истово хочу чего-нибудь. И мне удается так повернуть дело, что мое желание представляется совершенно естественным.
– Мы оформим все так, как вы захотите, – сказал я. – Но разве я не должен прочесть эти бумаги? Что я могу сказать, прежде чем изучу их?
– Тогда читайте прямо здесь, – предложил Вольдемар.
– Ты всегда был азартным игроком, – сказал Менаша. – Рискни!
– По этой части я звезд с неба не хватаю, – ответил Вольдемар.
Мне показалось, что он вот-вот расплачется, – так у него задрожал голос. Ведь от смерти его отделяло совсем чуть-чуть. Тусклое пятнышко слабого декабрьского тепла на голом жестком протертом темно-красном ковре словно умоляло: «Не плачь, старина». Свет, неслышно взорвавшийся в ста пятидесяти миллионах километров отсюда, воспользовался потертым аксминстерским ковром, жалким клочком человеческой мастеровитости, чтобы, пройдя сквозь грязное окно дома престарелых, донести это послание. Меня тоже охватило волнение. Мне тоже захотелось объяснить что-то важное. «Нам придется пройти через мучительные врата смерти, – хотел я сказать ему, – и возвратить взятые в долг вещества, из которых мы состоим, но хочу сказать тебе, брат Вольдемар, я глубоко убежден, что это не конец всему. Возможно, воспоминания о теперешней жизни потом измучат нас гораздо больше, чем мысли о смерти, которые ранят нас сейчас».
В конце концов мой здравый смысл и искренность убедили его, и мы все вместе, стоя на коленях, стали извлекать из-под кровати всякий хлам: комнатные тапочки, старый шар для игры в кегли, игрушечную бейсбольную площадку, игральные карты, непарные кости, картонные коробки и чемоданы и, наконец, реликвию, которую я узнал, – портфель Гумбольдта. Тот самый старый портфель с потертыми ремешками, который Гумбольдт постоянно возил на заднем сиденье «бьюика», набитый книгами и пузырьками с лекарствами.
– Стойте, бумаги я храню здесь, – нервно сказал Вольдемар. – Я сам достану, вы все испортите.
Рената, сидевшая на полу вместе с нами, смахнула пыль бумажными салфетками. Она всегда говорила: «Возьми „Клинекс“ – и протягивала салфетки этой марки. Вольдемар вытащил несколько страховых полисов и пачку перфокарт социального обеспечения. В портфеле нашлось несколько фотографий лошадей – по его словам, почти полная коллекция победителей дерби в Кентукки. Затем, как подслеповатый почтальон, он стал просматривать бесчисленные конверты. Мне хотелось поторопить его: „Да быстрей же!“
– Вот, – воскликнул Вольдемар.
На конверте неровным почерком Гумбольдта с сильным нажимом было выведено мое имя.
– Что в нем? Дай посмотреть, – сказала Рената.
Я взял у Вольдемара необычно большой, тяжелый конверт из оберточной бумаги.
– Вы должны дать мне расписку, – потребовал Вольдемар.
– Разумеется. Рената, напиши, пожалуйста, все по форме. Что-нибудь вроде: «Получил от Вольдемара Уолда бумаги, завещанные мне Фон Гумбольдтом Флейшером». Я подпишу.
– А какие именно бумаги? Что там?
– Что там? – переспросил Вольдемар. – Длинное личное письмо мистеру Ситрину. Да еще парочка запечатанных конвертов, которые я так и не открыл, потому что на них написано, что если их вскрыть, это будет какое-то нарушение авторских прав. Какие-то копии или копии копий. Не могу сказать. По большей части я не вижу в этом ни малейшего смысла. Может, вы что-нибудь поймете. Уж так и быть, я, последний оставшийся в живых из нашей семьи, скажу вам откровенно: мои покойные родственники похоронены кто где, одна могила тут, другая – черт-те где, сестра – в том месте, что называют Валгаллой для немецких евреев, а племянник – на кладбище для бедных. И я очень хочу воссоединить свою семью.
Менаша добавил:
– Вольдемара гложет мысль, что Гумбольдта похоронили в плохом месте. Он хочет забрать его оттуда.
– Если это наследство чего-нибудь стоит, деньги в первую очередь нужно потратить на то, чтобы откопать малыша и перевезти. Не в Валгаллу. Это моя сестра хотела лежать среди сугубо американских Джонсов. У нее был пунктик насчет немецких евреев. А я хочу, чтобы они лежали все вместе. Хочу собрать своих покойников, – сказал старый лошадник.
Кто мог ждать такой торжественности? Мы с Ренатой переглянулись.
– Положись на Чарли, – сказал Менаша, – он тебя не подведет.
– Я напишу вам и сообщу, что нашел в этих бумагах, – пообещал я. – И как только мы вернемся из Европы, обещаю вам, мы обо всем позаботимся. Вы можете подыскивать подходящее кладбище. Даже если бумаги ничего не стоят, я готов полностью оплатить расходы на перезахоронение.
– Что я тебе говорил? – сказал Менаша Вольдемару. – Такой малыш, как этот, просто обязан был вырасти настоящим джентльменом.
Мы вышли. Я взял стариков под слабые руки, под выпирающие двойные шишечки локтевого сустава, соединяющего лучевую и локтевую кости, обещая держать их в курсе. Бредущая позади Рената с бледным лицом под широкополой шляпой казалась несравнимо более материальной, чем любой из нас. Неожиданно она произнесла:
– Если Чарльз пообещал, значит, Чарльз это сделает. Мы уедем, но он о вас не забудет.
В углу открытой веранды стояли инвалидные коляски, блестящие легкие трубчатые конструкции со створками, похожими на крылья летучей мыши.
– Интересно, никто не станет возражать, если я сяду в одну из этих колясок? – спросил я.
Я сел в коляску и сказал Ренате:
– Прокати меня.
Старики не знали что и думать, почему эта высокая шикарная женщина с великолепными зубами со смехом катает меня туда-сюда по веранде.
– Успокойся, прекрати смеяться, как ненормальная. Ты обидишь их, Рената, – сказал я. – Просто толкай.
– Эти чертовы ручки ужасно холодные, – пожаловалась она.
И натянула длинные перчатки прелестным щегольским движением.







