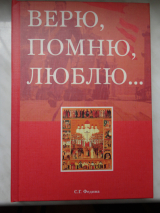
Текст книги "ВЕРЮ, ПОМНЮ, ЛЮБЛЮ..."
Автор книги: София Федина
Жанр:
Повесть
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 5 страниц)
Там, где мы живем, есть еще наши близкие родственники. Родная сестра мамы, ее муж и их дети. Они наши двоюродные брат с сестрой. Их мама, наша тетя, работает учительницей, а их отец – начальник городской пожарной охраны. Мы иногда встречаемся.
108
ВЕРЮ, ПОМНЮ, ЛЮБЛЮ...
Но общаемся больше с двумя, нашими погодками по коммуналке, к тому же я еще очень дружен с нашей дворовой компанией. Совсем недавно в моем родном городе жили все многочисленные родственники по маминой линии. Их собрал вокруг себя дядя Вася – муж маминой средней сестры. Он и дальше всегда играл важную роль в нашей жизни. Дядя Вася «красный директор» с безупречной биографией: бедная крестьянская семья из Мордовии, комсомол, рабфак, партия, шахта, теперь трест. Именно в его дом в 1947 году на последних месяцах беременности приехала, освободившись из лагеря, моя мама. Чем рисковал, приютив у себя в доме «врага народа» «красный директор», можно только догадываться.
Таким образом, на встречу с отцом ехал кое в
чем познавший жизнь человечек. Ярославский вокзал, многочисленные родственники, приехавшие нас встречать, полуподвал в доме на Третьей Мещанской – квартира родного брата отца – все в памяти через запятую. Меня тискали, угощали, удивлялись, какой уже большой сын у Бориса. А мне и отцу еще предстояло понять, что каждый из нас значит друг для друга.
Первый экзамен отец провалил. Самокат, мечта, которую я лелеял осуществить, как только у меня появится отец, оказался для него машиной неизвестной.
109
известной. Пришлось подробно объяснять, как должны крепиться подшипники, каков узел соединения двух, обязательно струганных деревянных частей. Думаю, с комплексом самоката мой отец смог справился только тогда, когда на зависть всем деревенским ребятишкам усадил меня в седло белоголубого «Орленка», но это случилось много позже. Я же стал героем частушки. До сих пор помню это безжалостное, обидное: «Наш жених хотел жениться приобрел велосипед, как поехал на деревню полетел в кювет». И хотя конфуз с падением имел место, такого механического чуда в радиусе, как минимум, тридцати километров больше не было. Тридцать км. – это расстояние от Лопасни до районной больницы в Стремилово, главным врачом которой работал мой отец. Окрестные деревни принимать во внимание было бы просто глупо.
Павлик Морозов мне не брат, но что-то от него у тебя обязательно будет, есть, если ты рос без мужской половины в доме. Мама – это святое, и все, что плохо по отношению к ней, должно быть строго наказано. Отец здорово поплатился за легкую интрижку с медсестрой, которая была дочерью председателя колхоза. В то время каждая деревня являла собой самостоятельный колхоз. Вот мы и съездили с папой к соседям. Я стал невыездной, а отец надолго, я думаю, усвоил, что подразумевают крепкие семейные узы. Видимо, и самокат все еще играл свою роль. Героическое прошлое
ВЕРЮ, ПОМНЮ, ЛЮБЛЮ...
отца в настоящем могло проявиться только по случаю. И такой случай вскоре представился.
Один из «тубиков» – больной туберкулезного корпуса, оказался хорошо блатным. Его освободили досрочно по причине заболевания и определили в стремиловскую больницу с ее замечательными соснами во дворе. Мы, ребятня, носились по территории, общались с больными, не делая исключений. Бывший зэк был мне даже симпатичен, поскольку блатная романтика манила пацанов нашего возраста, как мед осу или шмеля.
Причина конфликта была банальна. Отец решил, что пора выписать бывшего зэка. Как я потом узнал, подобная ситуация уже была в жизни отца, но только в других условиях. Но опыт – дело нужное. Когда из корпуса в панике побежали нянечки и медсестры, все поняли: случилась беда. Наверное, большая беда действительно могла бы случиться, сделай бывший зэк так, как он сейчас кричал в ярости: «Пожалел мальчишку», – то есть меня, – «Всю семейку надо было прирезать ночью!»
Вид он имел – не очень. Отцу тоже досталось. Но главное, кто кого вел с заломленными за спину руками! От самоката не осталось воспоминаний. А отец мне впервые поведал о лагерном прошлом и показал кожаный ремень с серебряной пряжкой, которым он правил свою опасную бритву. До сих пор корю себя, что не сохранил эту семейную реликвию. А история,
111
которую рассказал отец, определила очень многое в той жизни, куда пресловутая Тройка, за короткое пребывание на оккупированной территории, отправила на пятнадцать лет главного врача авиационного полка капитана медицинской службы. Ранения, побеги из плена, особисты родного полка, в который он наконец-то опять попал в 42-м, в расчет не приняли.
Воркута – станция назначения поезда, идущего в противоположную сторону и от мест, где разворачивались боевые действия, и от той жизни, которую сумел прожить к этому времени бывший комсомолец, выпускник военного факультета Первого меда 1939 года, Борис Федин – мой отец. Так вот, тот ремень – подарок лагерного пахана доктору-зэку, который сохранил достоинство офицера и не побоялся идущего на него с топором уголовника, готового на все, чтобы остаться в тюремной больничке. Вор в законе, по рассказам отца, бывало, и руку клал под колеса «кукушки» лишь бы не ссучиться. Так что, там не шутили. И стоил ты то, что стоил. Из той прошлой жизни отец навсегда вынес эту простую, казалось бы, формулу. Какой тяжелой оказывается она, когда ты примеряешь ее на себя, когда перед глазами отцовские поступки.
Зима, а мы на платформе ждем с ним пересадки на нашу электричку. Когда невмоготу от мороза, бежим в дощатый павильон, чтобы хоть чуть-чуть согреться. На одной из лавочек молодая пара, прижавшись, греет друг друга. Вваливается шпана. Дальше – от степени
112
ВЕРЮ, ПОМНЮ, ЛЮБЛЮ...
воображения. Помню только, как оттолкнув меня в сторону, отец бросается на защиту ребят. Один. Даже военный патруль не замечает, что происходит в противоположном углу. Потом, подхваченный отцовской рукой, я буквально заброшен в тамбур прибывшей электрички, а он еще успевает отмахиваться от хулиганья, которое виснет на нем. Угрозы и обещания свидеться на узкой дорожке, остаются за закрывшимися дверями вагона. Не хочу повторять крепкие эпитеты, которые по ходу событий отец послал офицеру военного патруля, так и не вступившегося за своих рядовых сограждан.
– Висеть тебе доктор на воротах, – посулили однажды отцу уголовники, но, к счастью, так и не выполнили свое обещание. Это уже из рассказов мамы о совместном ее пребывании с отцом в Печерлаге.
Отцы и дети – это оставим классику. У нас – отец и сын. Мало, безжалостно мало. Всего семнадцать лет рядом, и только один год вместе, и этот год последний. Происходит это, наверное, как первая любовь. Сразу и, кажется, навсегда. Был мальчишка, а стал взрослый мужчина. Что произошло в тот год? Я, вечно спорящий с отцом, огрызающийся на его замечания, отмахивающийся от его советов, вдруг понял его. Мы заговорили на одном языке. Мы стали друзьями, мы стали единомышленниками. Так накопившийся словарный запас чужого языка, вдруг дает тебе счастье слышать другой мир. Сколько нужно было отцу
вкладывать в меня, чтобы потом не ломалось внутри.
На самом излете своей жизни он успел передать мне
путевку в жизнь, а может что-то еще.
Недавно мама в очередной раз переклеивала наши
семейные фотоальбомы. Множество фотографий раз-
ных лет, разного качества разложены на большом сто-
ле. Я беру те, что связаны с отцовской семьей. Бабуш-
ка, дедушка, тетки, дядя с женой и их дети – мои
двоюродные братья и сестры. И среди них – фото-
графия отца, посланная им своим родителям. Отец в
форме капитана медицинской службы. Эту хорошего
качества фотографию вижу, естественно, не первый
раз, но впервые, клянусь впервые, читаю, что на обо-
роте: «папе и маме, Баку, март 1941 года». Обожгло
больно. Еще три месяца и начнется война, которая
распорядится по-своему и судьбой моего отца. И эту
историю уже не перепи-
шешь заново. Впрочем, в
другой истории не было
бы меня.
Борис Федин. Баку, апрель 1941 г.
Он старше меня на год, его мама – учительница начальных классов. Про отца никогда не говорили. У него дед, который всегда держит при себе мухобойку, и бабушка, которая пьет чай только вприкуску. Вечно открытая сахарница на столе приманивает мух, и они становятся легкой добычей для дедовской мухобойки. Честно говоря, расплющенные таким образом мухи всегда вызывали у меня чувство брезгливости, и я вежливо отказывался садиться за стол. Наверное, я этим обижал Борькиных стариков и маму, но тогда в моей голове не было места для мыслей о социальном неравенстве семьи врача и семьи простой больничной нянечки, в качестве которой Борькина бабушка доработала до заслуженной пенсии. Кем был Борькин дед, не знал никогда, но поскольку он лихо подшивал валенки и практически не вставал со стула, очень напоминал сапожника. Да и какие могли быть социальные ступени, когда все мы росли в одном дворе районной больницы и в нашей возрастной группе Борька был очевидным лидером. Он хорошо пел и не стеснялся делать это при девчонках, и еще он начинал все считалки.
115
Правда, отдельная тема – это футбол. Мы оба были его фанатами и здесь пролегало наше соперничество. Мы росли и менялись. Туполевский пионерский лагерь интересовал все меньше и меньше. Уже привлекал туполевский санаторий, входящий в оздоровительный комплекс, ну а воспитательницы детского сада – это уже почти сбывшаяся мечта. У меня она реализовалась, кажется, в классе девятом. Если углубляться, то вполне самостоятельный сюжет.
Почему беда любит дома, где и без нее хватает разного лиха, я не знаю и сейчас. Она как будто хочет додавить до конца тех, кто слабее и беззащитнее. Это так несправедливо. Особенно остро чувствуешь это, когда большая часть жизни людей, которых она начинает давить своим прессом проходит на твоих глазах. Пожалуй, только мухи могли обижаться на Борькину семью. А вышло так, что единственная в ней мужская опора еще одним грузом навалилась на плечи учительницы младших классов. На всю жизнь встали перед моими глазами маленькие картонные коробочки, которые, ссутулившись за столом, склеивал мой друг Борька – облысевший к тридцати забивной форвард Чеховского мебельного комбината, инвалид второй группы, с правом заниматься надомным трудом.
Не очень легко смотреть в глаза человеку, которому ты не в силах помочь, а он, уставший от сочувствия, связывает с тобой, спецкором городской газеты, крохотную надежду найти правду там, где перемалывают
ВЕРЮ, ПОМНЮ, ЛЮБЛЮ...
и не такие истории. Какими тяжелыми были для меня случайные встречи с Бориной мамой. Расплющенной мухой лежала на столе Борькина жизнь, жизнь матроса подводной лодки, не сумевшего увернуться от тяжелой мухобойки военной машины. Не обременил себя виной этот железный молох ни за слетевшую с Борькиной головы светлую шевелюру, ни за его ноги, сперва опухшие в коленях, а затем превратившие его в сидячего инвалида.
Ходит, ходит среди домов горе, заглядывает за низкие занавески. Чем приглянулось ему Борькино окно? Не знаю. Когда выплывет вдруг из детства наш двор, когда нас, набегавшихся за майскими жуками, позовут домой голоса наших мам, за дешевенькими его шторами видится мне низко висящая над столом в розовом абажуре неяркая лампочка, Борькины дед и бабушка, затертые до блеска от «дурака» карты и его мама, вечно проверяющая тетради. И я не знаю, почему ангелы оставили этот дом?
Вадим
Московская коммуналка. О ней либо ничего, либо – поэма. Сегодня на месте нашего дома на углу Б. Левшинского и Денежного, (Щукина, 13) один из самых крутых жилых комплексов. Под него ушли все дома, ранее закрывавшие по периметру весь наш двор. На подъезде нашего пятиэтажного, двухподъездного, отделанного белой кафельной плиткой дома, не хватало только таблички: «подъезд интеллигентных москвичей».
Сверху вниз. На пятом. Две комнаты профессора МГУ (родная племянница замужем за академиком Бергом. Академика, как я теперь знаю, еще и бойца невидимого фронта, гордость Советской разведки, лично лицезрел несколько раз, поднимающегося по широким ступеням мраморной лестницы, украшавшей наш Хаус). Остальное пространство квартиры вмещало большую семью моего друга-однокашника Леши. Инженеры (папа и мама, брат и его жена, ученые химики – эмгэушники). Четвертый этаж. Две комнаты наши, две – Пицхилаури. В одной Юра– океанолог с «Витязя», тоже воспитанник МГУ. Третий этаж: музыканты. В семье двое моих одногодков, а
118
ВЕРЮ, ПОМНЮ, ЛЮБЛЮ...
также наказание квартиры – сумасшедший профессор «Красной профессуры». Тихий, с огромной бородой не пользующийся электричеством «изобретатель» ткацких станков. Продукция, которую он выпускал, обыкновенные тряпичные коврики, имевшие иногда спрос у таких же бедных, как он, старушек. Мне он подарил трехметровые лыжи. Позже их стащил сосед по даче. Мама до сих пор жалеет, а я все мучаюсь вопросом: как их вообще довезли до дачи.
Нужно сказать, что и Юра-океанолог, тоже был наказанием, но уже нашей квартиры. Штормило и качало, когда он возвращался из плавания. Только не свежий бриз далеких океанов (везло же алкоголику, весь мир – вдоль и поперек), врывался в нашу квартиру, и даже не заманчивая экзотика какого-нибудь портового заморского кабака. Нет, родные наши алкаши из под арки соседнего винного магазина, только что не курлыча, тянули косяком в нашу квартиру. Кончалось все традиционно. Милицию никто не звал, хватало одного Вадика. Дядя Гриша Пицхилаури, отец Вадима, по причине инвалидности в деле не участвовал, меня же, ввиду мелкости, в расчет не принимали. Всех выметал Вадим. Точку он ставил, когда океанолог стучал в стену комнаты дяди Гриши.
– Гриша, кричал он, – сыграй «Караван».
Вадик молча входил в его комнату, и все стихало.
Деньги у Юры заканчивались быстро, и тогда в ход шла огромная библиотека, которую его покойная к тому
времени матушка, учительница словесности, собирала всю жизнь. Книги предлагались за бесценок, и Юра, забыв обиды и синяки, право первого отбора предназначенной к реализации классики предоставлял Вадиму. По-моему – высший признак уважения. Когда «Витязь» вновь покидал пределы Родины, становилось немного грустно. Работая в смену и учась на вечернем, я часто днем зависал дома. Дядя Гриша, конечно, не был Дюком Эллингтоном, но благодаря дружбе с Вано Мурадели, в свое время перебрался в Москву и, с его же подачи, руководил маленьким джазовым оркестром в ресторане на Новом Арбате. Его жена и, естественно, мать Вадима, работала в аппарате Союза Композиторов. Тучная, высокая, всегда с поднятой головой, тетя Женя находилась в непрерывном поиске дефицита. Коробки с обувью, мохер и даже дубленки, освященные в глазах работников прилавка высоким своим предназначением, не ложились на плечи авторов великих музыкальных творений, а прямиком шли на историческую родину дяди Гриши.
– Маленький гешефт матушки, – называл все это Вадим.– К тому же, – подчеркивал он, – если переводить нашу фамилию получится: мокрый еврей.
К чему здесь мокрый, я не спрашивал, потому что на Вадика я смотрел снизу вверх, раскрыв рот. Это был авторитет старшего брата, причем во всем.
Вечерний образ жизни дяди Гриши оставлял ему массу свободного времени днем, и если я тоже не
120
ВЕРЮ, ПОМНЮ, ЛЮБЛЮ...
знал, как убить свое время, мы общались, и в ходе этого общения я имел возможность оценить и качество табачной продукции империалистических Соединенных Штатов, и вкус виски Соединенного королевства. Настоящие глянцевые журналы с картинками, которые раньше я видел лишь в затертом черно-белом изображении в стопке любительских фотокопий, запущенных из рук в руки по кругу, просматривались небрежно и со знанием дела. Однако, вряд ли моя показная осведомленность могла обмануть прожженного всеми слабостями порока дядю Гришу.
Часто наше общение прерывал звонок в дверь. Как жаль, что такого красивого слова «кастинг» не было тогда в обиходе, но то, что теперь называют этим словом, с солистками своего оркестра дядя Гриша проделывал регулярно. Высокая входная дверь нашей квартиры тихонько закрывалась за очередным вокальным дарованием, и труба дяди Гриши возвещала отбой просмотра. Хватало его только на монотонные гаммы, и эта бесконечно занудная печаль легко загоняла меня в депрессивное состояние.
И тут наступал вечер. С черным футляром в руках легко выскальзывал из супружеских объятий за порог седеющий грузин дядя Гриша, прихожую наполняли коробки с обувью и громкий голос тети Жени:
– Вадик, ты дома?
<30 121
С. Г Федина
–Да мама, дома, – рычал в ответ низкий бас, и это означало, что Вадик не один и дверь его комнаты неприкосновенна.
–У тебя Листик, – смягчалась в интонациях тетя Женя. Листик – единственная из многочисленных девушек Вадика, которая нравилась тете Жене.
Да, мама, Листик, – пресекал домогательства Вадим.
Ну, хорошо, – отступала тетя Женя, – я буду готовить ужин.
Сейчас, когда жизненные приоритеты выстроились для меня совсем по-другому, по-другому воспринимаются и закрывающаяся на ключ комната с широкой кроватью, на которой спал только дядя Гриша, и исчезающий вслед за отцом Вадик с очередной подружкой, и ужин тети Жени, иногда на кухне, а чаще в комнате перед телевизором в полном одиночестве.
Но это грустный сценарий вечера в нашей квартире. Другой, если очень коротко, оптимистичный, можно сказать по-современному – позитивный. Я хорошо усвоил почему в КВНовских командах так много студентов-медиков (взрослые врачи тоже любят шутить, это мой отец доказывал неоднократно). А тут – последний курс Второго меда, без пяти минут дипломированные эскулапы, но я бы очень подумал тогда, стоит ли попадать в руки этой компании, которая, во главе с Вадиком, вваливались в нашу квартиру. Я, первокурсник физического факультета, грыз основы
<5© 122 <3*0
ВЕРЮ, ПОМНЮ,ЛЮБЛЮ... =
естествознания, и это было, по крайней мере, видно по заваленному учебниками столу, а тут:
Вадик, ты дома?
Вадик, у тебя Листик?
А Вадик – шасть, и уже на Новом Арбате у отца в ресторане.
Бац, и весь вечер вся честная компания обсуждает на нашей кухне кого «сделает» в Москве Тбилисское «Динамо». Хорошо, что Слава Метревели примирял мое «Торпедо» с их «Динамо». Попутно, как завязывать галстуки, (спасибо и сегодня за эту науку), прав или не прав кумир компании – Буба Кикабидзе, выйдя на сцену с часами на руке, и так далее.
Какие тут скелеты, какие симптомы? Все на Арбат. Мои родители серьезно считали, что если я буду оставаться под влиянием этой компании институт мне не закончить. Поэтому на Арбат, было без меня. И отцовское:
Ты когда будешь заниматься? – словно гвоздем прибивало меня к порогу родной квартиры. Кто теперь скажет в чем больше толку?
Не были и не стали разгильдяями Вахтанг – замечательный детский врач, профессор; преуспевающий всегда и во всем Сандро, Вадик, еще до тридцати защитивший кандидатскую в Герцена. Просто пенили им кровь не свойственные тогда большинству раскрепощенность и свобода, звала вперед неуемная жажда жизни.
С. Г Федина В самом начале восьмидесятых по новым столичным микрорайонам разъехались жильцы нашего дома, но еще трижды пересекутся наши с Вадимом пути... Многодневное наше с мамой хождение по разным врачам Онкологического института имени Герцена закончилось кабинетом заведующего отделением. Здесь перед профессорской дверью я ждал итогов консилиума. Первой я увидел Г алину, заведующею регистратурой, по просьбе Вадима опекавшую нас. Пропуская матушку вперед, она усадила ее рядом со мной на кушетку и, кивнув мне головой, направилась к себе в регистратуру. Я не задавал вопросов, а мама молчала. Меня пугало ее бледное неподвижное лицо. Не было смысла спешить на разговор с Галиной. Услышать то, чего боялся услышать сразу, как только шагнул за порог этого старинного особняка? Кроме вопросов: за что и почему, – в голове ничего не было. Вечером позвонил Вадим. Словно добрую весть принесли в камеру смертника накануне его казни: дело ушло на рассмотрение в высшую инстанцию и только она может вынести окончательный приговор. Моя надежда, которую вновь заронил голос с едва уловимым кавказским акцентом, была в руках седой старушки – научного руководителя Вадима. Охранная грамота, выданная ею, вопреки, казалось бы, очевидному, говорила: неподсуден. Именно она взяла на себя всю ответственность, когда накануне неотложной операции хирурги и анестезиологи из <5© 124 <3*0 ВЕРЮ, ПОМНЮ,ЛЮБЛЮ.. вестного медицинского центра, обнаружив темное пятно в легких моей мамы, отказались от хирургиче- ского вмешательства. Я видел, как плакала мама, кото- рой только что отменили очень тяжелую, особенно для пожилого человека, но необходимую операцию. Гонцом, загнавшим в мыло свою лошадь я летел в ординаторскую хирургического центра. Драгоценная грамота о помиловании – снимки и выписка, выдан- ные мне Галиной в регистратуре института имени Герцена, решали в те минуты: жить или не жить моей маме. Я успел, но стрелой в спину догнал меня Галин вопрос: – А ты знаешь, что Вадим умер? го похоронили рядом с родителями. Из близких были только Вахтанг, Сандро и Галина. Жена с сыном жили в Израиле. О распавшейся семье я знал от самого Вадима... ы сидим в его квартире, одна из комнат которой заставлена коробками с сигаретами, коньяком, виски. Это покруче, чем бар дяди Гриши, – шучу я. Нет, дорогой, – нажав не акцент, отвечает Вадик. – Этот импорт с Кавказа. У отца все было настоящее. Вот такая теперь у меня работа. Это все расходится по ларькам. Жить можно. А по специальности, у тебя же кандидатская? – вставляю свой вопрос. 125 С. Г Федина Был медицинский кооператив – учредили с ребятами из Герцена: раздавили налогами. Можно было вернуться в институт, только жить на что? А родители? – осторожно спрашиваю я. Его ответ: коньяк и рюмки, которые он ставит на журнальный столик. Ушли как-то сразу один за другим. Первым отец потом мама. Часто вспоминаю твоего отца. Борис Федорович вообще рано ушел, первым из нашей квартиры на Щукина. Давай помянем наших. Греют воспоминания, греет коньяк. Греет даже неизвестность, которая ждет впереди. В сорок Вадима и тридцать пять мои, коробки с кавказским контрафактом – просто эпизод в жизни, не более чем. Я ухожу, когда большая, навеселе, компания незнакомых мне Вадимовых приятелей атакует квартиру. Ухожу. А разве мы знаем, когда наши встречи становятся последними? Каждый раз, когда я по просьбе мамы отношу в церковь записки о поминании усопших родных, последней строчкой дописываю: и р.б. Вадима. Я очень верю, что ему это нужно. Я точно знаю, что это нужно мне... Мариинск Мариинске скорый московский стоит около С=^В десяти минут. Вот-вот, согласно расписанию, он прибудет на второй путь. Первый занят скорым до Владивостока. Я, Валентин, он мой двоюродный брат, и настоятель Мариинского храма отец Алексей прикидываем, сколько придется подождать, если все сложится по расписанию, чтобы оба поезда ушли в своих направлениях, освободив пути, а нам дорога напрямую к вокзалу, минуя высокий пешеходный мост. Все расчеты вызваны только одним – преклонным и очень преклонным возрастом наших мам. Только из– за возраста мы отказали им участвовать в автомобильном пробеге Братск-Мариинск, доверив их железной дороге... Мариинск – город, для нашей семьи особый. 70 лет назад здесь начались дороги, которые развели в разные стороны многочисленное семейство протоиерея Георгия, моего деда по маминой линии. В застенках мариинской тюрьмы приняли смерть старшие члены нашей семьи, отсюда ушла по этапу в свои неполные 25 лет моя мама – враг народа, член антиправительственной группировки под руководством 127 С. Г Федина архиепископа Макария с Гавайских островов. Я читаю эту статью приговора без улыбки. Я до сих пор не разрешаю маме сделать запрос и получить материалы дела ее отца, моего деда. Да, такие приговоры писали уроды, но их и подписывали. Подписывали такие люди, как моя мама. Когда мама входила в барак, мат прекращался. «Какой вошла такой и выйду» – это ее обет, данный себе и богу. Еще более страшное и, прежде всего, для мамы подписал в Мариинских застенках ее старший брат. Человек, которого она боготворила, человек, который в других обстоятельствах мог отдать за нее жизнь. Семьдесят лет, живой раной в сердце живет не обида и боль, а что-то более тяжелое. Маленькая просьба Коли осталась невыполненной. Из маленькой она превратится в страшную муку совести, потому что других просьб от брата она больше никогда не услышит. Немного хлеба, который он попросил ее принести в следующее посещение, можно было взять только у старшей сестры. У самой в тот момент не было. Уволена с работы, муж в тюрьме. Каждый раз следователь, который ведет дело мужа, предупреждает, чтобы не ходила, что каждый приход может стать и для нее последним: пойдет по делу вместе с ним. Насколько реальны были его предупреждения узнали совсем недавно. А тогда сестра отказала. Побоялась, что узнает муж, начальник местного ГПУ. Этот хлеб будет самым тяжелым в жизни моей мамы. <5© 128 <3*0 ВЕРЮ, ПОМНЮ,ЛЮБЛЮ... = Спустя 70 лет мы с волнением и тревогой читаем «Дело» дяди Коли. Недавно младшая мамина сестра прислала его по почте. Я прежде всего волнуюсь за маму, сам впервые держу в руках серые ксерокопированные листы с купюрами. Что заштриховано понять невозможно, да и зачем? Неужели там еще страшнее? И вот эта страница. Мама что-то перечитывает несколько раз, просит меня прочитать ей вслух. Говорит, что этого не может быть: Коля дает показания против сестры, говорит, что это она познакомила его с белогвардейским подпольем, когда они вместе работали в Ачинске. Но там он работал с мамой. С другими сестрами он вообще не работал. Серые листы дела на которых уместилась жизнь дяди Коли от рождения до расстрела. Родился, крестился, все коротко, а потом с датами, фамилиями подробное описание работы в глубоком подполье против своего народа, встречи с заговорщиками, поставки оружия, и младшая сестра, которая привела к заговорщикам... Высшая мера, дело в архив... Читаешь его и думаешь, какая тяжелая борьба шла за будущее нашей страны в эти годы, сколько сил отдавали этой неутомимой борьбе чекисты. И каким коварным и подлым был враг. Сколько фильмов, сколько книг о том героическом прошлом, воспитавших несколько поколений. Но есть и всегда будет оставаться для тебя одно «Но». Враги народа, с которыми сражались мужественные чекисты – это твоя мама, С. Г Федина учительница младших классов. Это твой дедушка, сельский священник, который никогда ничего не брал выполняя требы. А чтобы большая семья могла жить, зарабатывал столярным ремеслом, разводил пчел, вел, как и все, домашнее подворье. Это мой дядя. Тот, кто запустил мясорубку террора, определил им роль врагов народа. Роль сырья, роль мяса для страшной машины. По его приказу их уводили и увозили в ночь. Забивали, как скот и кидали в ямы на глухих пустырях, в лесу, подальше от людей, так, чтобы не оставили следа, не оставили могил, поэтому все мамины запросы в официальные органы о судьбе отца заканчивались сухим ответом о дате приведенного в исполнение приговора. Это «Но» должно жить, будет жить, пока ты помнишь о нем. Да, это «Но» будет оставаться до тех пор, пока мы помним. – Я действительно могла не прийти с того свидания, – говорит мама. Сколько лет помнила про этот хлеб, сколько лет обижалась на сестру, а ведь возможно она спасла мою жизнь. Как хочется поверить в спасительную соломинку – библейскую заповедь «Не суди, да не судим будешь». Так легче простить. А покаяние будет, оно придет. Скоро обнаружится другой подпольный заговор, и для нового дела потребуются новые жертвы и исполнители. Но как хочется поверить в спасительную со 130 ВЕРЮ, ПОМНЮ,ЛЮБЛЮ... = ломинку – библейскую заповедь «Не суди, да не судим будешь». Так легче простить. А покаяние будет, оно придет. корый выдерживает расписание. Мы не со... мневаемся, что за неполные сутки наши ма мы перезнакомились со всеми пассажирами своего вагона. Мы уже привыкли к их необыкновенной способности притягивать к себе внимание окружающих. Во-первых, никто не верит, что одной далеко за девяносто, а другой уже больше восьмидесяти. Модницы с детства. Шить, вязать, вышивать – все на уровне высокого мастерства. Это и от любви к красивому и потому, что часто было единственным способом заработать на жизнь. Если моя мама любит сложные выкройки, колдует над ними, вымеряя до миллиметра, с такой же точностью проводя примерки, ее младшая сестра шьет по фигуре клиента на глаз. Страшно смотреть, как красивая ткань (из другой наши мамы не шьют) разрезается портняжными ножницами по линиям, которые видит только моя тетя. И это в восемьдесят лет! Продавщицы магазинов ткани, в каком бы городе они ни находились, через несколько минут становятся лучшими подругами двух экстравагантных дам. Старушками и бабушками их никто не называет. Даже внуки и правнуки – только по имени. Подбирать обувь маме я привык в окружении всех продавцов отдела. Только высокий каблук, только модный ^€) 131 Оф С. Г Федина фасон, чтобы соответствовало конкретному типу одежды из ее гардероба. Я обожаю маму за то, что она не ощущает возраста. Если завтра лететь в Братск или в Мариинск – мы готовы собраться за считанные часы. Главное, чтобы я предупредил в аэропорту, что через магнитную рамку маме нельзя из-за кардиостимулятора. Все остальное – только в удовольствие. Каждый наш выход из дома удар по нервной системе моей жены. Все в чем отправится мама тщательно подбирается с учетом цели поездки, погоды, вероятности посещения магазина или других общественных мест. Поэтому примерок несколько, но по другому мы не можем. а перроне – что-то похожее на митинг, который закончился. Все, кому нужно было, выступили, а расходиться по домам все равно не хочется. Нужно еще поговорить, пообщаться. И вот под такое братание, наших мам нам почти что вручают, как ценные реликты: с напутствиями бе- речь, хранить, опекать, но и отпускать в гости, когда они захотят. Про нас тоже уже все знают: и какие мы заботливые сыновья, и какие у нас очаровательные жены, и как мамам повезло с нами на склоне лет. Но есть расписание и поезд уходит. И в нем уносится от нас, устремленное только вперед, неподвластное ни- чему время. Остаемся мы. Потому что нам в другую сторону...








