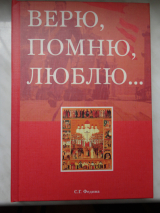
Текст книги "ВЕРЮ, ПОМНЮ, ЛЮБЛЮ..."
Автор книги: София Федина
Жанр:
Повесть
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Брат подружился с Сашей Лефтовым, комсомольцем из Ленинграда. Он был из числа двадцатипятитысячников – комсомольских и партийных работников, которые разъехались по всей России для того, чтобы возглавить индустриализацию страны. Саша был из еврейской семьи, отец его работал директором мануфактурной фабрики в Ленинграде. Саша был очень добрым и честным человеком. Николай рассказал ему
27
С. Г Федина
всю правду о нас, о нашей
семье. И Саша решил по-
мочь мне с учебой. Дого-
ворился со своим отцом,
что отправит меня в Ле-
нинград. Николай очень
боялся меня отпускать, но
я все же решила уехать,
когда брат будет в коман-
дировке. Об этом знали
только Саша и его знако-
мая Лариса. И вот когда у
меня появилась возмож-
ность уехать – Николай
был в отъезде – Лариса меня предала. Она всё рас-
сказала жене брата Нине, а та вызвала Колю. И бук-
вально за два часа до моего отъезда, приехал Николай
и все сорвалось. Кто знает, как сложилась бы тогда
моя жизнь. В конце 1931 года из Саратова пришел вы-
зов на шестимесячные курсы дикторов радио, и Коля
отправил меня в Саратов.
В апреле 1932 года я получила от брата письмо, в котором он сообщал, что папу арестовали.
Письмо от Коли я получила в дни, когда на курсах шли выпускные экзамены. Сообщение об аресте папы так на меня подействовало, что все во мне окаменело, я была убита горем. Все смешалось в голове, я путалась, отвечая на экзамене, меня спрашивали, что со
28
Николай и Нина Соколовские-
Непомнящих 1931 г.
ВЕРЮ, ПОМНЮ, ЛЮБЛЮ...
мной, но я не могла сказать, что моего отца арестовали. Экзамен все-таки сдала и получила диплом. В это время в жизни Николая и Валентины происходили большие изменения. У брата 11 июля 1932 года родилась дочь Елена. Сестра Валентина вышла замуж за Ивана Адамовича Козырева, начальника ГПУ Алтайска. Николай был против этого брака, но сестра его не послушалась. С Алтая, где строительство радиоузла закончилось, брата перевели в Ачинск, куда я и приехала работать диктором на радио. Была еще и монтером. Паяли, собирали приемники «БЧЗ» и «БЧИ». Делали передатчики. Нас могли слушать за сто километров. Коллектив был небольшой. Кроме нас с братом на радиоузле работало еще два человека.
22 января 1933 года в семейном кругу отметили День рождения Коли. Ему исполнилось 23 года, а 27 января из Барнаула приехал сотрудник ГПУ, арестовал брата и увез в Барнаул. Меня тут же уволили с работы и даже не отдали мой диплом. Так я лишилась профессии. Для меня всё начиналось заново. Я уехала к маме в Лебедянку.
Вскоре мы получили письмо Валентины. Она звала меня к себе на Алтай. Мы с мамой решили, что нужно ехать, надеялись, что Валентина и ее муж помогут мне устроиться на работу, помогут с учебой. По дороге к Вале я заехала в Барнаул, узнать, что с братом, привезла ему передачу. Жена Коли Нина была одна с грудным ребенком. Она никак не могла найти
29
время и вырваться к мужу. В Барнаульской тюрьме передачу у меня приняли, но свидание с братом не дали. Я пришла на следующий день, принесла еще одну передачу и, не дожидаясь ответа, уехала, так как опаздывала на поезд. И только потом узнала, что мне разрешили свидание, но меня уже не было в Барнауле. Так с Николаем мы больше уже не встретились. Через несколько дней после моего посещения, 19 апреля 1933 года, его расстреляли. Он умер под чужим именем, как Николай Георгиевич Соколовский. А на мои плечи на долгие годы жизни лёг тяжелый камень вины за тот скорый отъезд. И совсем недавно моя младшая сестра Зоя запросила и получила на руки копию Дела нашего брата. Прислала мне копии его допросов. Долго я не могла поверить прочитанному. Я думала только об одном: что нужно было сделать с человеком, как его нужно было пытать в застенках, чтобы он, мой брат, глубоко верующий и честнейший человек подписал протокол, в котором признавал свое участие в заговоре против советской власти и подтверждал, что с контрреволюционным подпольем его свела родная сестра София, то есть я. Такие вот стряпались дела. Получи я тогда разрешение на встречу с братом и попади на территорию Барнаульской тюрьмы, 1933 год стал бы последним годом моей жизни. Можно верить в судьбу, можно не верить, но еще не раз что-то свыше отведет от меня смертельную беду.
зо
ВЕРЮ, ПОМНЮ, ЛЮБЛЮ...
Встреча с сестрой Валентиной и её мужем закончилась для меня горьким разочарованием. Иван Адамович сказал, что поможет мне, только при условии, что я через газету откажусь от своего отца, напишу, что считаю его врагом народа. Но как я могла это сделать, разве я могла отречься от дорогих и близких мне родителей? В помощи мне отказали и предложили уехать. Опять пришлось возвращаться к маме в Лебедянку. Разве я могла знать, что еду навстречу своей судьбе, своему счастью.
Еще на Алтае, мне приснился сон – с тех пор я верю в вещие сны.
Приснилось, что я прихожу в сельсовет за справкой, так как у меня нет никаких документов, а мне уже 19 лет. Захожу в кабинет председателя, а там стоят несколько девушек – учительницы нашей школы, и рядом с ними молодой человек. Прошу справку у председателя сельсовета, а он мне отвечает: «Зачем тебе справка? Вот у нас заведующий школой, выходи за него замуж и тебе справка не будет нужна». И молодой человек ведет меня за руку по тканой дорожке.
И вот когда я вернулась домой и пришла в Лебедянский сельсовет за справкой, мой сон повторился наяву. В сельсовете были девушки-учительницы и среди них молодой человек, Иван Григорьевич Мельников – заведующий школой. Справку мне председатель сельсовета не дал, сказал, что не имеет права выдавать какие либо документы семьям лишенных прав.
31
Как мне расскажет Иван уже после замужества, увидев меня, он сразу же решил, что женится на мне. Жил он на квартире у женщины-почтальона. Придя домой, он написал матери, что встретил девушку, дочь священника, и решил на ней жениться. Отдал письмо почтальону, а та дружила с учительницами и показала им письмо. Они его вскрыли и прочитали. Учительницы – незамужние девицы, узнав, что их заведующий (комсомолец!) хочет жениться на дочери священника, написали донос в ГПУ. Начальник ГПУ вызвал Ивана Григорьевича и спросил, действительно ли он намерен жениться на мне. Иван ответил утвердительно. На что ему было сказано: «Если любишь и не можешь от нее отказаться, то уезжай в другой район».
Мы уехали в другой район и стали работать: он – директором школы, я – учительницей в младших классах. Так прошел год нашей счастливой жизни. А потом на конференции меня узнал заведующий ГОРОНО. От мужа потребовали развестись с дочерью священника. Грозили исключить из комсомола и уволить с работы. Но он сказал, что жену не оставит. Ивана исключили из комсомола и нас обоих уволили с работы. Хуже того, нас разлучили. Мужа забрали в армию и направили служить. Хорошо, что до его отъезда мы успели обо всем, что с нами произошло, подробно написать тогдашнему министру просвещения Бубнову. Ответ пришел положительный, мы вновь могли работать в школе. Но муж уже был в армии, и я, посове-
32
ВЕРЮ, ПОМНЮ, ЛЮБЛЮ...
товавшись с мамой, поехала устраиваться на работу в Мариинск, поближе к месту, где отбывал наказание папа, чтобы хоть как-то поддерживать его, носить ему передачи.
Заведующий Мариинским ГОРОНО, пожилой мужчина, внимательно выслушал мою историю. Я подробно рассказала ему обо всём, ничего не скрывая – кто я, кто мои родители, где сейчас муж, как нас увольняли и как министр просвещения нас восстановил, где и за что отбывает наказание отец. Меня не только приняли на работу, но и доверили заведовать школой в селе Мелехино. Судите сами, какое было тогда время. И порядочные люди, и доносчики. Кто-то и в разгар борьбы с врагами народа оставался человеком, а кто-то делал на этом карьеру, наживаясь на чужом горе. Как жизнь может наградить за терпение и веру, и как наказать за подлость, трусость и предательство, я не раз увижу и в лагерных застенках, и на свободе. Каждый такой пример только укреплял мою веру.
Иван по-прежнему служил в армии и мы могли только переписываться. А механизм репрессий набирал обороты. В 1935 году на него опять донесли, кто– то написал командиру части, что он женат на дочери священника, который находится в заключении как враг народа. Командир вызвал Ивана и спросил, действительно ли все так, как написано. Мой муж всё подтвердил, а на предложение развестись со мной ответил
33
категорическим отказом. Наверное, этим он подписал себе смертный приговор. Как ему было сказано, служить в Красной армии он не имеет права.
Мы вновь были вместе. Но тревожные ожидания все больше и больше наполняли нашу жизнь. Удалось решить вопрос с работой Ивана. В ГОРОНО пошли нам навстречу и назначили мужа директором Мелехинской школы, а я опять стала учительницей. Предчувствие беды быстро оправдывалось. В апреле 1937 года Иван заболел, лечился в Мариинской больнице, а потом был направлен в санаторий в Томск. И уже 18 мая мне сообщили, что муж арестован.
Миронов и новый следователь Ивана ушли. Ушли молча, что оставляло мне маленькую надежду выйти из этого страшного полуподвала. Но дверь кабинета без таблички открылась, и я услышала свою фамилию. В кабинете находилось несколько сотрудников НКВД. Один из них, обращаясь ко мне произнёс:
– Мельникова, Вы арестованы.
Я спросила, за что, попросила показать ордер на арест. Все дружно рассмеялись. В это время в кабинет зашел молодой человек в штатском и сказал, что привел четверых мужчин, как и договаривались, и теперь надо выписать ордера на их арест. При мне ему стали заполнять какие-то бумажки. Когда он их пересчитал, то выяснилось, что одна лишняя.
34
ВЕРЮ, ПОМНЮ, ЛЮБЛЮ...
Здесь пять ордеров, – сказал молодой человек, – один лишний, и протянул его чекисту.
Оставь себе, – ответили ему, – ты тоже арестован.
Началась истерика.
Я комсомолец, я выполнял ваше задание, – кричал молодой человек. – Вы ответите за беззаконие, я буду жаловаться.
Впервые я увидела, как умеют затыкать рот в сталинских застенках. Думаю, не случайно мне преподнесли наглядный урок. Меня и комсомольца отправили в подвал. Ночью всех задержанных в тот день погрузили в машину, которую называли «черный ворон», специально оборудованную для заключенных, и привезли в двухэтажное здание. Обитатели его находились здесь в ожидании допросов и вынесения приговора. В моей камере оказалось несколько женщин, вдоль стен стояли двухъярусные нары. Мне указали на место наверху, почти под потолком.
О том, что здание под следственный изолятор переделывали впопыхах, свидетельствовало качество строительных работ. Даже щели между потолком и возведенными наспех стенами не успели заделать. И в изоляторе заключенные не перестукивались. Тюремный телеграф заменила тюремная почта. В щели между потолками и стенами свободно передавали записки. На другой день я увидела, как над моей головой по щели движется бумага. На ней написаны имена
35
мужчин, сидевших в соседней камере. Просят сообщить наши имена. Первое, что я спросила, нет ли кого, кто встречал моего мужа, Мельникова Ивана Григорьевича. Мне ответили, что да, встречали его и знают, что завтра его привезут к нам.
Камеры следственного изолятора были расположены так, что из окон женского туалета было видно окно соседней с нами камеры. И вот когда на другой день я взглянула на это окно, то увидела мужчину, который улыбался мне и махал рукой. Это был лысый, заросший густой бородой человек. Что это Иван, я даже не могла подумать. Когда вернулась в камеру, пришла бумажка, где было написано: «Неужели ты меня не узнаешь? Это я, Иван».
Через несколько дней, у меня появилась возможность вновь увидеть мужа. Надо было прибраться в коридоре. Дежурный открыл дверь нашей камеры и попросил кого-нибудь выйти и выполнить эту работу. Наши женщины ответили ему, что подследственные не обязаны заниматься уборкой. Тогда я сказала, что пойду, приберу. И вот когда подметала коридор, моего мужа привели в туалет. Он остановился в помещении, где находились умывальники. Когда дежурный пошел за другим заключенным, я поняла, что другой возможности поговорить с Иваном у меня больше не будет.
Его били по нескольку часов и по нескольку раз в сутки, пытали, применяли разные методы допроса, ставили к стенке и, припирали к ней штыками. В конце
36
ВЕРЮ, ПОМНЮ, ЛЮБЛЮ...
концов, он не выдержал, и
подписал все, что от него
требовали. Мы успели по-
прощаться. В нашем отде-
лении был один добрый
дежурный, он узнал, что
мы с мужем сидим в со-
седних камерах. Когда бы-
ла возможность, спраши-
вал, что передать мужу, и
передавал мне весточки от
него. А однажды в его де-
журство подозвал меня к
волчку в двери и тихо со-
общил, что Ивана увозят в
подвал НКВД. До сих пор
слышу тяжелые шаги охранников. Как открывают
дверь соседней камеры. Гулкое в пустом коридоре:
«Мельников, с вещами на выход».
Когда Иван поравнялся с нашей дверью, он сказал: «Прощай, меня повели». Это были последние слова, которые я от него услышала. Потом только скрежет железных ворот напротив нашего окна, шум мотора «черного ворона» и все! Через несколько дней меня привезли в тот же подвал на допрос. И я услышала в коридоре голос дежурного: «Мельникова на допрос к следователю». «Кого – его или ее?» – переспросил охранник. Ответ был: «Его». В 1996 году на мой запрос
Митрополит Никифор
(Асташевский) крестный
37
об Иване мне ответили, что Мельников Иван Григорьевич был расстрелян 10 сентября 1937 года.
На допросах мне постоянно говорили, что я дочь врага народа, что в нашем роду много священнослужителей, мой отец – протоиерей, который находится в заключении. Мой прадед, митрополит Никифор, который служил в Новосибирске, умер 30 апреля 1937 года. В этот день за ним пришли, но у него были врачи и не дали арестовать дедушку. Так он при них умер. Господь не допустил, чтобы над ним надругались. И следователь мне говорил: «Жаль, что мы не успели его взять!» На что я ему ответила: «Да, жаль, что одна пуля у вас осталась целая!» Меня обвиняли в связи с Японо-Германскими фашистами. Якобы наш руководитель – епископ Мелентий – находится на Гавайских островах. Много было таких допросов, абсурдных обвинений.
Слава Богу, я не испытала насилия, пыток, но подписывать ничего не соглашалась. И вот меня спрашивают: «Веришь в Бога?» Как я могла отказаться от Бога, когда ждала, что меня вот-вот расстреляют или самое меньшее дадут срок? Как я могу без Бога пройти такое испытание? Мой ответ был: «Да, в Бога я верю!» Следователь вскочил со стула, закричал: «Как ты могла, верующая, быть учительницей, заниматься с детьми?» Я ответила, что на эти темы мы с детьми не говорили. Он подал мне ручку: «Распишись, что веришь в Бога!» Я ответила: «Что верю в Бога, подпишу», и поставила свою подпись. «Вот ты и подписала свой
38
ВЕРЮ, ПОМНЮ, ЛЮБЛЮ...
приговор», – сказал следователь. Но мне уже было безразлично, что со мной сделают.
Меня увели в камеру, где были две сестры, тоже учительницы, уже осужденные. Им дали по восемь лет лишения свободы. На следующий день мне объявили приговор тройки ОГПУ – по статье 58-10, срок – десять лет лишения свободы и пять лет ссылки. 15 лет!!!
Приговор я приняла спокойно, словно поставила точку в длинной истории, где были надежды, ожидания, предчувствия тревоги и испытания. Они проверяли на прочность всё: твою любовь, веру... Эта часть жизни была пройдена. Теперь нужны новые силы. Впереди новый, незнакомый мир. И как вызов ему прозвучала моя просьба дать мне закурить. Сестры, мои соседки по камере, курили. Мне дали папиросу, я ее искурила, попросила еще, дали еще одну, это была вторая и последняя в моей жизни выкуренная папироса. После неё я сразу уснула. А ночью меня разбудили. Нас выводили на этап. Объявили, что идем на пересылку в Мариинскую тюрьму, туда, где сидел мой папа.
Помню ночь. Крупными хлопьями идет снег. Сквозь тучи светит луна. Очень красиво. Тишина, даже конвой говорит тихо. Конвоиров много, они вокруг. Винтовки наперевес через плечо с примкнутыми штыками, на поводках злые овчарки. Собаки ведут себя неспокойно, все время рвутся в нашу сторону. Очень страшно, но конвоиры держали их крепко. Нас построили по четыре.
39
Арестованных много. Со мной в ряду с одной стороны женщина, с другой – две молодые девушки «по бытовой статье». Они говорят между собой. Почти шёпотом обсуждают план побега. Собираются сделать это, когда будем идти по мостику через ручей. Мне становится страшно за девчонок, и я вмешиваюсь в разговор, говорю, что они очень рискуют, и лучше попытаться бежать, когда нас привезут в Мариинск. Я знаю эту тюрьму, бывала там у отца. Они меня послушались. В Мариинске они действительно совершили побег, но их догнали с собаками, привели обратно в зону, искусанных, в крови. Нам их показывали для устрашения.
В Мариинской тюрьме меня узнал комендант, который принимал этап. Помнил, как я приходила к папе на свидания, приносила передачи. Я попросила его дать свидание с отцом. Через какое-то время комендант пришел и сказал, что папа ждет меня около мужского барака. Я побежала к нему, вижу он стоит на углу барака и плачет. Бросилась к нему, успокаиваю, а он говорит, что получил от мамы открытку, где она писала, что ездила в Томск, пыталась сделать мне передачу, но передачу не приняли, сказали, что меня уже нет в живых. Зачем такая жестокость? Сказать такое матери! Просто издевались. Ничего святого!
И вот теперь у папы радость – я жива, и горе – я в тоже в тюрьме. Слезы радости и слезы общей нашей с ним беды. Так мы встречались с папой десять дней.
40
ВЕРЮ, ПОМНЮ, ЛЮБЛЮ...
Папа приходил к нам в камеру. В камере было пятьдесят женщин. Он садился на стул, а я всегда вставала сзади, он плакал, все лицо было в слезах, и женщины в камере тоже плакали. Я обнимала его голову, гладила, целовала, успокаивала, как могла. Если бы я взглянула ему в лицо, мне стало бы плохо, я не смогла бы сдержаться, а я не должна была этого допустить. Поэтому я стояла всегда за его спиной, а плакала до истерики уже после его ухода. Женщины меня успокаивали, говорили, что я должна быть счастлива, что Господь дал мне возможность в тюрьме встретить отца и несколько дней быть с ним вместе, проститься с ним, а они лишены такой возможности, они навсегда потеряли свои семьи, родные не знают где они, что с ними.
Не знаю сама, что мне подсказало – на последнем свидании я обняла его и говорю: «Папочка, мне сердце говорит, что мы видимся с тобой в последний раз». Он мне ответил, что это не так, что еще нет вагонов для нас, а когда будут отправлять, комендант скажет. Но ночью подали вагоны, нас погрузили, и больше папочку я не видела. На станции наш эшелон простоял трое суток, каждый день приходил комендант и говорил мне, что папа у начальника третьего отдела просит разрешения пойти на станцию проводить меня. Прежде ему иногда давали пропуск в город, но сейчас не пускают. Все эти дни он лежал на полу перед дверью начальника, умолял, просил разрешить проститься со мной, но тот не позволил, и нас увезли.
41
Привезли нас на станцию Тайшет, разгрузили, построили по четыре человека и повели в сторону тайги. Шли очень долго. На ночь останавливались, ночевали в палатках. А на следующий день вели дальше. Впереди нас шли мужчины. Вид одного из них был очень благородный: одет в овчинную приталенную дубленку, на талии собранную в сборки, так называемая борчатка. Отделана серым каракулем, на голове серая каракулевая папаха, как у генералов. На руках меховые перчатки, тоже отделанные каракулем – их называли краги. У него была тросточка, держал он ее через плечо, и на ней висел чемоданчик. В руке он нес подушку. Сначала он бросил чемодан, потом подушку. Было видно, что ему трудно идти, он стал опираться на трость, потом пошатнулся и упал на спину со словами: «Помогите, умираю». Я бросилась к нему, но подбежал конвоир с собакой, закричал на меня, приказал отойти. Что стало с этим человеком – не знаю, больше его не видела. И это не единственный такой случай был по дороге в зону, в поселок Квиток.
В зоне нас было больше пятнадцати тысяч мужчин и пятьсот восемьдесят женщин. Мужчин разместили в палатках, а нас, женщин в двухэтажном доме. На нижнем этаже был медпункт, а на втором этаже в огромном помещении без перегородок были устроены сплошные двухэтажные нары, без матрацев и одеял. Первые дни мы спали на голых досках, потом привезли большие мешки, набитые сеном, подушки, тоже
42
ВЕРЮ, ПОМНЮ, ЛЮБЛЮ...
из сена, и солдатские, серые одеяла. Лежали мы все подряд, прижимаясь друг к другу.
Наутро нас вывели, построили в несколько рядов. Напротив – вольное начальство. Вокруг – конвоиры с собаками. Площадь зоны огорожена колючей проволокой. Вдоль изгороди, на некотором расстоянии друг от друга – вышки с охранниками. Стали вызывать по фамилии. Мы должны были назвать имя и отчество, год рождения, статью и срок. Велели пройти вдоль ряда туда и обратно, а потом говорили куда встать, в какую группу. Меня поставили в группу пожилых женщин, почти все осуждены по политической статье. Начали выводить на работу на лесоповал. Шли по четыре человека в ряд. Вокруг конвойные с собаками. И предупреждение: шаг влево, шаг вправо – оружие применяется без предупреждения.
Очередь из людей тянулась на большое расстояние – мы еще у ворот, а на лесоповале уже делят на звенья по три человека: двое валят и распиливают дерево, третий обрубает сучья. Мы вели просеку для железной дороги от Тайшета на Братск и дальше на север. Наш участок Тайшетстроя был от поселка Квиток до поселка Сосновые рудники. Местность гористая, кругом сопки.
Кроме лесоповала была и другая работа: делали кирпичи, подносили шпалы, даже заставляли нас, женщин, носить рельсы. Носили мы их одну штуку всей бригадой, и то от тяжести садились на землю, за что нас ругал
43
конвой. Хорошо, когда попадался добрый конвой, и не дай Бог, когда дежурили вредные. Когда попадались добрые охранники, они старались поставить нас в такую зону, где есть ручеек, попить воды. Нам на обед давали камбалу, пересыпанную крупной солью, а воды лишь по небольшой бутылке. Всегда очень хотелось пить. Разрешали и сорвать какую-нибудь ягоду, если, к счастью, попадется. Но если попадался злой конвоир, он делал зону так, чтобы мы видели воду, но не могли ее достать, видели ягоды, но нельзя было их сорвать. Мы просили: «Гражданин начальник, разреши взять воды», а нам отвечали: «Отойди, пристрелю». А был один такой картавый конвоир, так он говорил: «Пристрелю, а потом в изолятор посажу»,
И все же женщинам было немного легче, чем мужчинам. Мы старались следить за собой, обстирывали себя, да и духовно были крепче. Как и мужчины, мы находились в одном помещении с уголовницами, воровками, но отношения все же были более добрые. А вот нашим мужчинам было сложнее. Уголовники отбирали еду, оставляя политических голодными, и так они должны были идти на работу. Мужчины чаще стали болеть, худели, становились похожими на скелеты. И все равно каждое утро их грузили в сани и везли на лесоповал, а с работы стали привозить мертвых. Не раз мы видели, как охранники тащили за ноги такой скелет, а он головой стучит по земле. А потом трупы везли куда-то на захоронение. Я бегала за покойниками,
ВЕРЮ, ПОМНЮ, ЛЮБЛЮ...
все смотрела, нет ли кого из наших: отца, брата, дяди Иакова, моего мужа Ивана или кого-нибудь из знакомых. Я была как дурная от переживаемого ужаса. Вы только представьте себе, как культурные, образованные люди: учителя, инженеры, ученые, да простые рабочие – дерутся на помойке, отнимая друг у друга картофельные очистки, рыбьи кости, в общем, все, что выбрасывалось как пищевые отходы. Многие заболевали. Было больно смотреть на этих посиневших умирающих людей. Помню, как один бегал весь синий, совершенно голый, и вдруг упал и умер. Как я плакала, глядя на этих ни в чем не повинных умирающих людей! К концу года в зоне не осталось и половины наших мужчин, осужденных по политической статье. На этап никого не отправляли – все ушли из жизни. Ушли, словно растворились, растаяли. Ни могил, ни крестов. Помню, когда в 1938 году меня взяли в лазарет работать санитаркой, там в мученьях умирал один больной. Говорили, что москвич, артист Большого театра. Я дежурила у его постели. Он просил меня не отходить, чувствовал, что умирает. Я его успокаивала, как могла, говорила, что поправится, еще увидит семью. Надо только немного потерпеть. Его мучила жажда, попросил принести воды. Только я отошла, как услышала, что что-то упало. Повернулась – а это он. Упал с топчана, лежит на полу уже мертвый. Так закончились его мучения. Но я думала о том, что может сейчас так же в бреду, где-то на зоне умирают мои
45
близкие и дорогие: папа, Коля, Иван... Кто расскажет мне о последних минутах их жизни? И будут ли у них могилы, куда можно будет прийти, если сама буду жива, и хотя бы проститься по– христиански?..
Лето 1938 года запомнила на всю жизнь. А если попробуешь забыть, напомнят шрамы. Воскресенье, выходной день. Нашего доктора, по фамилии Олик в лазарете не было. Ночью дежурил фельдшер, старичок, тоже заключенный. Его должна была сменить медсестра Полина, осужденная по бытовой статье. Она ненавидела политических, бывшая комсомолка, нас считала врагами народа. Я в то дежурство мыла пол в палате уголовников. Вдруг меня пронзила резкая боль справа в животе. Губы посинели, стало так плохо, что фельдшер велел мне лечь в постель. Но пришла Полина и сказала, что не примет дежурство, до тех пор, пока я не закончу уборку. Мне пришлось встать и через силу продолжить мытье пола.
И тут, я считаю, по милости Божьей, в лазарет пришел доктор Олик. Ребята-уголовники из палаты сказали мне об этом, и я как была, с мокрыми руками, пошла к врачу. Доктор спросил, что со мной, почему мокрые руки. Фельдшер стал ему объяснять, что медсестра Полина не принимает у него дежурство, пока я не вымою пол. Что он, видя мое состояние, запретил мне работать и велел лежать, а Полине сказал, что готов продлить свое дежурство, но заключенная Мельникова не послушалась и продолжила мыть полы
46
У
Выслушав это доктор
Олик, сам из ссыльных
немцев с Поволжья, был
взбешен, я думала, что он
задушит Полину. Меня
срочно стали готовить к
операции. Оказалось, что
лопнул аппендикс, начал-
ся перитонит. Оперирова-
ли по живому, без нарко-
за, думали, что уже не вы-
живу. Даже шов сделали
грубый. И все же я спра-
вилась, выдержала. Док-
тор Олик спас мне жизнь.
В 1939 году Олику разре-
шили выезд домой. Он с
женой и детьми поехал на станцию Тайшет на грузо-
вой машине. Он сидел в кабине с шофером, а семья в
кузове. Дорогой грузовик перевернулся. Шофер и се-
мья врача остались живы, а доктор погиб. Ходили
слухи, что это было сделано специально.
сё, о чём я пишу, лишь малая доля того, что
пришлось пережить. Разве можно описать все
эти страдания, этапы, эту жизнь рядом с уголовника-
ми, эти темные двухэтажные нары, душевную и физи-
ческую боль? Были моменты, когда хотелось покон-
1931 г. Сестры Люба, Вера,
Зоя, Валентина
47
С. Г Федина
чить с собой. Все, что со мной произошло, изменило не только мою жизнь, но и жизнь нашей мамочки и моих сестренок: Веры, Любы, Нади и Зоиньки. Им тоже пришлось пройти нелегкий путь детей врага народа. Сердце болело: как там мама с ребятишками, без помощи, без средств к существованию. Слава Богу, Господь помог им выжить, посылал им добрых людей. Жители Лебедянки помогли мамочке сохранить и не растерять своих детей.
В конце 1939 года я получила от мамы письмо. Из него узнала, что Люба окончила школу, получила среднее образование, и уехала в Караганду. Там поступила в Горный техникум. Вышла замуж за молодого инженера, только что окончившего Горный институт, и их направили на работу в город Черемхово, неподалеку от Тайшета. А вскоре после маминого письма нас, несколько женщин и мужчин, этапом увезли в БИРЛАГ – на станцию Бира, недалеко от Хабаровска, в Саянские горы. В этом лагере были одни женщины – около десяти тысяч, и политические, и уголовные, и осужденные по бытовой статье. Жили мы в деревянных бараках, с двухэтажными нарами с проходом между ними – сделано наподобие железнодорожных вагонов. В общем, чуть лучше, чем в Тайшетлаге. К стенам прибиты дощечки с фамилиями заключенных. Бригадиром у нас была Дуся Перегудова, молодая добрая женщина. Работа была разная: лесоповал в сопках, копали землю, на которой вольнонаемные
48
ВЕРЮ, ПОМНЮ, ЛЮБЛЮ...
возделывали себе огороды. Косили траву для скота, который они держали в своих подсобных хозяйствах..
Мы, заключенные, ходили в лаптях. Как-то из дома я получила посылку – мама сшила из овечьей шкуры мне чулки, а Василий Платонович, Любин муж, послал калоши, которые он получил в качестве премии за хорошую работу. Однажды утром, когда мы стали собираться на работу, я увидела мои чулки и калоши на Нине Курбатовой, осужденной за воровство и проституцию. Я попросила ее вернуть мои вещи, она не отдает. Откуда у меня взялись силы – не знаю, но я набросилась на нее, повалила, и стала стаскивать с нее свою обувь. Она была ростом высокая, но я как-то ее одолела. Нашу драку и ее угрозы наблюдали многие женщины. А потом вышла из толпы уголовница, бандитка, которая пользовалась в своей среде большим авторитетом, и сказала во всеуслышание: «Если кто тронет Мельникову, будет иметь дело со мной!» По воровским законам я имела право защитить свою собственность, тем более в борьбе с противником, который был намного сильнее меня. Честность и справедливость были в цене и в воровской среде. Так у меня появилась крепкая защита.
Мы были разбиты на звенья по три человека. Наше звено – Нина Тембай, татарочка, Лена, фамилии не помню, и я. Звенья объединялись в бригады. В одном из звеньев нашей бригады были две монашенки и еще
49
женщина из Вятки, в другом звене была тетя Маша, как ее все звали – бывшая коммунистка, из сельхозкоммуны. Меня, дочь священника, попа, как она говорила, она ненавидела и все говорила, что убьет на лесоповале. Об этом знали все, и наш бригадир всегда расставляла нас так, что она была на одном конце делянки, а я на другом. Лес валили в одну сторону, и когда подпиливали дерево и оно должно было падать, кричали «берегись!», чтобы никого не придавило. В тот день, когда это случилось, рядом со звеном тети Маши стояло звено монашенок, а мы как обычно, на другом конце. Слышим, «берегись!», кричат монашенки. Все остановились, смотрят, куда будет падать дерево, огромный дуб. И к общему ужасу, дерево, вместо того чтобы падать вперед, поворачивается на подпиленном пне и падает в сторону тети Маши! Оно накрыло всё их звено! Мы бросились на помощь. Женщин разбросало в разные стороны, и почему-то все кинулись вынимать из-под дерева двух пострадавших женщин, а к тете Маше никто не подошел. Я подбежала к ней, сняла придавивший ее сук. Тетя Маша была без сознания. Я села на землю, положила ее голову себе на колени, и стала обливать ее водой из своей бутылочки. Она открыла глаза, посмотрела на меня, и опять потеряла сознание. Приехали санитары и увезли пострадавших в лазарет. Прошло около месяца, и из лазарета вернулись две женщины из звена тети Маши. С ними она передала для меня две картошки








