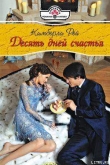Текст книги "Встречи у метро «Сен-Поль»"
Автор книги: Сирилл Флейшман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Дорога
Тихошлоссер служил думным советчиком в книжной лавке на бульваре Сен-Мишель.
Это место досталось ему по чистой случайности. До этого он был шамесом в маленькой синагоге, потом продавцом на рынке Каро-дю-Тампль и, наконец, кассиром у торговца маринованной селедкой. Там-то он и познакомился с одной продавщицей, чей брат работал в этой книжной лавке. Посреди лета их штатный думный советчик заболел ветрянкой, так что срочно понадобился заместитель. Вот продавщица и спросила Тихошлоссера, не хочет ли он попробовать себя на этом поприще. Он согласился, хотя пришлось отказаться от планов съездить на недельку отдохнуть в Трувиль, и это решило его будущее.
Сначала Виктора Тихошлоссера пригласили на недельку, потом на вторую. У него была благообразная бородка, и он показался хозяину лавки человеком серьезным. Кончилось тем, что тот предложил Тихошлоссеру остаться в этой должности, поскольку его предшественник повадился в шестьдесят три года болеть всеми детскими болезнями подряд.
Вот так, благодаря свинке с краснухой, Тихошлоссер прижился в лавке и теперь каждый день сидел там и помогал людям думать.
Подойдет кто-нибудь к нему за советом, а он ему сразу, не вставая со своего думного кресла у самой печки, и скажет:
– Имейте в виду, мое дело – только помогать вам думать, а сам я ничего не знаю.
– Поэтому я к вам и обращаюсь, – отвечал, к примеру, солидный господин в шляпе и широком пальто с ленточкой Почетного легиона в петлице. – Я ищу что-нибудь такое, что помогло бы мне достойно справиться с вселенскими противоречиями.
Виктор качал головой и, глядя прямо в глаза собеседнику, говорил:
– Хотите знать мое мнение? Когда я был кассиром в селедочной лавке, то в холодное время ставил себе под табурет маленький обогреватель, так что ногам было тепло, а голове прохладно. И никаких, как видите, вселенских противоречий!
Клиент ничего не понимал, но уходил довольный. В другой раз являлась молоденькая студентка и спрашивала:
– Как мне быть, чтобы выучиться на врача и на психолога? А еще хорошо бы заняться философией…
Тихошлоссер усмехался и отвечал, прибегая, как всегда, к собственному житейскому опыту:
– Когда я был шамесом – если угодно, служкой – в синагоге и мне надо было зажечь две свечи, что я делал? Проще всего зажечь одну, потом другую. Но мне случалось зажигать и обе сразу.
Лицо студентки озарялось улыбкой, она смотрела на него и говорила:
– Как здорово вы сказали! Все понятно!
Хозяин нарадоваться на него не мог. Хоть книг Тихошлоссер не продавал (продавцом он был никудышным, недаром еще на рынке его считали самым большим шлемилем в Третьем и Десятом округах, вместе взятых), зато он привлекал народ. А это важно для престижа.
Однажды казначей Общества бывших кассиров селедочных лавок Билантроф вышел из отеля, где окончательно договорился об аренде парадного зала, и пошел домой вдоль набережной. Стоял отличный денек, и Билантроф решил заодно прогуляться по бульвару Сен-Мишель.
Бенжамен Билантроф был человеком любопытным и способным счетоводом, причем любопытство в нем, пожалуй, было развито сильнее, чем счетоводство.
Тихошлоссер давно состоял в Обществе бывших селедочных кассиров, а с Билантрофом был знаком еще с тех пор, как тот служил кассиром у соседнего селедочника, совмещая работу с учебой на курсах счетоводов.
В ту пятницу, как уже было сказано, Билантроф ходил проверить, все ли готово к ежегодному празднику их общества. Сделав дело, он смело пошел гулять по бульвару и издали увидел, что около Виктора Тихошлоссера никого нет. Он вошел в лавку, притворяясь, будто смотрит книги. Потихоньку, шаг за шагом, забирался все глубже и, наконец, очутился рядом с приятелем.
– Не мешаю? – спросил он.
– Сделай вид, что ты клиент. Задавай мне вопросы, – ответил Тихошлоссер.
– Что, если я умру.
– Я сказал: сделай вид!
– Но раз уж я здесь, мне хочется и вправду кое о чем спросить. Представь себе, что я умер. Будет до этого дело хоть кому-нибудь на свете?
– Ну, во-первых, похоронной конторе. Ты принесешь им доход. Директор той, куда обратятся твои родственники, получит чек и будет в восторге. Похороны – дорогая штука. Хочешь дальше?
– Давай.
Твоему конкуренту тоже будет не все равно. Он с удовольствием возьмется вести счета в магазинах, которые сейчас обслуживаешь ты. Еще?
– Давай.
– Еще твоей жене. Она, конечно, будет горевать, но такая хорошенькая женщина через год выйдет за другого, может, побогаче и покрасивее, чем ты, и уж наверняка не такого занудливого.
– А еще?
– А еще твоим детям. Они потеряют отца, им будет нелегко пробиваться в жизни, и это их закалит.
– А еще?
– А еще о тебе будут жалеть соседи, но через месяц никто уж и не вспомнит, что ты жил на свете.
– А еще?
– А еще наш праздник состоится в воскресенье, как намечено. И председатель скажет: «Жаль, что Билантроф этого не увидел».
– А еще?
– А еще я потеряю друга. Но я их уже много потерял.
– А еще?
– Еще, еще! Откуда я знаю! Жизнь пойдет своим чередом.
К ним подошел хозяин лавки.
– Извините, что помешал, – сказал он. – Но когда вы закончите с этим господином, тут есть еще вопрос, который оставил другой посетитель. Он не хотел вас прерывать, поэтому изложил его письменно.
Бенжамен Билантроф шагнул было прочь, но хозяин удержал его:
– Нет-нет, не спешите, пожалуйста, спрашивайте, наш думный советчик всегда к услугам любого клиента.
Он учтиво поклонился и вернулся к своей конторке красного дерева.
Тихошлоссер распечатал конверт, внимательно прочел вопрос, улыбнулся, погладил свою бороду и сказал Билантрофу:
– Вот послушай, тебе это может быть интересно как счетоводу: «Много ли путей ведет из одного места в другое?» Что бы ты ответил на моем месте?
– Ответил бы, что логический путь только один. Ну, я пошел, уже поздно. До воскресенья.
Бенжамен Билантроф вышел расстроенный, жалея, что затеял этот разговор. Переходя улицу, он по неосторожности попал под машину, которая ехала слишком быстро и не успела свернуть в сторону, и умер на месте.
Между тем Тихошлоссер написал ответ на вопрос про множество путей, положил листок на хозяйскую конторку и, не спеша, вышел за дверь посмотреть, что там за шум и почему сбежались люди. Он увидел лежащее посреди дороги тело Бенжамена и все понял.
Тогда он вернулся в лавку, взял с конторки листок, приписал еще несколько слов и приделал вежливую концовку. Получилось вот что:
«Ответ: есть много путей, ведущих из одного места в другое. Но и дорога – место, и место может быть дорогой. Главное, просто жить и не задавать слишком много вопросов. Будьте здоровы, привет семейству».
Он подчеркнул слово «жить» и переключился на что-то другое.
Последний путь
Мендель позаботился, чтобы в объявлении, размещенном в «Унзер ворт» и «Франс-суар», все было точно указано:
«Сбор перед отелем „Модерн“ на площади Республики, оттуда на кладбище Баньо в 14.30 отбывает автобус».
Сам-то он мог бы явиться прямо на кладбище, но раз автобус придет на площадь Республики, обидно им не воспользоваться. Тем более соберется много друзей. Впрочем, может, и не так много…
Мендель знавал «Модерн» в те времена, когда он был все равно что отель «Ритц» для парижского еврейства. У него самого никогда не хватило бы денег провести там хоть сутки, но после войны он работал на одну провинциальную фирму, глава которой, приезжая в Париж, всегда собирал там своих агентов.
А в 1949-м или, может, в 1951 году он был там в Йом Кипур – Общество выходцев из Д***, его родного польского местечка, арендовало зал для богослужения.
В стенах роскошного отеля наверняка происходило немало других замечательных событий, но Менделя Рогинкеса все они никак не касались.
И вот сегодня, как принято, процессия двинется именно с этого места.
Однако вот уже двадцать минут третьего, а автобус еще не прибыл.
Люди переговаривались, что-то друг другу рассказывали, а он там, наверху, ни с кем не мог поговорить и тихо злился. Может, в самом деле лучше было отправиться прямо на Баньо… Одно утешение: без него, уж точно, не начнут. Но он не любил заставлять людей ждать.
Правда, когда у него еще была машина, ему и самому нередко случалось опаздывать на Баньо из-за пробок у Орлеанской заставы.
Например, в 1959-м он опоздал на похороны бывшего казначея Общества уроженцев Д***. Застал самый конец церемонии, если это можно назвать церемонией, еще бы десять минут – и все.
Когда он пришел, все уже собирались в кафе перед главным входом – выпить по чашке кофе. «Считай, ты ничего не пропустил, – сказали ему. – Не успели закончить молитву, как уже опустили гроб. Дети покойного так спешили, что никто и слова сказать не успел. Стыд и позор!»
Но это было давно. Сегодня у Менделя Рогинкеса совсем другие заботы.
Наконец автобус прибыл, и люди стали в него садиться.
Мендель смотрел довольный – вид у ритуального автобуса был очень приличный!
Похороны – вещь исключительно важная, и хорошо, что он обо всем распорядился заранее, как только почувствовал, что заболел всерьез.
А сколько родных между сороковым и сорок четвертым остались без погребения: Мотек и его дети, Мотеле со всей семьей, Пиня с женой, детишки Шмуэла. кто еще? Всех сразу и не вспомнишь. Но однажды он точно подсчитал: семьдесят два человека из его родни так и не были похоронены.
В те годы дела у похоронных бюро, прямо сказать, шли неважно. В польских деревнях трупы убитых просто заливали известью. А в лагерях сжигали.
Многие хоть и вернулись, но долго не протянули и, испуская последний вздох в сорок шестом – сорок седьмом, были счастливы, что их по-человечески похоронят. А уж как скоро поумирали потом остальные, кто их знает! Нельзя же всю жизнь только и делать, что вспоминать давно пережитые мелкие неприятности!
Так или иначе, но автобус фирмы, с которой он подписал договор, блестел, как новенький, благородно серым лаком. Цвет он оговорил особо. Окажись у них автобусы небесно-синие, он бы выбрал такой, но пришлось довольствоваться тем, что есть. И так-то обошлось недешево.
Сверху Менделю были видны пробки на дороге, однако на этот раз спешить некуда. Главное, автобус тронулся, а там уж пусть себе ползет, лишь бы не попал в аварию.
Он издалека слушал разговоры. Машинально пересчитал людей в автобусе. Один, два, пять, одиннадцать. Всего одиннадцать. Среди них старый приятель Ицик, мадам Самюэль, двое поставщиков и два брата Гиткера.
Ну-ка, еще разок: да, одиннадцать человек, вернее, десять – мадам Самюэль, женщина, не в счет. Что ж, в обрез.
На подъезде к Орлеанской заставе он снова заглянул в автобус. Закралось сомнение: что, если те двое, которых он не знал, не евреи? Тогда не будет миньяна, молитвенного кворума из десяти мужчин.
Он постарался отогнать тревогу: наверняка кто-нибудь еще подоспеет на городском автобусе или на машине.
И если это будут не одни женщины – такие же, разумеется, старухи, как мадам Самюэль, миньян обеспечен.
Впрочем, даже если десятка евреев не наберется, этот новомодный хазан, поименованный в договоре с похоронным бюро служителем культа, – где только они берут таких! – может и не заметить.
Вон он сидит, в черной мантии и какой-то скуфейке, как у католического кюре или православного попа, которую напялил только что, – видно, вспомнил о сане.
Если бы у души Рогинкеса сохранились глаза, он возвел бы их к небесам и вздохнул: ну и времена настали! Этот хазан мог быть ровесником его внука, если б у него имелся хоть один внук. И почему он обрядился с черную мантию, будто судья? Не мог, как нормальные люди, надеть пальто и шляпу? Еще умеет ли он молитвы читать? Небось иврита как следует не знает. Может, фирма прислала его только так, для видимости? Неизвестно.
Автобус подъехал к главному входу на кладбище. Мендель увидел кафе, в котором столько раз поминал усопших товарищей.
Что ж, теперь ничего не изменишь, будь что будет.
Охранник поднял шлагбаум и пропустил автобус.
Приехали.
Добрались, ничего не скажешь, довольно шустро. Абы кто от площади Республики до Баньо за полчаса не доедет. Хазана, может, и фальшивого подсунули, зато водитель, уж точно, настоящий. Ну ладно, хоть не зря денежки отдал.
Дух Менделя взлетел повыше и обозрел процессию: ага, тело, оказывается, тоже тут. Его привезли еще раньше. Прямо из больницы, где он умер. В фургоне такого же элегантного серого цвета, что и автобус. Не придерешься!
Фургон, а за ним автобус медленно двинулись по большой аллее к центральной площадке.
Насчет миньяна Мендель, конечно, дал маху, в другой раз будет умнее и потребует внести это в счет отдельной статьей, для гарантии. А в остальном все вроде бы шло неплохо.
Но когда кортеж, обогнув площадку, стал сворачивать в боковую аллею, к предусмотренному договором месту упокоения бренного тела, Мендель вдруг улыбнулся: кому теперь нужен счет, кому нужна твердая гарантия? Полный порядок гарантирован по определению.
И дух его отлетел высоко в поднебесье.
Мендель Рогинкес отбыл.
Ушел туда, откуда нет возврата.
Пикник. Встреча у метро «Сен-Поль»
Раз в год, в первое воскресенье июля, писатель собирал всех своих героев и отправлялся с ними в Булонский лес.
Встречались у метро «Сен-Поль» в десять утра. Доезжали без пересадки до «Порт-Майо», а дальше шли пешком. Корзинки со снедью брали с собой.
В этом году из сотни ныне живущих героев не поленились прийти всего десятка два.
Усопшие прилетели с кладбища Баньо, перемахнув через улицу Сент-Антуан. Эти всегда являлись неукоснительно: как-никак развлечение.
Кто-то из отсутствующих заболел, кто-то нашел другой предлог. В общем, народу набралось немного.
Не явились герои, которые были обижены на автора и хотели отомстить ему, подпортив праздник. Одни жаловались на маленький тираж книжки, в которой они фигурировали. Другим казалось, что автор поленился и выписал их бледновато. А некоторые и вовсе полагали, что, если б им только разочек показали, как пишутся рассказы, они бы сами написали их гораздо лучше.
Ну так вот, в пять минут одиннадцатого живых героев около метро топталось человек двадцать, не больше, они грелись на солнышке и ждали, пока писатель раздаст им билетики на метро. Тут были Рита Нихбрейт и Флора Бутерфлаг. И очень хорошо, что они присутствовали, потому что именно они отвечали за еду на пикнике. Правда, кто-то из героев прихватил с собой пару килограммов мацы, оставшейся с прошлой Пасхи, но есть мацу в неположенное время – кощунство.
Главный расчет был на припасы Флоры Бутерфлаг. Рита Нихбрейт в этом смысле ей уступала. Хотя не было случая, чтоб у кого-нибудь разболелся живот от Ритиного торта, сделанного из разболтанных в воде четвертинки желтка, щепотки соли, щепотки муки и щепотки сахара. Нельзя сказать, чтоб он был нехорош. Люди ели, а когда Рита спрашивала: «Вкусный?» – вежливо отвечали: «Просто воздушный».
Наконец вся компания двинулась вниз по лестнице на станцию «Сен-Поль», такую же воздушную, как торт Риты Нихбрейт, – сквозняк на сквозняке. Писатель возглавлял шествие.
Подошел поезд, все влезли в вагон.
Что же до покойных героев с Баньо, они полетели напрямик через весь Париж: над улицей Риволи, площадью Конкорд, Елисейскими Полями, площадью Этуаль, до заставы Порт-Майо. Билетиков для этого группового перелета не требовалось.
От метро шагали к Булонскому лесу. Последними шли Рита и Флора с семьями, нагруженные корзинками. Души мертвых бодро летели по воздуху, им было приятно побыть с людьми, которые помнили их живыми.
Стоял чудный денек. На станции детской железной дороги столпились ребятишки. Духи послали им благословение с небес; возможно, когда-нибудь эти невинные создания вырастут в негодяев, но пока, в то воскресное утро, они светились счастьем, весельем и чистотой.
Стали выбирать местечко, где расстелить скатерть и начать пикник.
Кто-то сказал:
– Зачем еще куда-то идти, хорошо и тут! Да и кому интересно, где расположатся на пикник мелкие литературные персонажи!
А кто-то продолжил:
– Да кому вообще интересно читать рассказики, в которых нет ни одного порядочного героя! Лично я ни за что не стал бы покупать такую дребедень. Вот если бы наш автор сочинял истории с настоящими, достойными героями, то и пикник был бы ого-го! Тут у нас сидели бы большие люди, а не какие-нибудь бутерфлаги или…
– Вам, может, еще захочется, чтобы наш автор писал про знаменитостей, разных там баронов, с которыми не посидишь на травке да не поговоришь попросту и которые приходят на пикник с собственным поваром? Лично мне и так хорошо. Мне великие не нужны! А не нравится моя стряпня – можете не есть!
– Ничего подобного я не говорил. Но согласитесь, если б тут, среди нас, был бы кто-нибудь выдающийся, какой-нибудь политик или певец…
– А я, между прочим, лауреат Нобелевской премии, – вмешался один из героев.
– У нас тут нобелей навалом! – закричали со всех сторон. – Хорошо хоть, не все заявились на пикник. Разве это знаменитости! Конечно, раз уж вы пришли, отлично. Но никому от этого не холодно, не жарко. Тоже мне удивил – нобелевский лауреат!
– Да, но я, между прочим, нобелевский лауреат по игре в покер!
– Хватит спорить, – вмешалась Рита. – Давайте лучше подкрепимся.
Души тоже опустились на лужайку. Рита предложила одной из них кусочек торта, но та отказалась:
– Мы не едим. Нам только посмотреть. Не стесняйтесь, смотреть на вас – для нас большое удовольствие, больше ничего и не надо.
В то воскресное июльское утро все они хорошо отдохнули.
И только автор грустно стоял поодаль, прислонившись к дереву.
Скоро, думал он, настанет вечер и живые герои получат билетики на обратный путь.
А мертвые вернутся к себе на кладбище.
И может быть, подумал еще автор, вся наша вечная печаль навеяна нехитрыми историями, что происходят вот в такие, необязательно июльские, воскресные или будние дни, с участием пестрых героев, которые в свой час должны исчезнуть.
Новые встречи у метро «Сен-Поль»
Даниэле, конечно
Прощание с месье Трувилем
Все началось с того, что в июле 1953 года, перед самой свадьбой дочери Троцкинда, Брандфлек уехал на недельку отдохнуть и не соблаговолил присутствовать на церемонии бракосочетания. Прошло много лет, дочь Троцкинда обзавелась детьми и внуками, самому Троцкинду пошел девятый десяток, но он не забыл оскорбления, нанесенного ему в тот день, а смерть Брандфлека стала для него новым ударом: она лишила его смысла жизни, который в том и состоял, чтобы лелеять давнюю обиду.
Да и как было не обидеться!
Такая роскошная свадьба на улице Турнель, такой пышный прием, в таком красивом зале, а этот мерзавец Брандфлек, сосед и лучший друг, не может выбрать другого времени, чтобы съездить в Трувиль! Стыд и срам!
Добрых двадцать лет, пока Брандфлек был еще жив, Троцкинд ни разу не отказал себе в удовольствии, столкнувшись с бывшим другом на лестнице или на улице, заглянуть ему в глаза и сказать:
– С месье Трувилем не здороваюсь!
Брандфлек пожимал плечами или делал вид, что не обращает внимания, но Троцкинд чувствовал: ему неприятно! Теперь же, когда Брандфлека не стало, Троцкинд лишился ближайшего врага и сам потихоньку начал угасать.
Но вот в один прекрасный день, прогуливаясь в сквере на площади Вогезов, он вдруг увидел долговязую фигуру Брандфлека. Как это может быть? Ведь Макс Брандфлек вот уж полгода как скончался. И все же это он – сидит себе на скамейке, на своем любимом месте, и читает «Унзер ворт», газету на идише.
Это было немыслимо, но Троцкинд на своем веку немыслимых вещей повидал немало и уже ничего не боялся. Он подошел поближе и щелкнул по газете:
– Макс? Это ты?
Брандфлек поднял голову, спокойно сложил номер «Унзер ворт», сунул его в карман пальто, встал со скамейки и сказал:
– Я самый. Удивительное дело – ты больше не зовешь меня «месье Трувиль»? Приятная новость.
Троцкинду не понравился его тон.
– Ты что же, издеваешься? Опять?
Брандфлек махнул рукой, повернулся и пошел прочь. Уголок сложенной газеты торчал из кармана его бежевого пальто. Но Троцкинд бросился за ним и схватил за рукав:
– Э нет, любезный друг, на этот раз ты не уйдешь, пока не выслушаешь все, что я хочу тебе сказать. Это очень-очень важно.
Брандфлек обернулся и с насмешливой гримасой сказал:
– Пожалуйста. Послушаю, раз ты так хочешь! Что там такого важного, что ты никак не успокоишься?
Троцкинд набычился, усадил его обратно на скамейку и заговорил:
– Во-первых, ты прекрасно мог закрыть свой магазин не до, а после четырнадцатого июля. Во-вторых, раз уж тебе так приспичило укатить в Трувиль, кто тебе мешал сесть в поезд, прямой или с пересадкой в Лизье, и приехать на денек в Париж, чтобы меня уважить. В-третьих, если ты, допустим, действительно никак не мог приехать, в Трувиле существует почта, и можно было отправить телеграмму. И наконец, в-четвертых, ты уж точно мог бы постараться надеть хороший теплый свитер, чтоб не простудиться и не попасть на кладбище раньше меня!
– Да тут-то чем я виноват?
– Он спрашивает, чем он виноват! – воскликнул Троцкинд и воздел руки, взывая к нависшим над скамьей деревьям.
Тут его тронул сзади за плечо прохожий, который совершал обычный моцион по скверу. Троцкинд вздрогнул и обернулся:
– Что, что такое?
Прохожий смущенно высморкался и сказал:
– Да ничего. Просто я проходил мимо, услышал, что вы разговариваете сами с собой, и решил вас поприветствовать. Как поживаете?
Сидящего на скамейке Брандфлека он вроде и не заметил, а Троцкинд не спешил его представить.
– Спасибо, не жалуюсь, – вяло пробормотал он. – А вы?
Прохожий также поблагодарил и, убедившись, что Троцкинд не расположен к беседе, пошел своей дорогой. А Троцкинд снова повернулся лицом к Брандфлеку, успевшему опять погрузиться в чтение «Унзер ворт». И снова щелкнул по раскрытой газете:
– Я с тобой еще не закончил!
Брандфлек посмотрел на него, удивленно подняв брови:
– Как, еще что-нибудь?
– Ты знаешь, какой оркестр играл на свадьбе у моей дочери? Семеро музыкантов! Те же, что были на вечеринке нашего землячества в отеле «Модерн».
– Дирижировал Ицик? – оживился Брандфлек.
– Да. А пела Соня. Теперь она, как и ты, уже умерла, а какая была певица! У меня есть ее пластинка.
– Хорошая?
– Конечно. В ней намного больше оборотов, чем в нынешних. Но только теперь такие пластинки уже не послушаешь – для них не делают проигрывателей. Так вот, – спохватился он, – скажи мне наконец: почему ты уехал ровнехонько тогда, когда была свадьба моей Фани?
– Брандфлек тяжело вздохнул – настырный Троцкинд надоел ему до чертиков! – опять сложил газету, встал и сказал:
– Ну все, я пошел обратно, в Баньо.
Но тут уж Троцкинд окончательно взбесился. Вцепился в рукав бежевого пальто и заорал:
– Нет, не все! Почему, я хочу знать, почему в тот раз тебе понадобилось отдыхать в начале июля, хотя много лет подряд ты ездил отдыхать в конце?
– Мало ли что, – уклончиво ответил Брандфлек, выдирая свой рукав. – Не всегда же все бывает одинаково.
– Это не ответ! Скажи мне правду, и я отпущу тебя с миром.
Брандфлек опять вздохнул:
– Ты хочешь правду? Что ж, пожалуйста! Я, видишь ли, всю жизнь терпеть не мог всяких торжественных сборищ. Тоже мне удовольствие: надеваешь на шею удавку, набиваешь живот, когда вовсе не хочется есть, сидишь за столом рядом с людьми, с которыми не знаешь, о чем говорить, и не чаешь, как бы поскорее улизнуть. Поэтому и свадьбы ненавижу! Будь моя воля, я и на свою-то собственную не пошел бы, а уж на свадьбу твоей дочери. И когда ты сказал, что она будет в июле, я решил уехать отдыхать пораньше. Вот тебе и вся правда! Ты ни при чем, поверь, я вовсе не хотел тебя обидеть. И прости, прошу, прости меня!
Он говорил так искренне, что Троцкинд не мог не поверить. Обида его растаяла. Но все равно, это было ужасно: лучший друг – вот он, кажется, рядом, но его нет на свете!
Брандфлеку в самом деле пора было возвращаться на кладбище. Троцкинд разжал пальцы, рукав пальто так и остался мятым. Он стоял как потерянный, почти забыв про давнее оскорбление, а Брандфлек, со старой «Унзер ворт» в кармане бежевого пальто, пятился и пятился к воротам сквера, пока совсем не растаял вдали.
Когда же он окончательно исчез, ненависть с новой силой вспыхнула в Троцкинде. Настоящая, жгучая ненависть.
Он ненавидел Брандфлека за то, что того нет в живых. Потому что смерть – ужасная несправедливость. И потому что у него уж никогда не будет друга.