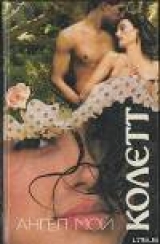
Текст книги "Конец Ангела"
Автор книги: Сидони-Габриель Колетт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
«Ах, – вздохнул он, – никогда они ничего не понимают, эти женщины… То было совсем другое…»
Так он сидел и размышлял, без шляпы, с влажными волосами, почти растворившись в тумане. Перед ним промелькнул силуэт женщины. Резкий скрип каблуков по гравию был торопливым, тревожным, и вот уже женская тень метнулась к мужской тени, возникшей с другой стороны, прильнула, уронила голову, словно подстреленная.
«Эти двое скрываются, – подумал Ангел. – Кого они обманывают?.. Все кругом обманывают. А я…» Он не закончил мысль и вскочил на ноги, охваченный отвращением, смысл которого был совершенно ясен: «А я – чист». Слабый свет, постепенно проникавший в глубинные, неведомые ему до сих пор пласты и залежи, уже начал открывать ему, что чистота и одиночество – две стороны одного и того же несчастья.
Было уже поздно. Ангел озяб. Бодрствуя бесцельно и подолгу, он узнал, что ночные часы не похожи один на другой и полночь – это время тёплое по сравнению с часом, предшествующим рассвету.
«Скоро зима, – подумал он, ускоряя шаг. – Наконец-то мы разделаемся с этим бесконечным летом. Я хочу этой зимой… этой зимой…» Ему внезапно расхотелось строить планы, он сник и остановился, словно лошадь, издали увидевшая крутой подъём.
«Зимой по-прежнему будут моя жена, моя мать, старуха Ла Берш и все эти, как бишь их там зовут… В общем, все эти типы. И уже никогда для меня не будет..»
Он стоял и смотрел, как несётся над Булонским лесом вереница низких облаков, неуловимо отсвечивающих чем-то розовым, как ветер прибивает их к земле, корёжит, треплет, волочит за туманные лохмы по лужайкам, а потом снова уносит к самой луне. Ангел привычно любовался световыми феериями ночи, которую спящие считают чёрной.
Широкая и плоская луна, подёрнутая дымкой, выплыла из мчащихся клубов тумана, словно отгоняя их, чтобы проложить себе путь, но Ангел даже не заметил этого, погружённый в бессмысленную арифметику: он подсчитывал годы, месяцы, дни и часы драгоценного времени, упущенного навеки.
«Если бы тогда, перед войной, когда я к ней пришёл, я остался с ней, это было бы три, даже четыре хороших года, сотни и сотни выигранных дней и ночей, спасённых для любви…» Он не дрогнул от столь громкого слова.
«Несколько сотен дней жизни – той жизни, прежней. Жизни с моим заклятым врагом, как она себя называла… Ах, мой заклятый враг, ты прощала мне всё и не давала спуску ни в чём…» Он мял и теребил своё прошлое, выжимая из него остатки сока на бесплодную пустыню настоящего, воскрешал – а порой и выдумывал – своё царское отрочество под опекой двух больших и сильных женских рук, любящих и карающих. Долгое восточное отрочество в холе и неге, в котором наслаждение присутствовало, как паузы в песне… Роскошь, капризы, детская жестокость, бессознательная верность… Ангел вскинул голову к перламутровому диску, стоявшему в зените, и глухо воскликнул: «Всё пропало! Мне тридцать лет!»
Он заторопился домой, ругая себя под стук своих быстрых шагов. «Дурак! Самое ужасное – это не её возраст, а мой! Для неё, по-видимому, всё позади, а для меня…»
Бесшумно открыв дверь, он вошёл в дом, наконец-то затихший, и к горлу сразу же подступила тошнота от запаха тех, кто там недавно пил, ел и танцевал. Дверное зеркало в вестибюле показало ему похудевшего молодого человека с жёсткими выступающими скулами, красивым печальным ртом в чуть заметной синеве не бритых со вчерашнего утра щёк, с большими глазами, трагическими и настороженными, – словом, молодого человека, который неведомо почему больше не был двадцатичетырёхлетним.
«Для меня, – завершил Ангел свою мысль, – итог, по существу, ясен».
– Понимаешь, всё, что мне надо, – это спокойный угол… Небольшая квартира, гарсоньерка, любое пристанище…
– Я не маленькая, – обиделась Подружка.
Она возвела к потолку с лепными гирляндами безутешные глаза.
– Боже мой, немного грёз, чуть-чуть романтики и ласки для бедного мужского сердца… Как же не понять! У тебя есть пристрастие?
Ангел нахмурился.
– Пристрастие? К кому?
– Ты неверно меня понял, деточка. Пристрастие к каким-то определённым районам.
– А-а… Нет, мне всё равно. Любое тихое место.
Подружка закивала с понимающим видом.
– Ясно, ясно. Что-нибудь вроде моей квартирки. Ты знаешь, где я обитаю?
– Да…
– Ничего ты не знаешь. Я уверена, что ты так и не записал адрес. Улица Вилье, двести четырнадцать. Квартира небольшая, и район не особенно шикарный. Но вряд ли ты ищешь гарсоньерку, чтобы быть на виду?
– Нет, нет.
– Мне эта квартира досталась благодаря тому, что мы поладили с хозяйкой. Это не женщина, а просто чудо. Замечу в скобках, замужняя или вроде того. Прелестная птичка с сиреневыми глазами, но на лбу у неё печать рока, и карты мне уже открыли, что она ни в чём не знает меры и…
– Да, да… Ты сказала, что у тебя есть на примете кое-что для меня.
– Кое-что есть, но недостойное тебя.
– Ты так считаешь?
– Тебя… Вас!
Подружка многозначительно захихикала, пряча ухмылку в стакане виски с раздражающим запахом потной лошадиной сбруи. Ангел терпел её шутки по поводу своих несуществующих любовных похождений, потому что на её пористой шее белела нитка крупных полых жемчужин, которые были ему знакомы. Всякий живой след прошлого останавливал его на пути, по которому он незаметно спускался всё дальше вниз, и эти остановки дарили ему передышку.
– Ах, – вздохнула Подружка, – как бы мне хотелось хоть издали на неё взглянуть. Какая пара!.. Я её не знаю, но представляю себе вас вместе!.. Ты, конечно, хочешь её обставить?
– Кого?
– Да свою квартирку!
Он озадаченно посмотрел на Подружку. Обставить? Чем? Он мечтал только об одном: иметь убежище, куда не приходил бы ни один человек, кроме него самого, в таком месте, о котором не знали бы ни Эдме, ни Шарлотта, никто…
– Ты предпочитаешь современный стиль или старинный? Красавица Серрано обтянула свой первый этаж ни много ни мало испанскими шалями, но это чересчур экстравагантно. Впрочем, ты уже взрослый и сам знаешь, что тебе надо…
Ангел едва слушал её, поглощённый попытками представить себе своё будущее тайное жилище, тесное, тёплое и тёмное. Он потягивал смородиновый сироп, как барышни довоенной поры, сидя в красноватом баре, старомодном и неизменном, оставшемся точно таким, как в те времена, когда Ангел ребёнком посасывал здесь через соломинку водичку с соком… Не менялся и сам бармен, а сидящую напротив него увядшую женщину Ангел никогда и не знал молодой и красивой…
«Моя мать, моя жена, их знакомые – весь этот круг меняется и живёт для того, чтобы меняться… Моя мать может сделаться банкиршей, а Эдме – муниципальным советником. А я…»
Он поспешил вернуться к мыслям о своём будущем пристанище, находящемся в неизвестной точке пространства, но которое будет тайным, тесным, тёплым и…
– У меня дома всё в алжирском стиле, – продолжала Подружка. – Это уже не модно, но мне всё равно, тем более что мебель мне отдали. Я расставила там всякие памятные вещи, развесила фотографии добрых старых времён – ты наверняка их видел, – в том числе и портрет Малышки… Приходи посмотреть, мне будет очень приятно.
– С удовольствием. Поехали!
Ангел с порога подозвал такси.
– Ты опять без машины? Почему? Это всё-таки поразительно: люди, у которых есть машины, никогда на них не ездят!
Она подобрала свою поношенную чёрную юбку, защемила шнурок лорнета замочком сумки, уронила перчатку, с негритянской невозмутимостью игнорируя взгляды прохожих. Ангел получил из-за неё не одну оскорбительную улыбку и сострадательное восхищение молодой женщины, громко воскликнувшей: «О Боже, какое сокровище зря пропадает!»
В автомобиле он сквозь дремоту слушал болтовню старухи. Она рассказывала ему сладостные истории про собачку, весившую меньше килограмма, которая в 1897 году сорвала скачки, про баронессу де Ла Берш, в девяносто третьем похитившую невесту прямо со свадьбы…
– Приехали. Открой мне дверцу, Ангел, а то её, кажется, заело. Предупреждаю тебя, вестибюль у нас не освещается. Как видишь, и вход тоже… Но квартира… Постой здесь минутку…
Ангел стоял в темноте и ждал. Он прислушивался к позвякиванию связки ключей, к пыхтению страдающей одышкой старухи, говорившей голосом хлопотливой прислуги.
– Сейчас я включу свет… Ты попадёшь в знакомую атмосферу. Само собой, тут есть электричество. Позволь показать тебе мою маленькую гостиную, которая одновременно и моя большая гостиная.
Он вошёл, из вежливости, не глядя, похвалил комнату с низким потолком и тускло-вишнёвыми стенами, потемневшими от дыма выкуренных здесь бесчисленных сигар и сигарет. Ангел инстинктивно огляделся в поисках окна, закрытого ставнями и занавесками.
– Тебе темно? Да, ты ведь не старая сова, как я… Подожди, я зажгу верхний свет.
– Не стоит… Я на минутку и…
Взгляд Ангела упал на наименее тёмную стену, сплошь увешанную фотографиями в рамках и просто держащимися на кнопках. Он осёкся и замолчал. Подружка рассмеялась:
– Я же говорила, ты попадёшь в знакомую атмосферу. Я была уверена, что ты не пожалеешь. У тебя такой нет?
Перед ним был большой фотопортрет, подмалёванный выцветшей акварелью. Голубые глаза, смеющийся рот, шиньон из светлых волос, спокойный взгляд не слагающей оружия победительницы… Высокая талия в стиле наполеоновских времён и просвечивающие сквозь газовую ткань ноги, ноги бесконечной длины, округлые наверху, тонкие в коленях… И щегольская шляпа с полями, заломленными с одной стороны, словно одинокий парус, надувшийся от ветра…
– Держу пари, что такой у тебя нет. Леа тут настоящая фея, богиня! Небожительница! И в то же время какое сходство! По-моему, это самая лучшая её фотография, но мне нравятся и другие. Вот, например, эта, поменьше. Взгляни, она более поздняя. Ну разве не чудо?
На моментальном фотоснимке, приколотом к стене ржавой булавкой, темнела женская фигура на фоне светлого сада…
«Это же её тёмно-синее платье и шляпа с чайками!» – подумал Ангел.
– Я лично за лестные портреты, – продолжала Подружка, – вроде вот этого. Скажи по совести, ну как тут не упасть на колени и не уверовать в Бога?
Пошлое, сусальное художество подсластило «фотооткрытку», удлинило шею, чуть уменьшило рот. Зато нос с небольшой горбинкой, восхитительный нос, его победоносные крылья и чистая целомудренная складка, мягкая бороздка над верхней губой остались нетронутыми, даже ретушёр не посмел на них посягнуть.
– Веришь ли, она хотела всё это сжечь, потому что, видите ли, никому больше не интересно, какой она была когда-то! Во мне всё закипело, я стала кричать, как будто меня режут, и она мне их все отдала, а заодно подарила ридикюль со своим вензелем…
– Что это за тип с ней рядом?
– А? Что ты говоришь? Погоди, я уберу шляпу…
– Я спрашиваю, кто этот тип, вот здесь… Сколько можно копаться?..
– Боже мой, что за спешка? Где? Да это же Баччиокки! Конечно, ты не можешь его помнить, он был на два круга раньше тебя.
– Два – чего?
– После Баччиокки у неё был Сетфон, хотя нет, постой, Сетфон был раньше… Сетфон, потом Баччиокки, потом Спелеев, потом ты. Ха, как тебе нравятся эти панталоны в клеточку? Смешная была тогда мода у мужчин!
– А эта фотография какого времени?
Подружка, уже без шляпы, вытянула голову, и Ангел отступил в сторону – от её растрёпанной примятой причёски пахло париком.
– Это она на скачках в Отёйле – вижу по платью – в… восемьдесят восьмом или в восемьдесят девятом. Да, в год Международной выставки. Тут, мальчик мой, надо обнажить голову. Таких красавиц больше нет.
– Ну уж! Я вовсе не нахожу в ней ничего особенного.
Подружка стиснула руки. Без шляпы, с крашеными зеленовато-чёрными волосами над жёлтым открытым лбом она выглядела намного старше.
– Ничего особенного! Ты только посмотри на эту талию, которую можно обхватить пальцами! А лилейная шейка! А платье! Небесно-голубое, всё из шёлкового муслина, милый ты мой, со вздёржками, украшенными тесьмой с розочками, и такая же шляпа! И ещё такая же омоньерка – эти сумочки назывались «омоньерки»… Как хороша! У неё был незабываемый дебют, настоящая заря, восход солнца любви!
– Дебют в чём?
Подружка легонько толкнула Ангела в бок.
– Вот тебе и раз! Ну и насмешил ты меня! Ах, ты и вправду можешь скрасить закат жизни!..
Ангел отвернулся к стене, чтобы скрыть негодующее выражение лица. Он сделал вид, будто заинтересовался ещё несколькими Леа – одна из них нюхала искусственную розу, другая держала книгу со старинной застёжкой, склонив широкий затылок и гладкую шею без единой морщинки, белую и круглую, как ствол берёзы.
– Ну, что ж, я пошёл, – сказал он, как Валерия Шенягина.
– Как это, ты пошёл? А моя столовая? А спальня? Взгляни хотя бы, дитя моё! Может, тебе не подойдёт такая гарсоньерка?
– Ах да… Знаешь, не сейчас, дело в том, что…
Он с опаской покосился на бастион фотографий и понизил голос:
– У меня назначена встреча. Но я приду… завтра. Скорее всего, завтра, во второй половине дня.
– Ладно. Значит я могу считать, что всё в порядке?
– С чем?
– С квартирой.
– Да. Разумеется! Жди. И спасибо тебе.
«Не понимаю, ей-Богу, что за времена. Старики, молодёжь – все как будто соревнуются в гнусности… На два «круга» раньше меня… И ещё это словечко «дебют»… "Незабываемый дебют", как сказала старая паучиха. И всё это среди бела дня… Право, что за люди!..»
Он заметил, что взял спортивный темп и запыхался. Далёкая гроза, гремевшая в стороне от Парижа, отвесной лиловой стеной преградила путь малейшему ветерку. На укреплениях, на бульваре Бертье, немногочисленная толпа парижан в парусиновых туфлях и полуголых детей в красных майках, казалось, ждала под поредевшей от жары листвой, что от Леваллуа-Перре к ним вот-вот хлынет морской прибой. Ангел присел на скамейку, не задумываясь о том, что его здоровье, незаметно пошатнувшееся с тех пор, как он стал растрачивать его на бессонные ночи и пренебрегать едой и гимнастикой, подводит его теперь на каждом шагу.
«Два круга! Подумать только! За два круга до меня! А сколько после меня? А если сложить всех вместе, включая меня, то сколько же получится кругов?»
Он вспомнил Спелеева, высокого, широкоплечего, смеющегося, рядом с Леа, одетой в тёмно-синее платье, с чайками на шляпе. Вспомнил, как Леа, грустная, вся красная от слёз, гладила его, совсем ещё маленького, по голове и называла «противным мужчинкой».
Любовник Леа… Новое увлечение Леа… Ничего не значащие слова, привычные, как прогноз погоды, как результаты скачек в Отёйле, как мелкие кражи прислуги. «Пошли, малыш, – говорил Спелеев Ангелу, – выпьем портвейна в Арменонвиле и подождём Леа, я никак не мог вытащить её сегодня из постели».
«У Леа премиленький новый Баччиокки!» – объявила госпожа Пелу сыну, когда ему было лет четырнадцать-пятнадцать.
Но, испорченный и чистый одновременно, свыкшийся с существованием любви и ослеплённый её соседством, Ангел в ту пору говорил о любви, как дети, которые запоминают без разбора все слова, ласковые и скабрёзные, но усваивают лишь их звучание, за которым для них ничего не стоит. Никакие реалистические чувственные картины не возникали у него в голове при виде великана Спелеева, только что вставшего с постели Леа. А этот «премиленький новый Баччиокки» – разве была какая-то разница между ним и «чудненькой новой болонкой»?
Ни письма, ни фотографии, ни упоминания о прошлом, которые могли обладать достоверностью только в одних устах, – ничто никогда не проникало в тесный рай, где жили вместе Леа и Ангел на протяжении долгих лет. Почти ничего не было в жизни у Ангела до Леа – так могло ли его заботить, какие события до него вели его подругу к зрелости, печалили, обогащали.
Светловолосый мальчик с толстыми коленками упёрся скрещёнными ручками в скамейку рядом с Ангелом. Они уставились друг на друга одинаковым обиженно-настороженным взглядом, ибо для Ангела дети были существами с другой планеты. Мальчик долго смотрел в глаза Ангелу, и тот увидел, как маленький анемичный ротик и светло-голубые, словно цветы льна, глаза сложились в непередаваемую улыбку, полную презрения. Потом ребёнок отвернулся, подобрал в пыли свои грязные игрушки и принялся играть у самой скамьи, исключив Ангела из этого мира. Тогда Ангел встал и ушёл.
Через полчаса он уже лежал в тёплой душистой воде, чуть замутнённой ароматическим средством, и упивался роскошью и покоем, нежной мыльной пеной и приглушёнными звуками домашней жизни, как если бы заслужил это каким-то великим подвигом или наслаждался этим в последний раз.
Пришла, напевая, Эдме, перестала напевать при виде Ангела и не могла скрыть безмолвного удивления, обнаружив мужа дома в купальном халате. Он спросил её без тени иронии:
– Я стесняю тебя?
– Нет, что ты, Фред.
Она сбросила городскую одежду с юношеской непринуждённостью, чуждой и стыда и бесстыдства, так торопясь поскорее освободиться от одежды и очутиться в воде, что это позабавило Ангела.
«Я совсем забыл её», – подумал он, глядя на её согнутую рабскую спину с проступающими позвонками, когда она наклонилась, чтобы развязать шнурок.
Она не обращалась к нему, держалась спокойно, словно чувствовала себя в одиночестве, и Ангелу вспомнился ребёнок в пыли, который играл у его ног, решительно не замечая его.
– Скажи…
Эдме удивлённо приподняла голову, чуть распрямила гибкое полуобнажённое тело.
– Как ты смотришь на то, чтобы у нас был ребёнок?
– Фред!.. Что за мысль!
Это был чуть ли не крик ужаса. Эдме одной рукой прижала к груди скомканную линоновую рубашку, другой потянула к себе первое попавшееся кимоно.
– Дать тебе револьвер?.. Я ведь не собираюсь тебя насиловать.
– Зачем ты смеёшься? – тихо сказала она. – Тебе лучше не смеяться никогда.
– Я смеюсь редко. Но объясни мне – мы сейчас с тобой одни, никто нас не потревожит, – объясни мне… Неужели тебя так ужасает мысль, что мы могли бы… что мы можем завести ребёнка?
– Да, – безжалостно ответила она, и эта внезапная откровенность, казалось, причинила боль ей самой.
Глядя прямо в глаза Ангелу, полулежавшему в низком кресле, она прошептала отчётливо, так, чтобы он расслышал:
– Ребёнок… Похожий на тебя… Второй ты, второй ты в жизни одной и той же женщины?.. Нет… О нет!
Он сделал движение, которое она неверно истолковала.
– Нет, прошу тебя… Всё. Я умолкаю. Оставим всё как есть. Нам надо только быть осторожными и продолжать жить как жили… Я ничего от тебя не требую.
– Тебя это устраивает?
Она ничего не сказала – её ответом был взгляд, который очень шёл к её наготе, взгляд обнажённой пленницы, полный злобного бессилия и жалкой мольбы. Напудренные щёки, помада на свежих губах, лёгкий тёмный ореол вокруг карих глаз – всё её неброско и тщательно подкрашенное лицо подчёркивало по контрасту неприбранность тела, полностью обнажённого, если не считать тонкой смятой рубашки, которую она прижимала к груди.
«Я уже не могу сделать её счастливой, – думал Ангел, – но ещё могу заставить её страдать. Она не совсем неверна мне. А я – Я не изменяю ей, я её бросил».
Эдме, отвернувшись, одевалась. Она вновь обрела свободу в движениях и свою обманчивую мягкость. Бледно-розовый пеньюар скрывал теперь наготу женщины, которая только что прижимала свой последний покров к груди так крепко, словно там была рана.
К ней вернулась её неутомимая воля, желание жить, царить, поразительная и чисто женская способность быть счастливой. Ангел снова почувствовал презрение к ней, но наступил миг, когда вечерний свет, пронизав лёгкую розовую ткань, обрисовал женский силуэт, уже не напоминавший раненую обнажённую пленницу, – это была фигура, устремлённая к небу, сильная и округлая, как змея, поднявшаяся на хвост…
«Я ещё могу её ранить, но до чего же быстро на ней всё заживает… И здесь тоже я не нужен, и здесь меня не ждут… Она меня обошла и идёт дальше. Как сказала бы старуха, я её "первый круг"… Мне следовало бы вести себя так же, если б я мог. Но я не могу.
И ещё вопрос: захотел бы я этого, если бы даже и мог? Эдме не пришлось, как мне, столкнуться с тем, что встречаешь только раз в жизни и от чего уже не можешь оправиться никогда… Спелеев говорил, что некоторые лошади после падения, даже если они ничего себе не повредили, уже не могут больше взять препятствие, их легче убить, чем заставить прыгнуть… Мне встретилось такое неудачное препятствие…»
Он попытался подобрать ещё какие-нибудь грубоватые сравнения из спортивного лексикона, которые уподобили бы его недуг и его крах несчастному случаю. Однако ночь, наступившая для него слишком рано, и его сны после изнурительного дня были полны сладостными видениями небесно-голубых вздёржек и образами, навеянными бессмертной литературой, которая проникает за грязные пороги весёлых домов, повествуя в стихах и в прозе о верности, о влюблённых, неразлучных даже в смерти, и которой упиваются с одинаковой восторженностью и легковерием стареющие куртизанки и подростки…
– Она мне тогда сказала: «Я знаю, отчего так вышло, это опять Шарлотта мне всё испортила…» – «Раз так, – говорю я, – значит, нечего знаться с Шарлоттой, а тем более доверять ей». А она отвечает: «Я куда сильнее привязана к Шарлотте, чем к Спелееву, причём очень давно. Честное слово, мне будет больше недоставать Шарлотты, Нёйи, игры в безик и малыша, чем Спелеева, себя не переделаешь». – «И всё-таки, – говорю я, – тебе дорого обходится твоя откровенность с Шарлоттой». – «Что ж поделаешь, – говорит, – за всё хорошее приходится платить дорого». Она вся в этом: великодушная, не мелочная, но отнюдь не наивная. Сказала и пошла переодеваться, чтобы ехать на скачки с каким-то хлыщом…
– Наверно, со мной! – зло выкрикнул Ангел. – Кто лучше знает, ты или я?
– Не спорю, не спорю. Я просто рассказываю, как всё было. Она надела белое платье из китайского шёлка, в экзотическом стиле, отделанное голубой каймой с настоящей китайской вышивкой, – то самое, в котором она снята на той фотографии на скачках. И я вполне готова поверить, что мужское плечо, которое виднеется сзади, – твоё.
– Подай-ка сюда, – распорядился Ангел.
Старуха встала, вытащила ржавые кнопки, на которых держалась фотография, и принесла её Ангелу. Лёжа на алжирском диване, он приподнял взлохмаченную голову и, мельком взглянув на снимок, швырнул его через всю комнату в угол.
– Ты когда-нибудь видела, чтобы у меня сзади оттопыривался воротничок или чтобы я ходил на скачки в сюртуке? Ерунда! Придумай что-нибудь поинтереснее.
Она с робким осуждением поцокала языком, с трудом присела на корточки, подобрала фотографию и открыла дверь, ведущую в прихожую.
– Ты куда?
– Вода для кофе кипит, мне отсюда слышно. Пойду сварю.
– Ладно. Только потом возвращайся!
Она вышла, шаркая шлёпанцами и шурша изношенной юбкой из тафты. Оставшись один, Ангел опустил голову на ковровую подушку с тунисским узором. Вместо пиджака и жилета на нём был новый, ослепительно яркий японский халат с вышивкой, изображавшей розовые глицинии на аметистовом фоне. Растрёпанные волосы падали ему на лоб, докуренная до конца сигарета жгла губы.
Ни эти цветы, ни женское одеяние не привносили в его облик никакой двусмысленности, но низкое своенравие, разлитое в его чертах, делало его красоту ещё более очевидной. Казалось, им владело непреодолимое стремление вредить и разрушать, брошенная им фотография пролетела через всю комнату, как клинок. Резкие, тонко очерченные скулы играли под кожей, повторяя движение нервно сжимавшихся челюстей. Глаза его метали в полумраке чёрно-белые блики, как волны, которые ловят и перекатывают ночью лунный свет…
Оставшись один, он тяжело уронил голову на подушку и сомкнул веки.
– О Господи! – воскликнула Подружка, вернувшись в комнату. – Краше в гроб кладут! Я сварила кофе. Хочешь? От одного аромата уже чувствуешь себя в раю.
– Да. Сахару два кусочка.
Он говорил отрывисто, и она повиновалась с таким смирением, словно в глубине души упивалась ролью рабыни.
– Ты ничего не ел за обедом?
– Ел.
Ангел выпил кофе, опершись на локоть. Своеобразный балдахин, сооружённый из восточной портьеры, нависая над Ангелом, затенял точёный лик слоновой кости с вкраплениями эмали и всю фигуру в дорогих шелках, лежащую на старом шерстяном покрывале, вытертом и запылённом.
Подружка расставила на медном столике кофе, горелку для опиума под стеклянным колпаком, две трубки, горшочек с какой-то смесью, серебряную табакерку для кокаина, флакон с плотно пригнанной пробкой, которая тем не менее предательски пропускала холодный запашок эфира. Она присовокупила к этому колоду гадальных карт, футляр с картами для покера, пару очков и уселась рядом с удручённым видом сиделки при тяжелобольном.
– Я же говорил тебе, – рассердился Ангел, – что мне ни к чему все эти причиндалы.
Как бы оправдываясь, она театрально выставила вперёд тошнотворно белые руки. Дома она избрала для себя, как она выражалась, «стиль Шарлотты Корде»: распущенные волосы, белые батистовые платки, накинутые поверх пыльного траурного одеяния, – в таком виде, одновременно величественная и падшая, она выглядела вполне в духе многих обитательниц приюта Сальпетриер.
– Это просто так! На всякий случай. Я люблю, чтобы мои маленькие сокровища были у меня на виду и в полном порядке. Орудия грёз! Арсенал дурмана! Золотые ворота иллюзий!
Она покачала головой и возвела к потолку сокрушённый взгляд бабушки, которая разоряется на игрушках. Но Ангел не прикоснулся ни к одному из её снадобий. Он сохранил некое уважение к своему телу, и его презрение к наркотикам имело ту же природу, что и отвращение к публичным домам.
На протяжении многих дней, которые он перестал считать, он ежевечерне приходил в это тёмное логово, где ждала его порабощённая Парка. Он оплачивал без особой охоты, но и без возражений стол, кофе и напитки Подружки, равно как и свои собственные запасы сигарет, льда, фруктов и сиропов. Он велел своей рабыне купить для него роскошное японское кимоно, благовония, тонкое мыло. Ею владела не столько алчность, сколько упоение сообщничеством, она служила Ангелу с усердием, в котором оживало её рвение прежних лет, восторженная и преступная готовность раздеть и выкупать девственницу, нагреть крупинки опиума, налить спиртное или эфир. Но самоотверженность её пропадала втуне, ибо её странный гость не приводил женщин, пил одни сиропы и, ложась на старый диван, коротко командовал:
– Рассказывай!
Она начинала говорить, и ей казалось, будто она рассказывает что ей вздумается. На самом же деле он направлял – то грубо, то незаметно – мутный и медлительный поток её воспоминаний. Она говорила словно швея-подёнщица – без остановки, с дурманящей монотонностью, как женщины, занятые однообразной сидячей работой. Но она никогда не шила, обнаруживая аристократическую беспечность бывшей проститутки. Не переставая говорить, она закалывала складку на дырке или на пятне и вновь принималась работать над гадальными картами или над пасьянсом. Она надевала перчатки, чтобы размолоть кофе, купленный приходящей прислугой, но не брезговала брать в руки засаленные карты, потемневшие от грязи.
Она говорила, и Ангел слушал усыпительный голос, шарканье ног в мягких войлочных шлёпанцах. Он возлежал в роскошном халате посреди запущенного жилища. Сиделка его не осмеливалась задавать вопросы.
В его аскетизме она угадывала мономанию, и ей этого было довольно. Она врачевала некий недуг – загадочный, но всё же недуг. На всякий случай и как бы для проформы она пригласила хорошенькую молодую особу, похожую на девочку и профессионально весёлую. Ангел обратил на неё не больше внимания, чем на комнатную собачку, и сказал Подружке:
– Надеюсь, теперь колонка светской хроники закрыта?
Больше ему не пришлось отчитывать её и призывать к соблюдению тайны. Однажды она вдруг оказалась недалека от банальной истины и предложила Ангелу позвать в гости одну или двух подруг добрых старых времён – например, Леа… Он и глазом не моргнул.
– Никого! Иначе ноги моей здесь не будет. Прошли две недели, мрачные, размеренные, как в монастыре, но это не было в тягость ни одному из затворников. День у Подружки занимали старушечьи развлечения: покер, виски, подпольные притоны, перемывание косточек, завтраки в духоте и полумраке какого-нибудь ресторанчика с лиможской или нормандской кухней… Ангел появлялся с первыми сумерками, иногда насквозь промокший от дождя. Подружка слышала, как хлопала дверца такси, и уже не спрашивала: «Почему же ты всегда без машины?»
Уезжал он за полночь, обычно ещё в темноте. Во время его долгих пребываний на алжирском диване Подружка иногда замечала, как он проваливается в сон и на несколько секунд застывает, словно пойманный в капкан, со свёрнутой шеей, уронив голову на плечо. Сама она, забыв об отдыхе, ложилась спать только после его ухода. Однажды на рассвете, пока он не спеша складывал обратно в карманы свои вещи – ключ на цепочке, бумажник, маленький плоский револьвер, носовой платок, золотой портсигар, – она отважилась спросить:
– Жена не требует у тебя объяснений, когда ты так поздно приходишь?
Ангел поднял увеличенные бессонницей глаза, затемнённые длинными ресницами.
– Нет. С чего бы? Она же знает, что я ничего дурного не делаю.
– Да уж, ты и вправду невинен как дитя… Ты придёшь вечером?
– Не знаю. Посмотрим. Но ты будь готова к моему приходу.
Он бросал последний взгляд на все эти светловолосые головки и голубые глаза, украшавшие стену его убежища, и уходил, чтобы снова возвратиться к вечеру.
Когда он – как ему казалось, очень ловко – наводил разговор на жизнь Леа, он исправно очищал повествование Подружки от скабрёзного мусора, который создавал лишние длинноты. «Дальше, дальше…» Он цедил эти слова сквозь зубы, и только шипящий звук «ш» нарушал и подхлёстывал монолог. Ангел хотел получать воспоминания без яда, безобидные описания и славословия… Он требовал от мемуаристки документальной верности фактам и сердито уличал её в неточности. Память его фиксировала даты, расцветки, названия тканей, мест, имена портных.
– Что такое поплин? – вдруг спрашивал он.
– Поплин? Эта такая материя, шёлк с шерстью, сухая, понимаешь, которая не льнёт к телу…
– Ясно. А мохер? Ты сказала: «из белого мохера».
– Мохер – это что-то вроде альпака, только мягче и с более длинным ворсом, представляешь себе?.. Леа не любила носить летом линон, она считала, что он хорош для белья и для носовых платков. Бельё у неё было королевское, ты, наверно, помнишь, а в те времена, когда сделана эта фотография – да-да, вон та, где она такая красивая и длинноногая, – не носили такого плоского белья, как сейчас. Кругом были рюши, оборки, пена, снег, а панталоны, милый мой, панталоны – голова шла кругом: по бокам сплошные белые кружева, а на животе – чёрные, представляешь себе, как эффектно? Нет, ты скажи, представляешь?







