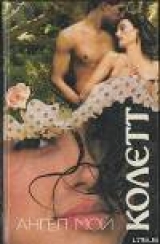
Текст книги "Конец Ангела"
Автор книги: Сидони-Габриель Колетт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Сидони-Габриель Колетт
Конец Ангела
Ангел закрыл за собой калитку палисадника и вдохнул ночной воздух: «Хорошо!..» Но тут же спохватился: «Ничего хорошего». Густые тяжёлые кроны каштанов держали в плену дневной зной. Вокруг соседнего газового рожка дрожал свод рыжеватой листвы. Задыхаясь под низким пологом зелени, улица Анри Мартена до самого рассвета ждала, когда со стороны Булонского леса повеет едва ощутимой прохладой.
Ангел, без шляпы, стоял и смотрел на свой пустой ярко освещённый дом. До него донёсся звон опрокинутого хрусталя, а за ним – звонкий голос Эдме, прозвучавший резко и недовольно. Он увидел, как жена подошла к широкому окну холла на втором этаже и склонилась над подоконником. Её жемчужно-белое платье утратило белизну, окрасившись зеленоватым отсветом фонаря, потом вспыхнуло жёлтым огнём от вышитой золотом занавески.
– Это ты там, Фред?
– Я, кто же ещё?
– Ты не пошёл провожать Филипеско?
– Нет, он ушёл, не дождавшись меня.
– Мне кажется, было бы лучше… Ладно, не важно. Ты идёшь спать?
– Не сейчас. Очень душно. Я пройдусь.
– Но… Впрочем, как хочешь.
Она на мгновение умолкла и, видимо, засмеялась – он увидел, как вздрагивает в окне иней её платья.
– Знаешь, мне видны только твоё лицо и белая манишка, они как будто висят в воздухе… Ты похож на афишу дансинга. Роковой мужчина.
– Как ты любишь выражения моей матери! – произнёс он задумчиво. – Можешь отпустить прислугу, у меня есть ключ.
Она помахала ему рукой, и окна одно за другим погасли. Матовый голубоватый свет оповестил его о том, что Эдме направилась через свой будуар в спальню, выходившую в сад, на противоположную сторону особняка.
«Ах да, – вспомнил он. – Будуаров больше нет. Теперь это именуется "рабочим кабинетом"».
На башне Жансон-де-Сайли пробило двенадцать, и Ангел, запрокинув голову, ловил звон колокола, словно капли дождя.
«Полночь. Она так торопится лечь… Ах да, ей же завтра в девять надо быть в госпитале!»
Он раздражённо зашагал прочь, потом пожал плечами и успокоился.
«В сущности, это всё равно что жениться на балерине. В девять часов – класс, это святое. Хоть трава не расти».
Он дошёл до Булонского леса. На небе, бледном от стоящей в воздухе пыли, едва мерцали затуманенные звёзды. Мерный звук шагов, вторивших его собственным, заставил его остановиться – он не любил, когда за ним кто-нибудь шёл.
– Добрый вечер, господин Пелу, – приветствовал его охранник из «Вижилант», взяв под козырёк.
Ангел небрежно поднял палец к виску, отвечая на приветствие со снисходительностью старшего, которую перенял во время войны от своих сослуживцев-сержантов, и двинулся дальше, оставив позади полицейского, тяжело опиравшегося на решётчатую калитку палисадника.
У самого входа в лес, со скамейки, где расположилась влюблённая парочка, доносились приглушённые голоса и шорох одежды; Ангел на мгновение прислушался: вокруг сомкнутых тел и невидимых губ раздавалось тихое журчание, похожее на плеск лодки в спокойной воде.
«Мужчина – военный, – подумал он. – Я слышал, как звякнула пряжка ремня».
Все его чувства, не обременённые мыслью, были обострены. Чуткий, как у дикаря, слух доставлял ему на войне, во время редких тихих ночей, утончённые удовольствия и никому не ведомые страхи. Его солдатские пальцы, чёрные от земли и грязи, безошибочно распознавали на ощупь изображения на медалях и монетах, стебли и листья растений, названия которых он никогда не слыхал. «Эй, Пелу, глянь-ка, что это такое?» Ангел вспомнил рыжего парня, который впотьмах совал ему в руки то дохлого крота, то змейку, то лягушку-древесницу, гнилое яблоко или ещё какую-нибудь дрянь и кричал: «Ну-ка, пусть попробует отгадать!» Он улыбнулся без сожаления своему воспоминанию и рыжему мертвецу. Он часто вспоминал этого Пьеркена, своего боевого товарища, лежащего на спине с недоверчивым выражением лица и спящего вечным сном, часто о нём говорил. Вот и сегодня вечером Эдме опять ловко подвела разговор к этой короткой истории, давно выученной им наизусть, которую он рассказывал с наигранной застенчивостью и которая кончалась так: «Пьеркен мне говорит: "Старик, я видал во сне кошку, и ещё речку возле нашего дома, она была вся грязная, загаженная… Это не к добру…" Тут его и накрыло, обыкновенной шрапнелью. Я хотел его оттащить… Нас потом нашли метрах в ста от того места, он лежал на мне. Я потому про него рассказываю, что он был хороший парень… Это, в общем, за него я получил вот это».
Вслед за стыдливой паузой он опускал глаза на красно-зеленую орденскую ленту и стряхивал пепел, словно желая скрыть смущение. Кому какое дело, считал он, до того, что было на самом деле, когда случайный взрыв швырнул двух солдат друг на друга – мёртвого Пьеркена на плечи живому Ангелу? Потому что в правде порой больше кривды, чем во лжи, и незачем никому знать, как неподъёмное тело внезапно отяжелевшего Пьеркена придавило разозлённого, сопротивлявшегося Ангела… Он до сих пор не мог простить этого Пьеркену. К тому же он вообще презирал правду с того далёкого дня, когда она вырвалась у него, как икота, чтобы осквернить, чтобы причинить боль…
Впрочем, сегодня вечером, у них дома, двое американских майоров, Аткинс и Марш-Мейер, и лейтенант Вуд явно не слушали его. Их спортивные лица, застывшие, словно в ожидании первого причастия, и устремлённый в одну точку взгляд пустых светлых глаз выражали почти болезненное нетерпение в предвкушении дансинга. Что же до Филипеско… «Не спускать глаз!» – таков был лаконичный вывод Ангела.
Влажный аромат, исходивший не столько от загустелой воды, сколько от подстриженной растительности берегов, окутывал озеро. Ангел стоял, прислонясь к дереву, и какая-то едва различимая женская тень дерзко надвинулась на него. «Привет, малыш…» Он вздрогнул от последнего слова, произнесённого низким голосом, срывающимся, словно его сожгла жажда, сухая душная ночь, пыльная дорога… Ангел не ответил, и незримая женщина беззвучно шагнула к нему. Он ощутил запах грубой шерстяной ткани, нестиранного белья, влажных волос и лёгким быстрым шагом направился к дому.
Матовый голубой свет всё ещё горел: Эдме по-прежнему сидела в будуаре-кабинете. Она наверняка что-нибудь писала, подписывала заказы на бинты и лекарства, просматривала дневные сводки, краткие отчёты секретарши… Она склонила над бумагами копну вьющихся волос с рыжеватым отливом и свой красивый лобик, серьёзный, как у учительницы. Ангел достал из кармана маленький плоский ключ на золотой цепочке.
«Пора. Меня опять ждёт любовь по расписанию…»
Он вошёл без стука, в своей обычной манере. Однако Эдме даже не вздрогнула и не прервала телефонного разговора.
– Нет, завтра – нет… – услышал Ангел. – Но я же вам не нужна для этого! Генерал прекрасно всё знает. А в Министерстве торговли у нас есть… Как, у меня есть Лемери? Да что вы! Он очарователен, но… Алло! Алло!..
Она засмеялась, показав маленькие зубки:
– О, вы преувеличиваете… Лемери любезен со всеми женщинами, если они не кривые и не хромые… Что? Да, он пришёл, только что. Нет-нет, всё строго между нами… До свидания… До завтра…
Белоснежный пеньюар, отливавший жемчужным блеском в тон ожерелью на шее, соскользнул с её плеча. Распущенные каштановые волосы, тонкие и кудрявые, как у негритянки, ставшие от сухости воздуха чуть более жёсткими, чем обычно, колыхались при каждом движении.
– Кто это? – спросил Ангел.
Она повесила трубку и, не ответив на его вопрос, задала другой:
– Фред, ты дашь мне завтра свой «роллс»? Мне нужно будет привезти к нам на обед генерала.
– Что ещё за генерал?
– Генерал Хаар.
– Бош?
Эдме сдвинула брови.
– Слушай, Фред, что за детские шутки? Генерал Хаар завтра приедет осматривать больницу. Когда он вернётся к себе в Америку, он сможет сказать, что мой госпиталь ничуть не хуже американских… Его сопровождает полковник Бейберт. А потом они приедут сюда обедать.
Ангел с размаху швырнул смокинг на комод.
– Мне плевать. Я буду обедать в городе.
– Как?.. Как?..
На лице Эдме промелькнуло ожесточение, но она тут же улыбнулась, аккуратно сложила смокинг и сказала уже совсем другим тоном:
– Ты спрашивал, кому я звонила? Твоей матери.
Развалясь в глубоком кресле, Ангел молчал. Черты его сложились в самую красивую, самую неподвижную из его масок. Спокойное неодобрение отражалось на его челе, на опущенных веках, чуть потемневших к тридцати годам, на губах, которые он постарался сомкнуть мягко, без напряжения, словно во сне.
– Она хочет поговорить с Лемери из Министерства торговли насчёт своих кораблей, гружённых кожами, – продолжала Эдме. – Они стоят у неё в порту, в Вальпараисо, целых три… Неплохая идея, ты не находишь? Только Лемери не даст разрешения на ввоз – во всяком случае, он так говорит. Знаешь, сколько Сумаби предлагают ей в качестве комиссионных, причём по самому минимуму?
Ангел махнул рукой, отметая разом и корабли, и кожи, и комиссионные.
– Баста! – коротко сказал он.
Эдме не настаивала и, нежно глядя на мужа, подошла к нему.
– Ты пообедаешь завтра с нами? Может быть, придёт ещё Жиббс, репортёр из «Эксельсиора», который будет фотографировать госпиталь, и твоя мать.
Ангел спокойно покачал головой.
– Нет, – сказал он. – Генерал Хагенбек…
– Хаар…
– …полковник, да ещё моя мать во френче – ты, кажется, называешь это «жакетом»? – с маленькими кожаными пуговицами… Её перетянутый пояс… Погончики на плечах… Офицерский стоячий воротник, над которым нависает подбородок… и вдобавок тросточка… Нет, знаешь… Моего героизма на это не хватит – я лучше уйду.
Он тихо засмеялся, но как-то невесело. Эдме положила ему на плечо руку, уже слегка дрожавшую от гнева, но попыталась обратить всё в шутку:
– Ты ведь не всерьёз, правда?
– Очень даже всерьёз. Я отправлюсь обедать в «Брекекекс»… Или ещё куда-нибудь.
– С кем?
– С кем захочу.
Он сел и, не нагибаясь, сбросил туфли. Эдме, прислонясь к чёрному лакированному комоду, подбирала слова, которые образумили бы Ангела. Белый атлас колыхался в ритме её учащённого дыхания, она сложила руки за спиной, как мученица. Ангел посмотрел на неё с затаённым уважением.
«Она в самом деле имеет вид женщины высокого пошиба, – подумал он. – Даже так, непричёсанная, неодетая, в купальном халате, она выглядит весьма прилично».
Эдме опустила глаза, встретилась взглядом с мужем, улыбнулась.
– Ты просто дразнить меня, – сказала она жалобно.
– Нет. Я просто не буду завтракать дома.
– Но почему?
Он встал, дошёл до распахнутой двери их тёмной спальни, полной запахов ночного сада, потом вернулся к ней:
– Потому. Если ты вынудишь меня объясняться, я буду говорить грубо. Я буду говорить нехорошо. Ты расплачешься, не заметишь от волнения, как с тебя соскользнёт пеньюар, но… но, увы, мне это будет всё равно.
Прежнее ожесточение проступило в лице молодой женщины. Однако её терпение не было исчерпано. Она засмеялась и пожала круглым голым плечиком, белевшим под распущенными волосами.
– Посмотрим, как тебе это будет всё равно. Он прохаживался по комнате, уже раздетый, в одних белых коротких трусах из шёлкового трикотажа. Ступая, он внимательно следил за упругостью походки, тщательно сгибал стопу и колено и потирал под правым соском два почти уже сгладившихся маленьких шрама, возвращая им прежнюю яркость. Худой, менее вальяжный, чем в двадцать лет, но более стройный и крепкий, он не отказывал себе в удовольствии покрасоваться перед женой, не столько соблазняя её, сколько демонстрируя своё превосходство. Ангел знал, что он красивее, чем она, и оценивал свысока, как знаток, пологие бёдра, не слишком высокую грудь, грацию ускользающих линий, которую Эдме так умело облекала в прямые платья и облегающие туники. «Где же твои стати? Ты случайно не растаяла?» – спрашивал он иногда, желая слегка поддеть её и ощутить, как от раздражения напрягается её тело, в котором таилась скрытая сила.
Последние слова жены ему не понравились. Ему хотелось, чтобы она была изысканной и бессловесной, если не бесчувственной в его объятиях. Он остановился и, нахмурясь, смерил её взглядом.
– Хорошенькие у тебя манеры! – сказал он. – Это ты у своего главного врача научилась? Война, сударыня!
Она снова приподняла голое плечико.
– Бедненький Фред, какой же ты ещё ребёнок! Хорошо, что нас никто не слышит. Отчитываешь меня за шутку… которая, в сущности, не что иное, как комплимент… Вздумал напоминать мне о приличиях… И кто? Ты!.. Ты! После семи лет брака!
– Откуда ты взяла семь лет?
Он сел, словно для долгого разговора, голый, самодовольно раскинув вытянутые ноги.
– Помилуй, тысяча девятьсот тринадцатый… тысяча девятьсот девятнадцатый…
– Извини, извини! У нас с тобой разные календари. Я считаю…
Эдме подогнула одну ногу, демонстрируя усталость. Ангел перебил её:
– Какой во всём этом толк? Пошли лучше спать. У тебя завтра в девять танцкласс, не так ли?
– О-о! Фред!
Она сломала и отшвырнула розу, стоявшую в чёрной вазе, а Ангел продолжал раздувать гневный огонёк, блестевший сквозь слёзы в её глазах.
– Так я иногда называю по ошибке твои упражнения с ранеными…
Не глядя на него, она бормотала дрожащими губами:
– Варвар… варвар… чудовище…
Он, улыбаясь, продолжал наступление.
– А что ты хочешь? Для тебя это, разумеется, священная миссия. А для меня?.. Будь ты обязана каждый день являться в Оперу на репетиции, для меня всё это – один чёрт. Я бы точно так же… точно так же оставался в стороне. А твой танцкласс – это раненые, вот и всё. Раненые, которым случайно повезло чуть больше, чем остальным. Я не имею к ним никакого отношения. Тут я тоже… в стороне.
Она круто повернулась к нему, и волосы её взлетели.
– Милый! Не огорчайся! Ты вовсе не в стороне, ты выше всего!
Он встал, привлечённый видом графина с холодной водой, запотевшего и истекавшего голубоватыми слезами. Эдме засуетилась.
– Тебе с лимоном или без?
– Без лимона. Спасибо.
Он выпил, она приняла у него из рук пустой стакан, и Ангел направился в ванную.
– Да, кстати, – сказал он, – по поводу этой трещины в бассейне, где у нас течёт… Я хотел…
– Всё уже в порядке, не беспокойся. У Шюша, одного из моих раненых, двоюродный брат – мастер по мозаике. Как ты понимаешь, он не заставил себя просить дважды.
– Прекрасно.
Он собрался выйти, потом обернулся.
– Слушай, как насчёт акций этих ранчо, о которых мы с тобой вчера говорили? Продавать или не продавать? Что, если я завтра закину удочку папаше Дейчу?
Эдме рассмеялась, как школьница.
– Неужели ты думаешь, что я стала бы тебя дожидаться? Сегодня утром твою мать озарила гениальная мысль, когда мы отвозили баронессу из госпиталя.
– Старушку Ла Берш?
– Да, баронессу… Твоя мать, как ты элегантно выражаешься, закинула ей удочку. Баронесса состоит в числе первых акционеров, она буквально не расстаётся с председателем Административного совета…
– Разве только затем, чтобы влить в себя литр белого.
– Если ты будешь меня каждую минуту перебивать… Так вот, сегодня к двум часам дня всё уже было продано, дорогой! Всё! Маленькая лихорадка на бирже – кстати, мгновенно закончившаяся – подарила нам ни много ни мало двести шестнадцать тысяч франков! Вот они, лекарства и медикаменты! Я хотела порадовать тебя завтра, выложив на стол шуршащий бумажник. Поцелуешь меня?..
Он стоял, голый и белый, под складками приподнятой портьеры и пристально разглядывал лицо жены.
– Хм, ну ладно, – вымолвил он наконец. – А я тут при чём?
Эдме лукаво склонила голову.
– Твоя доверенность всё ещё действительна, любовь моя. «Право купли, продажи, аренды от моего имени…» и так далее, и тому подобное. Кстати, надо будет послать баронессе какой-нибудь сувенир.
– Курительную трубку, – задумчиво произнёс Ангел.
– Не смейся! Она очень славная и совершенно для нас незаменима.
– Для кого – для нас?
– Для твоей матери и для меня. Баронесса умеет находить общий язык с нашими парнями, она рассказывает им анекдоты, слегка грубоватые, но такие сочные… Они обожают её!
Лицо Ангела задрожало от какого-то странного смеха. Он опустил разделявшую их тёмную портьеру и исчез за ней, как образ забытого сновидения. Он шёл по коридору, чуть освещённому голубоватым светом, ступая беззвучно, словно скользил по воздуху, ибо по его настоянию весь дом сверху донизу был устлан толстыми пушистыми коврами. Он любил тишину и каверзы и никогда не стучался в дверь маленькой гостиной, которую его жена со времён войны именовала своим кабинетом. Её это не раздражало, она угадывала приближение Ангела и не вздрагивала.
Он быстро принял ванну, не разлёживаясь в прохладной воде, рассеянно подушился и вернулся в будуар.
Ему было слышно, как в спальне за стеной лежащая женщина шелестела простынями, как нож для разрезания книг звякнул о фарфоровый стакан на ночном столике. Он сел, подперев кулаком подбородок. Рядом на столе он заметил меню на завтра, которое Эдме каждый день заготавливала для дворецкого: «Омары по-термидориански, отбивные котлеты «Фюльбер-Дюмонтейль», заливное из утки, салат «Шарлотта», суфле с кюрасо, сырные палочки с честером». Безукоризненно, возразить нечего. «Шесть приборов». А вот на это есть что возразить!
Он исправил цифру шесть на пять и снова уткнулся подбородком в кулак.
– Фред, ты знаешь, который теперь час?
Он не откликнулся на ласковый голос жены, но вошёл в спальню и сел перед большой кроватью. Одно плечо Эдме было обнажено, другое чуть прикрыто белыми кружевами. Она улыбалась, несмотря на усталость, зная, что лёжа она красивее, чем стоя. Но Ангел сел и снова подпер рукой подбородок.
– «Мыслитель»,[1]1
Знаменитая скульптура О. Родена (1840–1917).
[Закрыть] – сказала Эдме, желая расшевелить его или заставить улыбнуться.
– Ты даже не знаешь, как ты близка к истине, – высокопарно отозвался Ангел.
Он запахнул полы китайского халата и порывисто скрестил руки.
– Зачем, чёрт возьми, я здесь нахожусь? Она не поняла или не захотела понять.
– Вот и я думаю о том же, Фред. Уже два часа, а мне в восемь вставать. Завтра опять у меня будет денёчек!.. Не очень-то гуманно с твоей стороны так тянуть время. Иди сюда, уже стало чуть попрохладнее. Будем спать на сквозняке и воображать, будто мы в саду…
Поколебавшись с минуту, он сдался, отшвырнул халат, а Эдме погасила единственную лампу. Во тьме она прильнула к нему, но он ловко перевернул её, крепко обнял за талию, прошептал: «Так, так, воображай, будто мы на санках!» – и заснул.
На следующее утро, спрятавшись в бельевой, Ангел из крохотного окошка видел, как они отъезжали. Автомобиль яйцевидной формы и ещё один, длинный, американский, тихо урча, пеклись на мостовой под низкими и густыми ветвями каштанов. От зелени и политого тротуара веяло призрачной свежестью, но Ангел знал, что от утреннего июньского солнца, никогда не щадящего Париж, вянут в саду за домом голубые незабудки, окружённые розовыми бордюрными гвоздиками.
В его сердце закралось что-то похожее на страх: он вдруг заметил, что к воротам направляются двое мужчин в военных мундирах, разглядел золотые звёзды и фуражки с бархатным гранатовым околышком.
– Он, конечно, в форме, недоумок несчастный! Это относилось к главному врачу госпиталя Эдме: сам того не сознавая, он ненавидел этого рыжеватого блондина, который, говоря с Эдме, произносил профессиональные термины воркующим голосом. Ангел тихо, но от души послал проклятия в адрес всего медицинского сословия, и особенно – любителей военной формы, не расстающихся с ней в мирное время. Он усмехнулся, заметив у американского полковника брюшко: «Ничего себе пузо для представителя нации спортсменов!» – и перестал смеяться, когда вышла Эдме, оживлённая, в белом одеянии, в белых туфлях, и протянула руку в белой перчатке. Она говорила громко, весело, быстро. Ангел не упустил ни одного слова из тех, что слетали с её алых губок, приоткрывавших в улыбке маленькие зубы. Она дошла до машин, вернулась, послала лакея за забытым блокнотом и, болтая, стала его ждать. Она обращалась по-английски к американцу и понижала тон от невольного почтения, отвечая доктору Арно.
Ангел, прячась за тюлевой занавеской, был начеку. Привычка лгать и притворяться настолько въелась в его плоть и кровь, что лицо его непроизвольно застывало, когда он испытывал какое-нибудь сильное чувство даже наедине с собой. Взгляд его скользил от Эдме к доктору, от американского полковника опять к Эдме, и она несколько раз поднимала глаза к окну второго этажа, словно зная, что он там.
– Чего они ждут? – тихо проворчал он. – Ах да, конечно… О Господи!
В открытой машине, которую вёл молодой шофёр, безупречный и безликий, подъехала затянутая в габардин Шарлотта Пелу. Она высоко держала голову в маленькой шляпе-каскетке, из-под которой торчали сзади коротко подстриженные рыже-красные волосы. Не выходя из машины, она с царственным видом ответила на приветствия подошедших мужчин, подставила Эдме щёку для поцелуя и, видимо, справилась о сыне, ибо взглянула на второй этаж, подняв свои роскошные глаза, где, словно в огромных глазах спрута, блуждали тёмные нечеловеческие грёзы.
– Опять она в этом картузе, – пробормотал Ангел.
Его передёрнуло, он отругал себя за это и улыбнулся, когда все три автомобиля отъехали. Он терпеливо подождал одиннадцати часов, когда его «холостяцкая машина» подъехала к тротуару, но вышел не сразу.
Дважды он протягивал руку к телефону и дважды опускал её. Желание пригласить Филипеско быстро прошло, и ему захотелось заехать за младшим Модрю и его подружкой.
«Или опять позвонить Жану Тузаку… Но сейчас он ещё пьян и храпит. А ну их всех… все они не стоят Десмона, надо отдать ему справедливость… Бедняга…»
Он думал о Десмоне как о жертве войны, но с жалостью, в которой он отказывал убитым. Десмон, живой и потерянный для него, вызывал у него грусть, смешанную чуть ли не с нежностью, и ревнивое уважение, какое подобало питать к человеку «с положением». Десмон держал дансинг и продавал антиквариат американцам. Вялый и немощный во время войны, когда он ухитрялся носить всё, за исключением оружия, – бумажный хлам, кастрюли, грязные горшки в госпиталях, – Десмон вгрызался теперь в мирную жизнь с боевым жаром, головокружительные результаты которого поражали Ангела. Заведение «У Десмона» теснилось в частном особняке на улице Альма, где за толстыми каменными стенами, под расписными потолками с изображением ласточек и ветвей боярышника, в окружении витражей с тростниками и фламинго, танцевали исступлённые немые пары. «У Десмона» танцевали днём и ночью, как танцуют только после войны: мужчины, молодые и старые, освободившиеся от необходимости думать и бояться, блаженные, опустошённые, и женщины, захваченные наслаждением более сильным, чем обычное сладострастие, – наслаждением чувствовать рядом мужчину, его прикосновения, его будоражащий запах, его тепло, каждой клеточкой ощущать власть мужчины, живого, неискалеченного, подчиняться в его объятиях ритму, такому же всепроникающему, как сон.
«Десмон лёг спать часа в три или в половине четвёртого, – прикинул Ангел. – Он уже выспался».
Но его рука, потянувшаяся было к телефону, опять опустилась. Он быстро сошёл вниз по густому упругому ворсу ковров, покрывавших все паркетные полы в доме, окинул снисходительным взглядом, проходя мимо столовой, пять белых тарелок, стоявших венчиком вокруг широкой вазы из чёрного хрусталя, где плавали водяные лилии того же розового оттенка, что и скатерть, и задержался только у зеркала, вправленного в массивную дверь вестибюля на первом этаже. Его притягивало и страшило это зеркало, на которое из застеклённой двери падал прямой свет, мутно-синеватый, чуть затенённый зеленью сада. Всякий раз Ангел замирал от лёгкого шока перед своим отражением. Он удивлялся, не находя в нём полного сходства с собой прежним, двадцатичетырёхлетним. Вместе с тем он не мог отыскать и конкретных мест, где время незримыми мазками отмечает на красивом лице час совершенства, за которым следует час красоты более яркой, предвестницы величественного увядания.
Ангел и не думал об увядании, да и не нашёл бы его признаков в своих чертах. Он просто недоумевал, сталкиваясь с тридцатилетним Ангелом, не вполне узнавал в нём себя и временами спохватывался: «Что это со мной?» – как если бы вдруг почувствовал дурноту или заметил непорядок в одежде. Потом он проходил в дверь и забывал об этом.
Дансинг «У Десмона» был предприятием солидным и в полдень не спал, несмотря на свои долгие ночи. Привратник мыл из шланга мощёный двор. Какой-то служитель сбрасывал с крыльца кучу изысканного мусора: лёгкую пыль, серебряные обёртки, пробки от шампанского, окурки с золотыми ободками, сломанные соломинки для коктейлей, ежедневно свидетельствовавшие о процветании заведения. Ангел перескочил одним прыжком все эти следы трудового бдения, но спёртый воздух особняка преградил ему путь, словно натянутый в двери канат. Сорок теснившихся здесь пар оставили на память о себе запах потного белья, смешанный с холодным сигаретным дымом. Ангел набрался мужества и двинулся к лестнице с массивными дубовыми перилами и балясинами в виде кариатид. Десмон не стал попусту тратить деньги на обновление гнетущей роскоши восьмидесятых. Две снесённые перегородки, ледник в подвале и щедро оплачиваемый джаз – вот всё, что требовалось на ближайший год. «Я займусь модернизацией для привлечения публики, когда люди станут танцевать меньше», – говорил Десмон. Он ночевал на втором этаже, в комнате, увитой намалёванным плющом, с аистами на витраже, мылся в эмалированной цинковой ванне под керамическим фризом, изображавшим водяные лилии, и древняя колонка для подогрева воды рычала, точно старый бульдог. Но телефон сверкал, как оружие, с которым каждый день идут в бой, и Ангел, взбежав через ступеньку по лестнице, увидел, что его друг приник к трубке, словно к священной чаше, жадно ловя тёмное дыхание телефона. Его блуждающий взгляд упал на Ангела, едва задержался на нём и вновь устремился к плющу на карнизе. Золотисто-жёлтая пижама старила его невыспавшееся лицо, но Десмон так вознёсся от своих барышей, что собственное уродство больше его не беспокоило.
– Доброе утро, – приветствовал его Ангел. – Вот и я. Ну и запашок у тебя на лестнице. Хуже, чем в зверинце.
– По двенадцать у нас с вами ничего не выйдет, – отвечал Десмон невидимому собеседнику. – За эту цену я могу выторговать «Поммери». А для моего личного погреба у них есть и по одиннадцать, без этикеток… Алло… Да, этикетки отклеились во время заварухи, что меня вполне устраивает. Алло…
– Поедем завтракать, у меня внизу машина, – сказал Ангел.
– Нет, нет и нет, – отозвался Десмон.
– Что?
– Нет и нет. Алло!.. Что?.. Шерри? Вы шутите! У меня не пьют ликёров. Шампанское или ничего. Не тратьте зря время, ни моё, ни ваше. Алло… Возможно, вы и правы. Но сегодня я в моде. Алло… Хорошо, ровно в два. Всего доброго, сударь.
Десмон потянулся и лениво подал Ангелу руку. Он по-прежнему был похож на Альфонса XIII,[2]2
Альфонс XIII (1886–1941) – король Испании в 1902–1931 гг.
[Закрыть] но война и тридцатилетний возраст заставили этот хлипкий побег пустить корни в питательную почву. Выжить, избежать фронта, есть каждый день, выкручиваться, ловчить – во всём этом он преуспел великолепно и вышел из этих победоносных боёв окрепшим, с твёрдой верой в свои силы. Самоуверенность и полный карман скрашивали его безобразие, и вполне можно было предположить, что годам к шестидесяти он будет производить впечатление человека, в прошлом красивого, с большим носом и длинными ногами. Он в упор смотрел на Ангела снисходительным взглядом. Ангел отвернулся.
– Ты что, старик? Уже полдень, а ты ещё не одет!
– Во-первых, я одет, – отвечал Десмон, распахивая пижаму, под которой оказалась белая шёлковая сорочка с золотисто-коричневой бабочкой. – Во-вторых, я не обедаю в городе…
– Ты… – произнёс Ангел, – ты… У меня нет слов!..
– Если хочешь, у меня найдётся для тебя глазунья из пары яиц, половина моей ветчины, моего салата, портер и клубника. И чашка кофе без ничего.
Ангел посмотрел на него с бессильной яростью слабого.
– Почему?
– Дела, – сказал Десмон, нарочно гнусавя. – Шампанское. Ты же слышал. Ох уж эти мне виноторговцы! Если их не держать в ежовых рукавицах… Но это я умею.
Он сплёл пальцы, и коммерческая гордость захрустела в суставах.
– Ну так как? Да или нет!
– Да, варвар!
Ангел швырнул ему в лицо шляпу, но Десмон поднял её и отряхнул, давая понять, что время мальчишеских выходок прошло. Они съели остывшую глазунью, ветчину, язык и выпили хорошего тёмного пива с бежевой пеной. Говорили мало, и Ангел, глядя на мощёный двор, почтительно скучал.
«Зачем я здесь?.. Затем, чтобы не быть дома и не есть котлеты "Фюльбер-Дюмонтейль"». Он представил себе Эдме в белом, американского полковника с кукольным лицом и доктора Арно, перед которым Эдме строила из себя послушную девочку. Он вспомнил погончики Шарлотты Пелу и почувствовал к Десмону что-то вроде безответной нежности, как вдруг тот спросил:
– Знаешь, сколько здесь выпито сегодня шампанского с четырёх часов вечера до четырёх утра?
– Нет, – ответил Ангел.
– А знаешь, сколько бутылок доставили сюда полными и вынесли пустыми с первого мая по пятнадцатое июня?
– Не знаю.
– Ну, назови цифру!
– Да не знаю я, – огрызнулся Ангел.
– Ну всё-таки! Назови цифру, хоть примерную. Попробуй!
Ангел ковырнул ногтем скатерть, как на экзамене. Он маялся от жары и собственного бездействия.
– Пятьсот, – выдавил он из себя.
Десмон откинулся на спинку стула, и его монокль метнул болезненный отблеск в глаз Ангелу.
– Пятьсот! Умереть со смеху!
Десмон хвалился. Когда он смеялся, смеялись только его плечи, вздрагивая, будто от рыданий. Он допил кофе, выдержал паузу, чтобы эффектнее ошеломить Ангела, и поставил чашку на стол.
– Три тысячи сто восемьдесят две, детка. А знаешь, сколько я на этом наварил…
– Нет, – перебил Ангел, – и мне плевать. Отстань. Хватит с меня моей мамаши, которая без конца ведёт эти разговоры. И вообще…
Он встал и неуверенно прибавил:
– Деньги… меня не интересуют.
– Забавно, – сказал уязвлённый Десмон. – Забавно. Смешно.
– Возможно, – сказал Ангел. – Но представь себе, это так. Деньги меня не интересуют… больше не интересуют.
Эти простые слова он выговорил с трудом, не поднимая головы. Смущённый своим признанием, он, пряча глаза, стал катать по ковру корочку хлеба, и это занятие на миг вернуло его к чудесным годам отрочества.
Десмон впервые посмотрел на Ангела с недоверчивым вниманием, как врач на больного: «Уж не симулирует ли он?..» И как врач, он прибегнул к расплывчатым, успокаивающим выражениям:
– Это у тебя пройдёт. Сейчас все слегка хандрят. Люди сбиты с панталыку. Работа – прекрасный способ восстановить душевное равновесие, старичок… Вот я, например…
– Знаю, – перебил Ангел. – Ты сейчас скажешь, что мне не хватает серьёзного дела.







