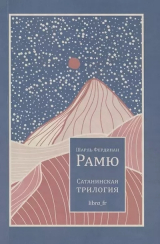
Текст книги "Сатанинская трилогия"
Автор книги: Шарль Фердинанд Рамю
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
11
Были подняты кавалерийские и стрелковые отряды. В самом начале задействовали военные силы. Из уст в уста передавалось одно-единственное слово: «революция»[10]10
Отсылка ко всеобщей забастовке в ноябре 1918 г., на которую повлияла революция в России. Мятежи жестоко подавлялись с помощью армии.
[Закрыть], и все думали лишь об этой угрозе, были люди, которых она могла бы затронуть, и те, которых могла бы обойти стороной. Сегодня, в будний день, в бедных нижних кварталах словно выходной. Кафе забиты, на улицах полно народа, как в воскресенье, воскресенье особого рода, праздничный день, будто какое-то торжество, будто все еще действовали календари, где указаны дни гуляний. Все – в воскресных одеждах. Итальянские каменщики ходили под руку то в одну сторону, то в другую. А еще – чернорабочие, поденщики, их жены, дети, целые семьи. Пожилые люди, которых уже многие месяцы никто не видел, поскольку они перестали выходить, вдруг выбрались на улицы, кто-нибудь их поддерживает, помогает идти, а вместе с ними – паралитики, увечные. Тучные густо напомаженные мадам с непокрытыми головами, волосами, выкрашенными в желтый по моде двадцатилетней давности, с голыми ногами в бабушах, в сорочках на голое тело – жарко! Надо взглянуть на термометр. И сразу все направлялись в тенек, шли к фонтанам, искали любое укрытие и где можно попить. В «Железной хватке» был танцевальный зал и некоторые танцевали, опустив в оркестрину монетку в десять сантимов. В других кварталах, в кварталах среднего класса – тоже забыли о великой угрозе, любовались драгунами. И все чувствовали наступившую внезапно легкость. Большинство людей устроено так, что обращают внимание лишь на мелочи и на то, что творится в данный момент, они любят обманываться. Немногие поднимают взгляд к небу, немногие знают об этом. Не все даже знают, что оно существует, что там, в вышине есть какое-то свое устройство, некое более-менее близкое к ним светило, по-прежнему летящее им навстречу.
Они смотрели, как идут отряды драгун на больших лошадях, красивые деревенские парни с раскрасневшимися лицами под киверами с никелированными цепочками, с подвешенными у седла мушкетонами и патронташем на бандульерах, или едет в грузовых автомобилях, стоя навытяжку, пехота в выкрашенных серым стальных касках, – как во времена греков, – думает преподаватель коллежа, – как в песнях Гомера, как при осаде Трои, – решительно, наше общество стойко держится. Все аплодируют, мужчины бросают шляпы, женщины машут руками средь глухого гула широких армированных шин, широких шин из резины и кожи, в которых посверкивали заклепки.
С площади улетели все голуби.
Головы в касках еще раз показались возле фонтана у церкви, где росли шарлаховые герани и возвышалась колонна, головы вдруг показались из тени, попав в поток света, который силятся превозмочь глаза, пытаются отыскать, откуда он льется, и оказываются бессильны…
Сегодня 43° под пылающим небом, от которого стараются скрыться больше, чем когда-либо, на всех дорогах, спускающихся к озеру, бесконечные толпы купальщиков.
Некоторые, сразу раздевшись, бегут к трамплину и прыгают вниз головой. Громкий плеск, во все стороны брызги, круги по воде.
Многочисленные головы на воде, словно поплавки в местах, где помельче или, наоборот, глубже.
Есть места совершенно спокойные, и такие, где неизвестно, по какой причине (ведь нет ветра), вода кипит и клокочет, словно масло на сковородке.
Из-за жары и отсутствия волн разрослись водоросли. Вот это озеро, возле города, сюда приходит солнце и пьет, потягивает воду, и теперь видно, как много стало стебельков, поднимающихся со дна, словно высокий лес, где путается неосторожный купальщик. Никогда не было такой засухи и, тем не менее, никогда не было столько воды. Никогда, как говорят рыболовы всякого сорта, – удильщики, ловцы сетью, лодочники, – никогда, испокон века. В самом начале все видели, как скоро вода отступает, пускаясь в обратный путь, уходя на множество футов от пологого песчаного берега, широкие просторы которого оказались оголенными, – так было вначале. Затем все увидели, что вода поднимается, начался тихий, незаметный прилив. Вода вновь омывала оставленные было высокие набережные, накрыла широкую песчаную кайму, с которой схлынула прежде, и та затвердела, будто цемент, вода пошла дальше, достигнув дороги вдоль берега, кустов акации, полого тальника, вливаясь в дупла, поднимаясь, все поднимаясь – до каких же пор? И что такое с луной? Все спрашивали себя. А потом вдруг поняли. Это солнце, оно не только берет, но и дает. В одном месте берет, в другом дает. Оно забирает и оно одаривает. Произошедшее означало, что оно, в конце концов, принесло больше, чем взяло, благодаря невероятному количеству истаявших ледников и воде Роны, взбухшей, вздувшейся, выпроставшейся из берегов, как молоко. Это был не прилив, а паводок, целая гора обрушилась вниз потоками. До каких же пор будет оно подыматься? – спрашивали себя на кораблях рыболовы, чьи силуэты виделись против света один подле другого, словно значки телеграфного алфавита.
Вот берег озера. Будем описывать то, что есть. Напишем лишь то, что есть в самом деле. Вот рыболовецкие суда, невдалеке – выкрашенные в коричневый огромные доки верфей у площади Навигации с черными и белыми трубами поверх крыш на фоне гор цвета оберточной бумаги. Выше – сельские рабочие на орошаемом лугу с рыжей лошадью, тянущей морду к сточной канаве, под деревом лежит человек, скрестивший на груди руки, будто покойник. Полно мух. Двери некоторых амбаров выкрашены в красный. Дорогу, словно стена, преграждает густой запах навоза. Еще выше виллы, начинается город. Со всех сторон он рассыпает перед вами цепочки сдаваемого в аренду жилья, вскоре дома уже плотно лепятся друг к другу, встают тесными рядами. О расположении вокзала можно узнать по столбам дыма, еще выше виднеются здания почты и банков.
Так жарко, что вперед едва продвигаешься. Редкие прохожие, попадающиеся навстречу, встают под деревьями, снимают шляпы, достают платки. Детей не видно, они по домам, в коридорах. На Вокзальной площади составили в козлы винтовки. Идешь выше. Внезапно слышится барабанная дробь.
На площади святого Франсуа[11]11
Центральная площадь старых кварталов Лозанны.
[Закрыть] в тот же день, к вечеру. Выглядит все так, будто они продолжают веселье, кажется, это лишь еще одна новая забава, еще один способ убить время. Они устроили шествие, впереди барабанщики. Затем совершенно пьяные мужчины, кричащие женщины. Мужчины подставляют друг другу плечи, чтоб не свалиться. Из магазинчиков на улицу вышли девушки. Многие выстроились в ряды.
С противоположной стороны площади быстрым шагом выступает патруль.
Идут под руки. Продолжается послеполуденная прогулка, разве что все вышли за пределы своих кварталов, идут взглянуть, что происходит в других местах, – все же какой-то прогресс.
Запели «Интернационал».
Рассказывают, что начались эпидемии[12]12
Очередная отсылка к историческим реалиям: речь об эпидемии испанки 1918–1919 гг.
[Закрыть]. Больницы переполнены. Прохожие падают на улицах замертво.
12
Она принарядилась, причесалась так, как ему нравилось.
Накрыла на стол, достав сервиз голубого фарфора с пейзажами, будто ждали гостей.
В вазе стояли цветы, на блюде лежали фрукты. Среди них были и такие, что в этом году поспели раньше обычного: яблоки, груши, светлая и темная смоква.
Он пришел, как и всегда, вечером. Обычный, как и всегда. Все было привычно. Они сели друг против друга, начали есть. В окно виднелся красивый закат за деревьями. Стемнело, они зажгли лампу. Ужин, как в любой другой день. Вечером, вместе, как прежде, как каждый день, снова.
И вдруг он спрашивает себя: «Вместе?»
Он смотрит на нее, вот она и вот он, и их двое. Я, было, подумал, что ошибся.
Вдруг он понимает. О, ты! К которой я так стремился и все же так и не достиг. Ибо я искал единения, а нас двое.
Может, осталось уже не так много дней, а потом все будет кончено: она уйдет сама по себе, сам по себе уйду я. И пусть это будет в одно и то же время, в одном и том же месте, но она будет вне меня, а я буду вне ее. Нас возьму по отдельности, одного и другого. Он представляет себе, как это будет. Ему кажется, что он видит ее в первый раз. То, что было сокрыто, проявилось; то, что было поверх, исчезает, показывая, что было внутри; то, что было поверх, – всего лишь плоть, и плоть исчезает. Ту, что здесь, разденут дважды; ту, что не станет мной; ту, что мной не была…
В вечерней тиши бесшумно прилетели мотыльки с мельчайшей серой пылью на крылышках. Стали биться о разрисованный бумажный абажур, падали на скатерть. Чувствовалось, что творится что-то невероятное. Чувствовался запах жарких стен, запах кремня, который оставлял на губах свой вкус. Слышалось, как потрескивает в саду: земля ссыхалась, словно во множестве средоточий, как мускулы, каждый из которых скрепляется с остальной плотью в строго определенном месте. Внезапно под тяжестью черепицы начинали играть балки. Она мне солгала, она мне лжет, лжет всем своим существом, не зная об этом, и лишь потому, что существует, лишь потому, что она есть.
Внезапно все радостное и приносящее счастье, все нежное, опрятное, гладкое, все расцвеченное невероятными оттенками, составленное из искусных линии и разнообразных форм, – все оказалось на краткий миг здесь, как расстеленная на столе скатерть, как поставленные в вазу цветы, как надетая по случаю праздника одежда, которую все-таки однажды придется снять.
Она солгала мне, я сам себе лгал, все вокруг лгало. Любовь лжет. О, моя дорогая возлюбленная! Нас разделяют расстояния, разделяют пространство и время, и пространства эти все больше, время это все больше. Он видит, как она удаляется: так удаляется лодка, становящаяся все меньше и меньше, очертания ее стираются, она все менее различима, превращается в темную точку, и потом – в ничто…
Но внезапно, опомнившись: «О, нет! Это невозможно!.. Ты не лжешь, ты не можешь лгать, любовь не может лгать, прости меня!»
Он позвал ее. Он зовет ее, говорит: «Дай руку. Я не знаю, что случилось. Может, мы просто недостаточно друг друга любили. Любовь может все. Не будем ей мешать. Пусть мир живет своей жизнью, малышка, пусть. Ты здесь, все хорошо…»
Вновь послышалось, как потрескивает в саду земля. Он прижал ее к себе, он вновь устремился к ней.
Он больше ничего не видел, весь мир исчез. Внешний мир исчез, но у меня есть свой, и он больше, прекраснее. Мир, где я не один, мир, где мы не разделены надвое. Прикоснувшись к ней, он повлек ее за собой, он так сильно ее прижал, словно для того, чтобы она могла войти в него, преодолев границу тела…
И снова все развалилось. Словно орех, упавший на землю, раскалывается на части. Единение, где ты? Нас двое. Он говорит: «Я не люблю тебя!» Говорит: «Ты ничто!» Он кричит. Кричит: «Ты мой враг!» Не говорит ничего, не слышно ни единого звука, он не двигается, она неподвижна. «Уходи!» – он не говорит, – он кричит. Слышит ли она? Нарочно ли она делает вид, что не слышит? Он видит место, что она занимает в пространстве, – она лишь помеха, лишь вещь, о которую все время задевают, вот почему к ней все время обращаешься, тогда как нужно просто ее отодвинуть, она – ложь, она – дурная дорожка, но где-то есть и правильная дорога, – она помешала ему разглядеть это, она занимает столько места, она все собой загораживает, она всегда впереди, все время перед глазами, застилая взор, мешая увидеть, увидеть самого себя…
И вдруг он спохватывается, снова ища ее руками, притягивая ее к себе, она не сопротивляется, понемногу поддаваясь, словно откос, осыпающийся по краям, – укрыться в ней, стать маленьким, примириться, уйти с головой в эту жаркую впадину и ничего больше не говорить, – я больше не двигаюсь, дай мне руку, вот так, так мне хорошо… Теперь может прийти, смерть, сейчас хорошо, сейчас приятно.
Так бывает, когда нас обволакивает тело женщины, словно ткань, вата, пух, словно теплое гнездо, в котором сидят птенчики.
13
Все это время – все время, что я могу, – я слушаю. Но я ничего больше не слышу.
Раньше, ближе к полуночи, гудел паровоз. Слышался рожок служащего. Среди полнящейся жизнью ночи слышался шум вагонов, ударяющихся друг о друга по мере остановки. Около полуночи, половины первого паровоз утолял жажду. Он свистел, пыхал, кашлял. Я слушаю.
Ничего не слышно, куда бы я ни повернулся, отыскивая потайные воздушные области, словно занявшись уборкой.
Стрелочники на постах в высоких кирпичных будках, где рядами выстроились рычаги с черными надписями на эмалированных пластинах, тоже чего-то ждут, но ничего нет.
Семьсот семьдесят пятый не пришел; тридцать третий, который должен идти следом, не пришел.
Теперь должен был поступить сигнал от скорого из Симплона, но пока ничего не получали…
Я слишком любил мир. Я сознаю, что слишком его любил. Теперь он исчезнет. Я слишком к нему привязался, как я теперь понимаю, а теперь он от меня отделяется. Я любил его целиком, несмотря на то, какой он. Я любил его, несмотря на его несовершенства, понимая, что только благодаря им совершенство и существует, и он хороший, потому что скверный.
И так появились для меня все вещи, все люди. Я не мог выбирать ни среди тех. ни среди этих. Тем не менее, я хороша знал и этих, и тех, видя всех такими, какие они есть, маленькими, уродливыми, злыми, – даже не уродливыми, не злыми, – заурядными, увечными, лишь наполовину родившимися, бесформенными, невыраженными. И в начале я пытался их отдалить от себя, но они все шли и шли, их было столько!..
На деревянной полке возле двери, придавленные килограммовым куском латуни, лежат листки разного цвета: расписания, графики, инструкции. Они прочитали их, они прочтут их снова, а потом – ничего.
Перед ними набухшие выступы железной дороги, словно напрягшиеся мышцы с виднеющимися волокнами. Они посверкивают от сигнальных огней. Эти рельсы долго служили, они сделаны так, чтобы служить еще, они готовы, они ждут, но ничего не происходит…
Я слишком любил мир. Когда я пытался представить что-то помимо него, я представлял все равно его. Когда я пытался проникнуть за его пределы, я находил там его. Я старался закрыть глаза, чтобы увидеть небо, и видел землю, и небо было небом только тогда, когда становилось землей. Когда все начали страдать, сетовать, недоумевать. Под деревьями, которые были нашими деревьями, во времена, когда деревья и посадки – те самые, наши – принимались расти и зеленеть, потому что приходило лето, а лето бывает только тогда, когда ему предшествует зима.
Я любил само бытие. Было достаточно, что вещь существует, неважно, как именно, неважно, какая. Этого было довольно. Четыре стихии, три царства: воздух, огонь, земля, вода; минералы, растения, животные. Плоское, выпуклое, круглое, заостренное, – красиво то, что существует. Любые вещи: трехмерные, двухмерные, реальные, фигуральные, существующие в трех измерениях и их отображения в двух измерениях, – изображения, которые мы сделали сами, не удовлетворившись тем, какими были предметы вне нас, мы хотели их повторить, хотели приблизить их, мы их размножили, мы взялись за это и уже не знали, где кончаемся мы и начинаются они. И вот во мне возникло ощущение всего, всего без разбора, не знаю как, не умею этого объяснить (даже сейчас, изо всех сил пытаясь это сделать, выразить это, сказать самому себе в последний раз)…
Вот этот громадный железный вестибюль, который снизу освещают электрические луны, с широко распахнутыми дверями, чтобы можно было входить внутрь, входить и входить, но никто больше не входит. Над мостиком висят цветные лампы, их цвета не меняются, тогда как обычно они мигали зеленым, фиолетовым, красным, белым. Движение мировых артерий остановилось. Мир исчезает. Я слишком любил этот мир.
Не в силах выбрать, я снова иду к его сокровищам, я пытаюсь что-нибудь быстро выбрать и не могу. Стараюсь выйти за пределы мира и не могу, даже теперь, когда несут меня ноги, приводя туда, где мне место. Бесценная плоть, бедная плоть, дивная плоть! О, материя! Материя пяти чувств, воспринимаемая на вкус, видимая глазами, которой можно коснуться, вдыхаемая, слышимая, ласкаемая, смакуемая, которую я все еще влеку к себе, помимо воли, из всех окон тела, за которыми я скрываюсь.
Невозможно, чтобы ее у нас отобрали. Невозможно, чтобы все, что с нами происходило, происходило зря.
Все эти материалы, грубые или тщательно обработанные. Стол, сделанный умелым ремесленником, любовь, которую он вложил в свой труд, в камень, из которого он вырезал. Любовь была прежде, не может случиться так, что любви не будет. Не может. Сколько всего исчезнет, будто никогда и не было! Скорее, вернуться обратно, я вижу все, что мы так любили. Не могло же все это быть ложью, или я не прав? Скорее вернемся назад, вспомните времена, когда мы поднимались к виноградникам. Зеленые пятна на стенах от купороса, жерди, такого же серого цвета, как скалы. Бутылка белого вина, рядом большие стаканы на выкрашенном в коричневый столике, и еще трубка, а возле трубки пачка табака. Вещи хорошие, красивые, здешняя земля и небо над ней. Все смотрели, как идет над Юро́й время, тогда время приходило из-за Юры́, подняв ветряной посох, дабы гнать впереди стада облаков. Все вещи, которые мы любили. Столько любви потрачено, и любви больше не будет. И они жили, чтобы ее выражать, а потом они уже ничего выражать не будут, никогда. Они все сразу и навсегда умолкнут. Они, говорившие столь долго, жившие столь долго в окружении разговоров, и – тишина. Словно они никогда ничего не сказали, словно всегда лежали на спине в углу, заранее сложив руки и ноги.
Тишина и ночь со всех сторон. Позади, впереди. Над Ассирией и Египтом, над Индией и над нами. Над Римом. И над вами тоже, прекрасная Франция, мать прекрасных тружеников, владеющих всеми ремеслами, они навсегда отойдут от дел, навсегда останутся безработными, они – кто никогда не знал, что такое безделье!..
Они оба все еще были в кирпичной башне с большими окнами на самом верху, шумно ходили из стороны в сторону, словно по палубе корабля.
Они ходили взад и вперед, продолжая высматривать и ничего не видя. Шли на восток, потом на запад. Шли на север, смотря на север: «Ну, что скажешь?»
На углу к юго-востоку виднеется озеро, воды, отныне безлюдные, напротив безлюдных гор, над которыми безлюдное небо.
Этой ночью было слишком много больших, очень ярких звезд. Каждый говорил лишь с самим собой, ничего не происходило. Они лежали голыми на кроватях, поворачиваясь то на левый бок, то на правый, пытались положить голову поудобнее. Голые, сняв даже рубашки, которые им мешали, но в воздухе возникала другая помеха – сам воздух. Каждый боролся за себя, постоянно отталкивая что-то, что все они хотели прогнать, они все, как таковые, это их тела, такие, какими они были сотворены, и это им грозила опасность, и они отбивались руками, ногами, то резко, то медленно. Действуя осторожно или, наоборот, неистовствуя. Маленькие дети, матери, стар и млад. На открытом воздухе, под одеялом. Под крышей или на улице, в каждом из сотен и сотен домов, стоящих вместе один за другим или по отдельности, с окнами освещенными или темными. Старые, молодые, богатые, бедные, больные, здоровые.
Ибо нет больше между людьми никаких различий.
14
Приветствую тебя!
Я вновь пущусь в воображении по воде, стоя у основания высокой мачты, под парусом, что выпятился вперед, словно живот беременной, я говорю:
– Приветствую!
Поднявшись в последний раз на один из больших каменных[13]13
Местное название кораблей, перевозивших камень и другой строительный материал из французской коммуны Мейери в Швейцарию
[Закрыть] кораблей с черным корпусом, стоя на его массивной шероховатой палубе, похожей на дорожный настил, и видя, как постепенно приближается гора:
– Приветствую! Приветствую тех, что там, впереди! Тех, что вон там, высоко!
Я снял шляпу:
– Приветствую, месье из Лаво!
Мы приветствуем савояров, что живут напротив, мы держим путь к вам. Мы пересекли озеро. Мы направляемся к вам под двумя большими зелеными парусами, пропитанными купоросом, или, быть может, их красили охрой, и они рыжеватые. Мы видим вас издалека за работой, мы узнаем вас по стенам еще до того, как покажетесь вы сами, по постройкам, по выступам, по заливам, по склону, возделанному человеческими руками, вскопанному, вырезанному, высеченному ими, полностью измененному ими, обустроившими ярусы и ступени, пересекающиеся, находящие друг на друга: приветствую! Вас, там живущих, ибо вы столько трудились, – приветствую, что б ни случилось! – когда вас видишь, когда идешь к вам, постоянно меняя направление на виражах, гора каждый раз поворачивается, кажется, что именно она, а не мы, крутится в разные стороны.
Ах, там повсюду стены, тем не менее, жители бодры, воодушевлены, – когда приезжаешь, когда видишь все это, эти триста или четыреста метров крутого берега, – без вас он давно бы обрушился, упал в воду, без вас весь берег давно бы лежал внизу, но вы были здесь, – приветствую! Приветствую вас, примите дань уважения!
Я по-прежнему в воображении на лодке, что плывет по просторам озера, я пытаюсь считать: стены высотой более двухсот метров и длиной почти в три льё[14]14
Сухопутное льё равняется приблизительно 4,5 км.
[Закрыть], и сколько же здесь может поместиться ярусов, каменных коробов и коробочек, начатков комнат, сооруженных одна подле другой, одна над другой, выдающихся вперед, отступающих вглубь, выступающих на мысах и уходящих на второй план, где растеклись заливы, и все это сотворено, вырезано человеком, выстроено полукругом, вогнуто, выпукло, отшлифовано, отполировано, соединено и ласкает взгляд, идущий издалека, а затем, при его приближении вдруг начинает дробиться, как шахматная доска, на серые и зеленые части, спутанные, перемежающиеся на спусках, словно то тут, то там непрестанно разгружали тележки.
– Приветствую!
Вновь приветствуя эти стены, я приветствую людской труд, приветствую по мере того, как плоды его открываются моему взору, и вижу, как люди обтесывали огромный берег, приспосабливая его для себя, имея о том свое представление, воплощая его веками, из поколения в поколение, не останавливаясь…
Я снимаю шляпу:
– Приветствую! Приветствую вас, месье из Лаво! Приветствую, люди сегодняшние, я обращаюсь и к ныне живущим, не только к тем, что были до вас, недостаточно было построить, следовало беречь, поддерживать, сохранять; недостаточно было сделать, следовало переделывать и доделывать; оно скользило вниз, обрушивалось, и вы стали каменщиками, вы не были лишь виноградарями, вы превратились в каменщиков, вы поднимали землю, вы поднимали ее каждой весной в заплечных корзинах, снизу вверх; вы были землекопами, инженерами, торговцами, архитекторами, чернорабочими, кем угодно, как вы умеете, и благодаря вам все держалось, все устояло!
Но сегодня они не показываются. Никого больше не видно. Напрасно приветствовать их, напрасно звать, они не ответят.
Их здесь уже нет, или они здесь, просто никого не видно. Слишком яркий, слепящий день, невероятная жара вызывают уныние, они не выходят из дома или же лежат один за другим, вытянувшись, в отбрасываемой стеной тени, столь малой, будто это узенькая черта, проведенная чернилами в конце записки.
Приветствие без ответа, но это неважно, я снял шляпу:
– Приветствую вас, тех, что там, впереди! И приветствую тех, что там, наверху! Несмотря ни на что! Что бы ни стряслось!








