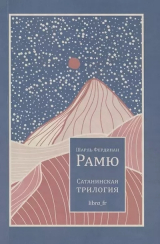
Текст книги "Сатанинская трилогия"
Автор книги: Шарль Фердинанд Рамю
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
X
Была среди них и Терез Мен. Лицо у нее было желтым, как сливочное масло, голова маленькой; кричала она всегда одинаково и жесты ее были всегда одни и те же.
Казалось, она одна не заметила перемены – это была все та же Терез Мен, то же потрепанное платьишко, те же огромные, серые, бесформенные башмаки, напоминающие, скорее, булыжники, та же соломенная шляпа, поля которой словно погрызли мыши.
И занималась она все тем же. В прежней жизни она пасла коз, пасет их и в новой жизни. Язык, на котором говорят с козами, на людской не похож. Он подобен швырянию камней, когда животные убегают от вас чересчур далеко: раздается возглас, и животным протягивают руку, как будто в ней соль.
Она ходила к подножью скал, где трава не столь хороша и растет так, что коровам неудобно ее щипать. Она садилась на землю и принималась вязать чулок. Когда ей хотелось есть, она раскрывала маленькую кожаную суму, висевшую на ремешке у нее на шее; когда ей хотелось пить, она шла к ручью.
Все та же самая Терез, все то же Занятие, и все те же, немного безумные, животные.
Они ходят, носятся туда-сюда, словно куски снега, думаешь: «Сошла небольшая лавина». Словно падают снежные комья, и еще говоришь себе: «С чего это вдруг елка зашевелилась?»
Они резкие, угловатые, стадо похоже на ткань плохо натянутого навеса. Есть козы бурые, как кора дерева; серые, как скала; буро-черные, как земля в еловом лесу; есть белые, есть не белые; они то стоят, замерев, неподвижно, но вдруг…
– Тэ!.. Тэ!..
(Слышится еще, как стучит птица, заприметившая червяка, вот стук смолкает).
– Тэ!.. Тэ!..
(Опять шум, птица взлетает).
– Тэ!..
XI
Приблизительно в это время они постепенно перестали понимать свое счастье.
Они не знали, что происходит: им казалось, что счастье уходит, ведь оно было всегда одинаковым.
Еще какое-то время они сравнивали новую жизнь с прежней, а потом воспоминания истратились, истощились. Они пришли со своими историями, они их друг другу рассказали, они к ним привыкли: воспоминания куда-то попадали, как падают плоды с деревьев и потом дерево больше не плодоносит.
– Что с тобой? – спрашивал Августен.
– Все хорошо.
Они шли по дорожке, по которой ходили уже столько раз.
– Ничего такого, – отвечала Августин.
Снова на дереве скакала белка, бежала вверх, спускалась ниже.
– Тебе хорошо?
– Мне хорошо.
Белка пробиралась по ветке к соседнему дереву; ветка стала под ее весом раскачиваться, и вот она уже раскачивается без белки.
– Ты всем довольна?
– Да, я всем довольна.
Он уже ничего не понимал. Невозможно было понять. Невозможно было ни с чем сравнить. Не было больше меры.
Он сорвал желтый цветок арники, бросил его на воду; цветок, кружась, поплыл прочь.
– Августин, моя маленькая Августин, смотри, цветок уплывает…
– Уплывает.
– Ты знаешь, куда он плывет?
– Он проплывет по лесу, доберется до луга, проплывет мимо склона с тальником, что похож на людей, раскинувших руки, поплывет под дорогой, затем спустится, спустится ниже…
– А дальше?
– А дальше будут края, которых я не знаю.
– Но я знаю…
Но тут же он понял, что больше не знает. Там, где он думал отыскать их в воспоминаниях, зияла пустота.
Ничто никогда более не изменится. Сердце ни в какое путешествие более не отправится. Сердце находит все там, где оно есть. Люди делают то, что делали прежде. Он снова бросит цветок в воду. Он опять будет смотреть, как белка бегает по стволу то вверх, то вниз. И все тот же цвет неба будет виднеться в просветах в сени ветвей.
Питом по-прежнему сидит на табуретке возле перегонного куба; гладит короткую белую бороду, говорит:
– Больше нет никаких грязных примесей. Прежде, когда я замачивал корни, страшно было смотреть, какой толщины поднималась на поверхности пена, надо было ее снимать три, а то и четыре раза. Теперь корни бродят, но вода остается такой же прозрачной, как если бы ее только что принесли из родника.
Из куба капля за каплей в глиняный кувшин сочился еще теплый ликер, будто часы отмеряли время.
Когда кувшин наполнялся, Питом шел перелить содержимое в склянку.
Еще были оплетенные бутыли – огромные стеклянные баллоны, до самого горлышка увитые ивовыми прутьями; прежде он привешивал к ним этикетки с указанием года; давая отведать ликера, он был похож на рассказывающего о вине винодела; говорил, к примеру: «Это – 1928-го. Вот это – 1931[21]21
Для героев эти годы обозначают «жизнь прежнюю», для первых же читателей романа, опубликованного в 1921 г., указанные даты обозначали ближайшее будущее
[Закрыть]-го». Теперь же все урожаи были похожи, меж всеми было сходство: «Это все отличного качества, – говорил Питом, – высшего качества, лучшее из лучшего, само совершенство!»
Взяв большой толстый стакан, наливали немного для пробы; и в самом деле, невозможно было представить вкус совершенней; принимались кивать, одобряя; но во всем этом не хватало радости удивления, сюрприза, может быть, превосходный вкус был ожидаем и нельзя было им насладиться так, как хотелось?
– Ведь в прежние времена, – говорил Питом, – все было не так. Конечно, в этих бутылках сидел еще и дьявол, в них оставалось что-то нечистое. В прежней жизни никто не знал, что именно будет с теми, кому я подношу выпить; надо было дождаться, когда подействует градус. Вы можете мне сказать, когда человек в прошлой жизни был истинным? Был ли он настоящим тогда, когда еще ничего не пригубил? Или тогда, когда уже выпил? Он показывал свою суть каждый день или в определенный момент? Ни в чем не было уверенности. Эти лучшие друзья… «Пропустим по стаканчику?» – говорил я. И, понимаете, сразу все становились задушевными приятелями…
Все думали, он собирается рассказать историю; вероятно, он и хотел поведать что-то еще, но вдруг замолчал.
Словно обрезали нить и то, что было привязано к ней, упало.
А Шемен в мастерской продолжал рисовать картину, используя лишь светлые краски, и дивился, что они кажутся ему уже недостаточно светлыми.
Он продолжал стоять перед картиной, на которой все было прекрасным; все на ней было таким, словно бы уже и не существовало.
Теперь все было слишком красивым. Уже не случалось так, как в минувшей жизни. Прежде, в той, минувшей жизни сердце человеческое было, как небо, а то чаще всего оказывалось серым; теперь каждый день в окна сияло солнце, и освещаемые им предметы, вырезанные из чудесной розовой лиственницы или благоухающей еловой сердцевины, начинали светиться. Прежде почти никто никогда не был собою доволен; может, на десять дней и придется один хороший; порадуешься на себя разок в две недели. В прежние времена на сердце редко случались праздники, может, поэтому их столь ценили. Шемен выколотил о верстак почти полную трубку. Чаще всего ничего вообще не хотелось, даже табака, потому что сам себе был противен. Напрасно принималась щебетать птица, которая вам прежде нравилась; напрасно качались ветки на склонившемся дереве, словно оно тянуло к вам руки. Шемен уселся в углу, уперся локтями в колени, опустил голову. Таким Шемен был в прежней жизни, сердце его было чутким, слишком чутким для той суровой жизни, он искал самого себя и не находил, но теперь… Что же происходит?
Пока Шемен держал кисть и ходил с ней туда-сюда, что творилось у него внутри? И что за странное поднимается в глубине сожаление, словно зверь взбаламутил ил на дне лужи?
– Я смотрю на своего малыша, говорю: «Ты такой милый! Улыбнись мне еще разок!» Мой маленький, он больше не плачет. Я надела на него рубашечку и вязаный чепчик, а поверх – хлопковое платьице и курточку, вот и все – теперь не надо надевать столько теплых вещей, как прежде. Иногда я кладу его в кроватку голеньким, а иногда сажаю его голенького на стенку ограды, там ему нравится. Машет ручками и ножками, сколько хочет.
Она подносила его к свету, показывала:
– Посмотрите. У него вокруг ротика все покраснело, словно он ел малину. Но водой это не смоешь.
Она брала носовой платок, терла:
– Видите?
И вторила остальным:
– Это потому, что у нас все теперь есть.
Единственное, чего нам не хватало, так это перемен.
И вот шла Катрин с внучкой, шла толстушка Мари с Печальной Люси (правда, та уже не могла печалиться). Слышался шелест воды: Феми поливала сад. За окном, как всегда, сидел Питом.
Шерминьон шел на своих двоих, словно у него всегда было две ноги.
Приходил Бе, его спрашивали: «Ты видишь?»
А когда добавляли: «В прошлой жизни ты такого не видел!» – он оглядывал вас с таким удивлением, словно бесконечное небо и все вещи под ним принадлежали ему веки вечные.
На вершине горы сверкает солнце. Одна гора – остроконечная, другая – ровная. Эта – зеленая. Та – серая.
Вот – одна гора, вон – другая, затем снова – гора, и опять – гора.
Одна – ровная, другая – остроконечная. Вон та – зеленая, а там вон – серая…
XII
Терез Мен поднялась с козами к местечку под названием Суз Анпрейз высоко в горах. Как можно понять из названия, оно находится под скалистыми склонами. Расположено на большой высоте, вдали от всего. Каменистые склоны Анпрейз сияют возле горной гряды, словно ящик матового стекла. Добраться туда можно часа за три. Повсюду обломки скал, когда-то рухнувшие сюда с гряды, огромные, как дома, будто стоит тут другая деревня. Ходить здесь с животными, в общем, неудобно. Местность это вздыбленная, удаленная, труднопроходимая и страшно дикая, хотя не настолько, как чуть дальше к востоку, где начиналось ущелье такое огромное, словно целую гору рассекли ударом гигантской сабли. Под склоном Анпрейз есть поросший травой спуск, а после – гигантские обломки; если повернуть налево – ущелье – надо встать лицом к гряде, оно будет слева. Земля внезапно уходит у вас из-под ног, обрываясь и скользя вниз на глубину не менее ста пятидесяти метров; и, чтобы обогнуть пропасть, нет ничего, кроме узкого карниза, на котором едва помещаются ноги. Повсюду вокруг еще царствует солнце, но ниже – местность, куда солнечный свет никогда не проникал; нет там ни красоты, ни силы дня. Тем не менее в прежней жизни именно сюда люди отправлялись на поиски и даже отваживались спускаться вниз меж горных массивов, гонимые потребностью раздобыть воду, смертельно рискуя из страха погибнуть от смерти иной (в периоды великой засухи); они спускались глубоко в ущелье, отыскивая ручей, а позже проложили для него русло, обустроив деревянный канал, но то время кончилось. Теперь для спуска требовалось уж слишком большое любопытство, которое как раз и приписывают козам, ведь порой оно просто распирает этих рогатых созданий.
И вот козочка – звали ее Бланш, и принадлежала она Феми – поскакала именно к ущелью.
– Куда это ты?!.. Эй! Эй! – Кричала Терез. – Эй! Чего это?!..
Она поднялась, продолжая ту окликать:
– Тэ! Тэ!
Но Бланш, не слушая, уже скрылась за огромными камнями.
– Тэ! Тэ!
Терез замахала хлыстом:
– Тэ! Тэ!
Маленькое вздутое лицо исказилось. Малорослая пузатая фигурка метнулась вслед за животным.
– Тэ! Тэ!
И снова:
– Тэ!
Крик раздавался уже вдали.
И вот уже никого и не видно, коза скрылась в ущелье, а Терез устремилась за ней.
Потом все было, как каждый вечер. Стадо спустилось с гор в обычное время, как и всегда. Стадо было собрано, позади шествовала Терез. Стадо было большим, и отсутствия в нем одной козы никто заметить не мог. Исчезла лишь частица огромной массы, которая то устремлялась с горных ярусов вниз скачками, только временами замедляя ход, напоминая водопад, то ровно шла по земле, являя картину оползня. Вид стада из-за одного животного не меняется. Настал дивный вечер, похожий на остальные. Все вещи были окутаны розовой дымкой, словно виноградные гроздья что помещают в кисейные мешочки, дабы защитить от ос. Послышалась неспешная песня. Оказавшись прямо над деревней (на последнем горном ярусе), Терез, как всегда, подудела в медный рожок.
Распахнула калитку. Животные вошли в загон. Она затворила калитку.
И все было, как каждый вечер. Как каждый вечер, приходили женщины, каждая забирала одну или две козы, берясь либо за один ошейник, либо обеими руками за два ошейника. Пока все было, как каждый вечер. Единственная разница заключалась в том, что Терез осталась возле загона, тогда как обычно сразу же шла домой.
И женщины:
– Чего ждешь-то?
Но она продолжала вязать чулок, этого вместо ответа для нее было достаточно.
Распухший зоб ее шевелился, руки двигались какое-то время в одинаковом темпе, пока не явилась Феми.
Феми собиралась войти в загон, но Терез проговорила:
– Можете не ходить.
– Почему это?
– Потому что вас там никто не ждет.
Такая была у нее манера изъясняться, поди пойми. Но люди понимали. Пытаясь засмеяться, она издала звук, из-за ее дефекта похожий на блеяние.
И больше ничего. Феми ничего не сказала, она не рассердилась, не принялась сетовать. Больше никто не сердился, никто не сетовал.
Ее обступили другие женщины. Одна сказала:
– У нас молока слишком много, возьмите…
– У нас скоро будут козлята. Мы с Люком дадим вам козочку…
И правда, зачем беспокоиться? Все уже не так, как прежде. Все уже совсем не так, как в прежней жизни, когда за каждую вещь приходилось платить, и порой даже больше, чем она стоила.
Из загона выходили последние животные, всех коз увели. Постепенно розовая поволока померкла. Мимо пробежала девочка в длинной юбке, из-за которой она казалась маленькой женщиной. На небосклоне цвета неспелого лимона появилась первая, яркая звезда.
И по-прежнему всюду было спокойствие, невероятное спокойствие, тишина. И все знали, что никогда ничего не изменится.
XIII
Тем не менее что-то как будто уже по-другому, иначе как объяснить сильное волнение Феми? Вернувшись вечером домой, она сразу же вышла. Вновь пошла в дом, снова выскочила. Точно так же, как и Шемен раньше, в иной жизни. Все точно так же, как в жизни прежней. Она ходила по саду и, раскачиваясь, бормотала:
– И все же это как-то странно!
В конце концов она сказала себе:
– Ну, тем хуже. Я все же пойду!
В великой тишине на площади пили коровы. Пока Феми шла, несколько коров еще оставались там, их можно было различить в сумерках. Они тянули воду, поверхность которой, тем не менее, оставалась ровной; коровьи бока едва касались друг друга в великом покое. Разве что какая-нибудь из них, подняв голову, мычала, словно кто-то дудел в берестяной рог. И все было пока невероятно спокойно на площади, но дело звало отсюда уйти, пойти дальше. Надо было добраться до улочек позади церкви. Бедной Терез вернули ее земной дом, но выглядел он так, словно вот-вот упадет (хотя теперь он уже никогда не смог бы упасть). Феми поднялась по шатающейся лестнице. Слышались звуки, словно кто-то колол дрова, это трещали горящие поленья. Она постучала, ей не ответили. Толкнула дверь. Вначале она увидела лишь огонь в печке. Казалось, в комнате никого нет. Ничто не двигалось, разве что время от времени выпрыгивала из топки искра, словно красная саранча. Напротив печки стояла скамеечка, и у нее вроде как была спинка… Или что это такое? Но вот оно зашевелилось.
Ворвавшийся в трубу порыв ветра разметал пламя; комната раскачивалась, словно корабль; стены клонились в сторону, затем словно распрямлялись; всплыла из темноты большая кровать с бортиками, опять потонула. Внутри Феми будто бы тоже все раскачивалось… Ах, бедные наши сердца! Наконец, она произнесла приветствие, затем повторила его.
И потом, дрожащим голосом:
– Терез!
Она сказала:
– Терез, я же ничего не знаю, а ты знаешь…
Но что следовало говорить дальше? А надо было что-то говорить. Одно из поленьев стрельнуло так громко, словно ружье. Головешки рассыпались, и настала почти полная тьма. И, словно при этом добавилось смелости, из тьмы донеслось:
– Послушай, Терез, никто ничего не узнает, обещаю. Ругаться тоже никто не будет, ты же знаешь, не то теперь время. Скажи мне, где Бланш… А то я вся изведусь…
Вдоль кладки снова взметнулось огромное пламя, спина Терез как-то странно задвигалась, она словно бы повела плечами.
Она еще больше нагнулась вперед, снова послышался ее смех, а потом она заговорила хриплым голосом:
– Если вы хотите увидеть все сами, я покажу, где это.
И Феми:
– Да.
Она внезапно решилась.
Вода в котелке загудела, пошел пар. Вода бубнила, напевала что-то свое, крышка приподнялась.
– Не позже завтрашнего утра! – продолжила Феми.
Затем повернулась, чтобы уйти, но прежде, чем миновать порог, глянула вновь на Терез; в темноте было видно, что та подняла руку и терла пальцем у носа.
Нос был маленький, какой-то плоский, а палец – короткий и весь перепачканный.
XIV
Ночи были короткими. Они уже не длились до бесконечности, как долгие зимние ночи былых времен. Вскоре наступили прохладные сумерки. Небо посветлело, и в тот же час вышла из дома Терез. Немного погодя, вышла и Феми.
Она повернула в сторону склона; склон был крутой, дорога предстояла длинная. Если б можно было взглянуть на нее сверху, Феми внизу была бы лишь точкой размером с муху. Она поднималась, проскальзывая меж каменных глыб, то скрываясь за ними, то вновь представая взору. Вот опять пропала, на этот раз надолго, но, когда вновь появилась, можно было различить, что Феми надела самое красивое платье и шёлковый передник, иначе говоря – воскресную одежду (хотя воскресений-то уже не было) – прежде ведь было принято, когда люди шли куда-то далеко от дома, одеваться получше.
И Феми сделала все так, как привыкла в прежние времена, – неужели они вернутся? Однако, меж двумя женщинами не было ничего общего, они даже не разговаривали. Когда Феми подошла, Терез лишь показала рукой направление, ткнув пальцем в сторону ущелья.
Феми сразу туда и свернула. Опять показались огромные скалистые глыбы, похожие на дома без окон; проходы меж ними были узкие, путь выдался не из легких. Были там укрывшиеся за кустами ямы, Феми спотыкалась, колючие ветки сквозь юбку царапали ноги. Время от времени она звала Бланш, но Бланш нигде не было видно. Феми продолжала идти. И чем дальше она пробиралась, тем больше все вокруг было диким и скорбным: ничто и нигде не двигалось, ничто нигде не было живо, кроме разве что белого пятна в самой глубине расщелины, то был поток; повсюду жуткая темень, невероятный холод, но Феми все равно продолжала идти. И, когда перед ней словно разошлись каменные стены и предстал некий вход, она даже не замедлила шага, сразу же направившись по правой стороне, прижимаясь к камням и ступая медленно по карнизу. Страх существует. Но есть еще нечто, что страха сильнее. Существует ужас, как в прежней жизни. Он был позабыт, но вернулся. Однако сильнее них говорят желание видеть, желание знать.
Стал различим глухой гул, какой бывает, когда пес рычит в конуре. Послышались стоны. Стоны затихли. Кто-то кого-то позвал. Но вот голоса умолкли. А теперь кто-то принялся шептать…
Терез хохотала.
Терез хохотала (когда Феми была внизу), взобравшись на одну из больших глыб, откуда могла все видеть.
Она подождала, сколько было нужно, потому что прекрасно знала, что произойдет дальше, уперлась руками в колена и раззявила рот.
Феми даже не бежала, – она неслась молнией. Неслась прямо вниз, чуть подняв руки, чтобы сохранять равновесие, так быстро, как только могла. Так быстро, что никто не мог бы поверить, учитывая ее возраст и слабость в ногах.
Терез смеялась, Феми бежала обратно. Она проскочила, ничего не видя, мимо глыбы, на которой сидела Терез, и вот она все дальше, все ниже. Она только что была здесь, и вот уже след простыл…
Дальше было довольно узкое место (небольшая долина), потом лес.
Еще одна долина и еще один склон, и вот уже навстречу Феми поднималась деревня.
По пути ей попался Продюи. Продюи:
– Что стряслось?.. – он не успел закончить фразу.
Чуть ниже золотоискатель Морис собирал яблоки. На нем был синий фартук садовника, в который, придерживая его рукой, он клал яблоки. Он взял одно:
– Зайдите посмотреть и…
Она была уже далеко.
Женщины, высунувшись из окон, окликали ее; стоявшие у двери махали руками, приглашая зайти. Она что, оглохла? Или ослепла? Да и вообще, куда она так торопится, теперь ведь никто не носится сломя голову?
Но она не останавливалась до тех пор, пока не добежала, наконец, до собственной кухни, где рухнула на табуретку…
Ночь настала великолепная (все ночи теперь красивы, но эта была одной из прекраснейших).
Луна стояла огромная, сияла повсюду. Она освещала горы, и в то же время казалось, свет идет из горных глубин, словно кто-то зажег огромных размеров лампаду, настолько светлы были сами камни. Луна этой ночью была огромной, как металлический круг для выпечки пирогов у нас дома.
Но еще была тайна. И стало ясно, что скрывать ее слишком тяжко, что нести ее в одиночестве невозможно. Словно это корзина стираного белья или полное до краев кухонное ведро.
Феми поднялась. Вышла. Потом:
– Катрин!
Она уже стояла под окном Катрин:
– Катрин!
Затем опять:
– Катрин!
Наконец, Катрин появилась, высунувшись из окна и сделав Феми знак рукой, чтобы та не входила.
Она только что уложила Жанн, малышка уснула. Феми немного подождала…
И принялась рассказывать, теребя в руках пояс фартука.
Теребя в руках пояс фартука, говоря тихо, быстро, говоря очень тихо и очень быстро, качая головой, затем схватила Катрин за руку.
И Катрин:
– Не может быть!
– Главное, никому ничего не рассказывай, ладно?!
Но мимо шел охотник Бонвен и, понятное дело, он видел двух женщин.
И, понятное дело, женщины болтливы.








