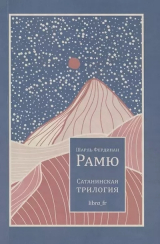
Текст книги "Сатанинская трилогия"
Автор книги: Шарль Фердинанд Рамю
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
6
Жюль Гавийе, маклер, работал в бюро до семи часов, потом отправился ужинать.
Этим вечером он оказался один; приятель, с которым они обычно вместе садились за стол, был в отпуске.
Он глянул на газету, как и многие другие, пожал плечами.
– Сегодня у нас телячья голова, месье Гавийе, – сказала официантка.
– Прекрасно.
Аппетита у него не было. Ни у кого в эту пору не было аппетита. Гавийе, засунув кончик салфетки за отложной воротник, ел рассеянно, погрузившись в мысли о работе.
За окном виднелись все те же крыши, прохожие, трамваи, высокая башня собора, мост с каменными арками и тот же самый участок неба. И Гавийе, пока жевал, продолжал громоздить в голове цифры; глаза, казалось, на что-то пристально смотрят, но это лишь работала его вычислительная машина – обычный человек, такой же, как все, умножающий, складывающий, вычитающий…
Принесли суп…
Под столбиком цифр проводят черту, для этого берут линейку.
Все заботы, все наши заботы об этом. Пока он смотрел, ничего не видя, он проводил черту в небе над мостом, прохожими, крышами, над соборной башней…
Около 2 200, если все будет гладко.
2 200, 2 300… «Завтра увидим, на сегодня с меня довольно…»
В графине оставалось немного вина, он вылил его в стакан и залпом выпил. Увидел, что сидит один перед мраморным столиком, за окном наступали сумерки, словно кто-то задергивал занавес. Он заплатил, раскурил сигару. Попыхивал, складывал трубочкой губы и выдыхал сизый дым. Чем же заняться вечером, что придумать, чтоб дотянуть до завтра? Ответ не заставил ждать: кино, матовая стеклянная вывеска которого только что загорелась. Надо было пересечь площадь, а потом спуститься по улице. Несмотря на поздний час, кричали торговцы газетами, люди на тротуарах сходились группками. Гавийе купил билет второй категории. Начали с «Пате-журналь»[9]9
Новостные хроники, выпускавшиеся киностудией «Пате».
[Закрыть]. Демонстрировались кадры дефиле в костюмах жителей Бретани, присутствовал один из министров. Гавийе сидел в зале. Никто, человек из бюро. Начало человека, всего лишь голова, чтобы ставить одни числа перед и под другими. Показывали Нью-Йорк с высоты лесов строящегося небоскреба, затем самого оператора, с дребезжащим устройством в руках лежащего на животе на металлической балке. О, моря, реки, берега, безграничные перспективы! Похожие на насекомых машины, фигурки людей. Широкое пространство, толпы снующих в разные стороны, забегаловки, каналы, авеню. Поезда похожи на гусениц, большие военные корабли – на тыквы… Мелькнул целый мир, затем все погасло. Освещение переменилось. Было видно, что зал почти пуст. Но вот, замолчав на мгновение, мир снова заговорил, великий мир, великий прекрасный мир появился вновь, он хотел, чтобы его любили. Самолюбивый, спесивый, гордящийся собственной мощью, говорящий: «Ты ничего обо мне не знаешь!» Он красив, он ласков, он суров, горек, жесток, велик, он уродлив. Он пустыня, он полон людей, безлюден, населен, он ничего не производит, он производит все. Города, пустоши. Этот мир говорит: «Это я!», и еще: «Это я, узнай же меня!» «Посмотри на меня!» Он выходит на первый план, мы же отходим назад… Показывали льды Северного полюса, расщелины, полные черной воды, по которой шел корабль с вооруженными карабинами людьми на борту: медведь, когда попадает пуля, встает на задние лапы, скрещивает передние на груди, словно дама с муфтой, вертится, вертится…
В зале зажегся свет. Гавийе промокнул лоб. Великая жара возвращалась, прогоняя призрак прохлады. Существует множество реальностей. Гавийе смотрит, не видя, на расклеенные по стенам афиши, сиденья на пружинах, украшения в стиле Людовика XV, светящиеся на потолке лампочки. Бедные люди на креслах третьей категории: отец, мать и две маленькие девочки. Несколько рабочих в кепках. Дальше всех сидел читавший газету лысый старик. В освещенном зале царила тишина, в воздухе, где еще купались несколько бедных тел, витала бесцветность, пошлость: это и есть реальность? Это ложная реальность. Все ждали иного, и реальность вернулась… По песчаным утесам несутся лошади, на лошадях мужчины в остроконечных шляпах стреляют из пистолетов…
Мексика. Юг Соединенных Штатов, граница с Мексикой. Герилья. Деревянные домишки, деревни. Бронированные локомотивы. Подозрительные кабаре, в которых вертится танцовщица, но вот дверь выбивают плечом. Боксерские схватки…
И любовь.
Вот этот вот, высокий, гладкий и светлоглазый, увозит жену пастора-миссионера. Он посадил ее на седло перед собой. Картинка меняется.
Он посадил ее перед собой, она в простеньком корсаже со стоячим воротником. Они несутся по скалистой пустыне. Картинка меняется.
Ущелье, они идут по крутой тропинке у самой пропасти. Картинка меняется.
Он положил ее на кровать, смотрит на нее… О, мир, мир, куда заведешь ты нас? Сколь глубоко проникают дары твои в человеческие сердца, что испытывают любовь, желание, гнев, все виды ненависти, все виды любви и ненависти? Есть любовь, требующая своего и любовь жертвенная. Есть любовь противоречивая. Есть противоречия, вызывающие любовь…
По-прежнему все мелькало, по-прежнему Гавийе видел все это и не знал что делать. Из глубины неведомого шел голос, кричавший ему о человеческой безграничности, о красотах мира, голос взывал к тому, кто никогда ничего не знал…
Он вышел, на улице кричали, что с вечерним поездом пришел свежий номер парижской газеты, он купил экземпляр, развернул в свете фонаря.
С одной стороны листа толстыми буквами было напечатано несколько сообщений. Он пожал плечами, скомкав листок, отшвырнул его. Снова пустился в путь. Впереди шел сначала его белый жилет, видневшийся из-под темного пиджака, который сам был неразличим, и меж деревьев плохо освещенной аллеи виден был только жилет. На площадях висели светящиеся электрические шары, вокруг вились облачка мошек и пядениц. В кадках стояли пальмы. Меж вилл показалось озеро, луна отражалась в нем, словно пролился кувшин молока. Он достал из кармана ключ, поднялся на четвертый этаж. По давней привычке аккуратиста он шел на цыпочках. Комната располагалась в конце коридора, он снимал ее вместе с мебелью у одной старой девы. Зажег свет. Увидел кровать, царящие в комнате чистоту и порядок, – все это наводило тоску, было заурядно, мелко, словно не существовало, – похожие друг на друга вечера, когда он засыпал, рассветы, когда просыпался, одни и те же движения. Как всегда, он повесил пиджак на спинку стула, как всегда, сложил брюки, завел часы, выключил свет.
Он выключил свет, вокруг него наступила ночь.
И вот засиял иной свет.
Словно раскрылась стоявшая запертой дверь, и вот уже чувствуется свежий воздух, виднеется солнечный свет, слышится жужжание майских жуков.
И вот внутрь проникает уже целый мир, и так хорошо, а потом…
Он говорит себе: «А вдруг это правда?!»
Это случилось именно теперь. Он вспомнил о новостях, что прочел в журнале. И внезапно почувствовал саму жизнь, но в то же время рядом оказалась и смерть, которой он еще не знал, поскольку не знал и жизни.
Одна без другой не приходит. Приходит одна, приходит и вторая. Та еще не пришла, поэтому нет и этой.
Он сел на кровати.
В воображении вокруг простирались невероятные просторы, они только что зародились и в то же самое время были разрушены…
Он никогда об этом не думал, он до сих пор так и не понял, что у нас есть все и нет ничего. У нас ничего нет, потому что у нас есть все.
Напрасно он пытается об этом не думать, откинувшись назад и положив голову на руку, как готовящийся ко сну ребенок.
Он не мог спать. Он сел, снова лег.
Опять поднялся, включил свет, потушил, сел, обхватил руками голову…
Вдруг удивился: в просветах меж пальцами уже видна заря, на улице вовсю поют птицы.
7
Сегодня я снова буду сидеть за столом. Так долго, сколько смогу. Стол из ореха, неполированный, без ящиков, небольшой; он из сырого дерева, ножки плотно сколочены, в ширину почти такой же, что в длину, почти квадратный; я буду сидеть за ним, прижавшись к столешнице, будто к самой жизни, и смотреть.
Смотреть, что происходит, и писать лишь о том, что происходит на самом деле. О том, что видно в распахнутое окно меж железных прутьев, комната на первом этаже; виден лишь край луга, справа увитая плющом стена; подальше – бузина, колыхавшаяся, будто маленькое море, когда дул ветер; сарай с черепичной крышей; слева три больших тополя.
В этот самый момент передо мной все то же: все тот же уголок сада.
Когда медный чайник на спиртовке принимается петь, говоришь лишь о том, что творится на самом деле. Фарфоровый фильтр готов, кофейные зерна смолоты, из металлической коробочки взята еще горсть, зерна высыпаны в мельницу, зажатую меж коленок, крутится ручка. И вот слышится шум падающих капель, – отчетливо, вокруг полная тишина, – словно бьют настенные часики.
Сидеть за столом, не двигаясь, писать лишь то, что видишь.
Этим утром, как всегда, видишь озеро, которое, правда, почти полностью спрятано за окаемкой плоского яруса, на котором стоит дом, горы тоже почти скрыты деревьями. Писать лишь то, что видишь. Видишь лишь то, что все это очень красиво, все совершенно спокойно. Вначале слышались только звуки падающих капель, затем раздался птичий крик, птица умолкла, звучит голос соседки, вышедшей на балкон.
Вновь окунаю перо в чернильницу. Я буду жить еще какое-то время. Я смотрю, сколько хватает сил. Вещи, я смотрю на вас, я вижу вас. Две, три, четыре, я пытаюсь вас сосчитать. Когда счет закончится? Сколько вас? Кто вы такие? Зачем вы? Снова пробило восемь, Бессон – извозчик – беспрестанно бранясь и болтая, запрягает лошадь возле сарая, гремит о мостовую ведром. Как и каждое утро, слышен его громкий голос, шарканье сандалий. Громкий голос, шарканье сандалий на деревянной подошве, и время, проходит время… Голова Бессона показывается за малинником. На голове соломенная шляпа, лицо в профиль. Бессон спускается по трем ступенькам, трижды встряхивая головой, вот он анфас. Подошел ближе. Перед ним лошадь. Он уже на сиденье. Меж тополями и туями покачивается обшитый бахромой кремовый зонтик. На сливовом дереве еще остались плоды, Бессон кнутом сшибает себе один.
Слива падает на зонтик. Идет время. Писать лишь о том, что видишь. Тихо наблюдать за тем, что творится. Все проходит перед нами, все идет своим чередом, ветви то подымаются, то опускаются, и с каждой секундой цветок раскрывается все больше, хотя никто об этом не знает, листок колышется, крутится на стебельке, показывая временами обратную сторону, и по-прежнему сочится вода из фильтра.
Снова упала капля, отмеряя время, будто маленькие настенные часики, которые почти опустели, постепенно высвободив все, что в них заключалось…
За выкрашенной серым дощатой калиткой двора едет трамвай. Я сажусь в него. Прохожу в переднюю часть вагона, где висит табличка: «Разговаривать с вагоновожатым запрещено». Он сидит прямо под ней. И все с ним разговаривают. Окошки распахнуты, чтобы шел воздух. Возле меня два-три человека. Один говорит:
– На десять лет раньше, на десять лет позже…
И пожимает плечами.
Другой спрашивает:
– Сколько тебе лет?
– Пятьдесят три.
И тишина. Через какое-то время кто-то заговаривает опять:
– Десять лет не так уж и мало!
Это вагоновожатый. Он обернулся.
Невысокий человечек в сером пиджаке, худой, бледный, с гнилыми зубами, у которого есть лишь его жизнь, обернулся: для него десять лет – это довольно много.
Ему отвечают:
– Ну, а чего ты хочешь?
Умудренные, они начинают перебрасываться словами, трамвай проезжает под деревом, под другим, опять под деревом вдоль проводов, и один говорит:
– Разница только в том, что уйдем все вместе, а не поодиночке.
– Может, так даже лучше, кто знает?
Он улыбается, держа во рту затухающую коротенькую трубку, отводя руку назад и берясь за железную перекладину, преграждающую вход в трамвай. От того ли слова их мудры, что они прожили долгую жизнь?
Тот, что курит трубку, улыбается, пожимает плечами…
И вдруг становится видно, что перед вокзалом полно народа. У дверей касс непрерывно останавливаются автомобили, на которых громоздится багаж, вдвое больше самих машин. Гудок поезда взвивается выше свода центрального павильона, откуда падает, словно внезапно прервали струю воды. Время утренних скорых поездов: до Симплона, до Бернского Оберланда. Можно подумать, люди бегут в горы. Почтальоны, как всегда, стоят группкой на площади, держа на руках перевязанные стопки газет, доходящие до самого подбородка. Они заходят в трамвай, человек десять. И последний, извиняясь за неудобства:
– Надо было видеть эти поезда! Люди дрались за места. Народ стоял даже на ступеньках!.. Трамвай отправился дальше. Разговор продолжился. Дребезжание трамвая, автомобили, грузовики, улицы. И самый старый из почтальонов, пузатый толстяк, с которого пот тек ручьями, капая с густых бровей:
– Говорят, каждый день будет на градус жарче…
– Да-да.
– Сегодня 39°, завтра 40°, 41°… 50°… 100°… Черт побери!
«Разговаривать с вагоновожатым запрещено!» – когда никто с ним не говорит, он заговаривает с вами сам.
Пока трамвай поднимается по широкой прямой улице, он опять поворачивается, демонстрируя черные усики на лице цвета золы:
– Где вы такое вычитали?.. Черт вас возьми!
И резко ударяет каблуком по рычагу.
Люди расстегивают пиджаки, надетые поверх хлопчатобумажных фланелевых рубашек, наполовину расстегнутых, демонстрирующих шею и грудь. Кто-то сдвигает кепку. И люди, будто виноградная гроздь, то подаются вперед, то откидываются назад в зависимости от того, как идет трамвай, один смеется, другой курит трубку, и снова человек с трубкой:
– Хорошая будет компания! – Он улыбается.
И все видят, что возле национального банка уже выстроилось полицейское оцепление.
8
Еще все видели, что пришел расклейщик афиш. Лист бумаги с напечатанным черным по белому текстом был сложен вчетверо в переднем кармане халата.
У него было ведерко с клеем. Справа была заклеена нога заклинательницы змей, слева – заголовок пьесы, которую собирался дать гастролирующий театр: порядок никого более не волновал. Развернув бумагу, мужчина приклеил ее с двух сторон и прошелся поверх щеткой.
Подошли люди, принялись читать. Это было воззвание Государственного совета. Правительство взывало к благоразумию граждан. Но то, что должно людей успокаивать, лишь сеет меж ними тревогу. В воображении возникают образы. И все, что предстает взору, под эти образы неминуемо подстраивается. Зарождается смутное опасение, и оно только растет. И вот оно уже заставляет вас иначе смотреть на вещи, у вас меняется цвет лица, на нем написано опасение, оно передается тому, с кем вы только что виделись. Однако ни над крышами, ни на восьми стенах колокольни, ни там, где колышется в воздухе взвесь из солнечного света, черных пятен ветвей и пыли, пока ничего не заметно. Это происходит в сердце, в первом услышавшем сердце. В голове с коротко остриженными или длинными волосами, то есть там, где есть разум, понимание, что у всего есть начало и конец. Так что же, это конец?!
Я вышел из трамвая, довезшего меня до центрального киоска, который посыльные разрисовали зелено-коричневыми, желто-розовыми и синими голубками. Правда ли, что все вокруг двигаются быстрее, или мне только так кажется? Все эти люди – местные месье, обычно напускающие на себя холодный, серьезный вид людей степенных, не думающих ни о чем, кроме себя, – совершенно переменились, они подходят друг к другу, машут руками. Все они здесь, пока что. Я тоже стою на солнце, палящем как никогда. Очертания крыш на фоне неба дрожат. Я пришел, думая о чем-то невероятно значимом, не зная, происходит ли это внутри меня самого или где-то снаружи. Мимо прошли пожарные, опоясанные ремнями, в касках с медными гребнями. Пробило девять. Девять ударов обрушиваются на вас, словно обломки скал, валящиеся один за другим с гулом, перекрывающим любой другой шум.
Люди поворачивались к солнцу: «Оно еще здесь?» Оно было еще здесь.
И все время витала в воздухе угроза конца, и неизвестно было, когда он наступит, на какой или между какими из двенадцати начертанных наверху черным по белому римских цифр окажется стрелка, идущая пока от цифры к цифре.
Будто начался закат, но происходил он внутри и был нового, непривычного цвета, сам свет был как будто иной, новый, и, освещая все вокруг, все предметы, высвечивая идущих мимо женщин с оголенными руками, свет мерк…
9
Было слышно:
– Они что, боятся?.. Да, они там боятся. А мы нет!
Было слышно еще:
– Они бегут! Пусть бегут!
Это было в нижних кварталах.
– Мы останемся там, где жили. И воспользуемся этим. Вот что я скажу, пусть все катится к чертовой матери!..
Кто-то неистово пытался сыграть на аккордеоне. Пивная кружка с переливающейся через край пеной отражалась в оконном стекле, демонстрируя оттенки белого и коричневого.
– Да не так же! – Сказал человек в углу – тому, с аккордеоном. – Не так! Ты не то играешь! Ты должен играть по-другому. Сегодня у всех все по-другому, все вокруг по-другому… Быстрее!.. Вот так!.. Давай!..
И принялся петь, вступив во бремя короткой паузы. За грязным окном с перештопанными кисейными занавесками виднелся столик, два столика…
Там, в нижних кварталах, на дне города, меж двух холмов, где все сокрыто, потаенно, плохо освещено, где город нависает сверху, давя всем весом, препятствуя дневному свету спуститься ниже, мешая движению воздуха, какой-то человек играет на аккордеоне, другой поет, приговаривая: «Вот и наступила свобода!»
Справа и слева устремляются вдаль черные низкие фасады домов с лавками: лавкой старых вещей, лавкой подержанной мебели, лавкой металлического лома. И так с каждой стороны улочки, переходящей в другие похожие улочки: сплошная неразбериха проулков, связанных меж собой в узелки, будто котенок, играя клубком, спутал нитку.
Здесь, в складке меж двух холмов, в низине города и низине жизни, в изножье, в исподних краях, в тюрьме; здесь, вдруг – свобода!
– Нам больше ничто не мешает! Что захотим, то и будем делать! Слышите, вы?! С сегодняшнего дня – ничто больше… Так что поторапливайтесь! А ты что?! Давай играй!
– Теперь все пойдет иначе, он дело говорит! Теперь все изменится!
И первый снова играет на аккордеоне, а второй поет.
Так, понемногу, что-то начало подниматься, поднялось под крышами и меж них. Что-то, чего еще никто не видел, начало приближаться. За пока еще запертыми дверями, за стенами, под черепицей цвета подгоревшего хлеба, черной от сажи, зеленой от мха, где жили прежде, где жили до сего дня; но вот хлопнула одна ставня, другая, и женщина:
– Идем?
Под подбитыми башмаками заскрипели деревянные ступеньки.
Человек перестал петь.
– Теперь – все, что хотите! Так что эй, вы! Идите же!
Он видит, что люди идут, заходят внутрь. Он поднимает стакан, говорит:
– Это больше ничего не стоит! Это больше ничего не будет стоить!
Те еще не понимают, но им разъяснят.
– Эй, вы! Идите же! Сейчас мы все вам расскажем, все растолкуем!..
И тишина. Затем вновь поднимается шум.
Глухо, снизу. Никто еще ничего не различает, никто еще не понимает, что это. Помните, как порой в августе виноградникам грозил град? То самое время, когда ливень еще не начинался, туча еще не перевалила за гору? Когда еще ничего не было видно, лишь на краю неба стояло белое облако, словно кто-то вывесил простыню.
И шум, именно этот шум. Словно приближается войско.
10
– Жарит-то как, а?!
Их двое на корабле: старший Паншо и младший.
Эдуар Паншо что-то сказал и замолк. Жюль, младший, не ответил.
Вода тоже хранила молчание. Здесь тишина повсюду, ничто не молвит ни слова. Куда ни глянь, все гладко и ровно. На севере озера виноградники, на юге – горы. И меж югом и севером – ничего, нигде, одна вода, вода тишайшая. Кажется, никогда еще она не была такой молчаливой, такой скупой на слова, на фразы, во всей неимоверной толще, несущей на спине корабль, а в глубинах – множество рыб, и – ничего более – когда вы здесь, посреди просторов, а залив по краям рисует перевернутые тополя, перед вами – лишь протяженность, бессмысленная и беспредельная.
Братья Паншо лежат в трюме. Где-то на берегу потасовка, но они будто ничего и не слышат. Звук электропилы похож на пчелиное жужжание, такое тихое, словно пчела за день устала. Вторая половина дня, часа три пополудни, наверное. Но теперь ведь нет времени, и перемен никаких нет.
Напрасно они ковали в кузнице, напрасно подковывали приведенную лошадь, и напрасно закончили с ней и принялись подковывать следующую. Плотник в новой маленькой мастерской может строгать сколько угодно, ведя рубанок к краю доски, второй, третьей. Надо было еще подождать, подождать, когда поднимется Эдуар Паншо.
Перед вами встает человек, и все изменяется. Подпаленный, обожженный, бурый, смуглый, на боках кожа отсвечивает; где при движении натягивается, светлеет; штаны на бедрах едва держатся – Паншо, Эдуар Паншо, – лишь надо было, чтобы он поднялся на ноги.
Вначале голова, плечо, другое плечо. Человек лежал, теперь он встает. Вот он растет напротив горы, вот вырастает выше горы. Он обустраивает все, что видит. Приказывая рукам двигаться, чертит огромный круг над далекими скалами, над небесными пустошами, и вот скалы оживают, небеса полнятся жизнью. Захотев пить, Паншо поднялся, взял в руки черную бутыль, которую протянул брат, и пьет. Запрокинув голову, широко раскрыв рот. Не касаясь губами бутыли. Тонкая струйка проделывает короткий путь в воздухе. Паншо пьет, все вновь оживает. Запели в кузнице, рубанок ворчит и смеется. Пила выводит длинную свистящую гамму, добираясь до верхних нот. Теперь это не один корабль, их два: первый светло-зеленый, второй – перевернутый, темно-зеленый. А вверху, в самом центре, Паншо, подвесивший в воздухе гору с одной стороны, и гору – с другой. Будто носильщик с двойным грузом, носильщик тяжестей, умеющий их распределить. Словно силач с ярмарки, окруженный гирями и посмеивающийся. Вот он вытянул руки, взметнув вершины на полтора метра, и даже не задрал головы. Он словно библейский Самсон, который, сдвинув с места, обрушил колонны.








