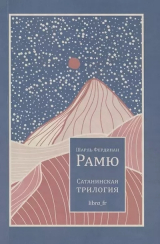
Текст книги "Сатанинская трилогия"
Автор книги: Шарль Фердинанд Рамю
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
15
На дороге была бригада, занимавшаяся обустройством каналов.
Ручей, который в обычное время болтал под мостом без умолку, уже много дней кряду не произносил ни единого звука.
Мужчина из бригады подошел к ограде, затем, свесившись, глянул вниз: внизу виднелись лишь камни. Он вернулся с пустой бутылью.
Это было на седьмой или восьмой день, в то утро они вышли на работу в последний раз. Они подошли к большому контейнеру, запертому на висячий замок, ключ от которого был у бригадира; они уже поснимали куртки, многие сбросили даже рубашки, оставшись в одних штанах, подпоясанных узкими ремнями из темной кожи.
Они понемногу прокладывали канаву.
Шедший первым отмечал с двух сторон мотыгой границы на берегу; следовавший за ним дробил асфальт, и лишь третий глубже вспахивал землю. Соблюдался определенный порядок. Они шли на равном расстоянии друг от друга. Все вокруг было белым, очень странно белым. Небо в тот ранний час виделось словно сквозь плотную белую вуаль. Они же все были разного цвета, разного возраста, толстый стоял возле худого, молодой возле старого, были низкого роста и очень высокие. Были заметны внешние различия, которые происходят от различий внутренних, они-то и разделяют нас. Они продвигались по мере сил, шли все утро, затем принялись за обед, каждый принеся с собой еду в сумке или корзинке. Они расселись возле ручья, потерявшего голос, не певшего более ни единой песни, не рассказывавшего ни единой истории, и среди них тоже повисло молчание.
Они еще двигали челюстями, но руки зажали без движения между колен. Усталость давит на то, что крутится у вас в голове, словно пресс-папье на бумаги. Поесть. Попить. Сидя поодиночке. Время от времени, просигналив и сбавив ход, мимо проезжал автомобиль или шарабан, едва подымалась пыль, словно ил в глубине пруда, и почти сразу опадала на поросшие травой обочины, такие же белые, как и дорога, еле с ней различимые. В час бригадир просвистел в свисток. Растянувшиеся на земле садились; сидевшие потягивались и зевали. Обеими руками терли глаза. Потом, говоря «Пошли!», вставали. Волоча ноги, шли по местам, подобрав разбросанные по насыпи инструменты. Они едва различали друг друга из-за яркого белого света, который не помогал, а, наоборот, мешал видеть. Сами они на этом свету казались черными. Раздавались одинокие удары мотыгой, следовало подождать, прежде чем заступит второй, пока послышится заступ, бьющий в толщу щебня.
И вот пришел кто-то еще. Никто не видел, как он спускается по дороге. Его не сразу заметили, даже когда он остановился. И, когда заговорил, не сразу услышали.
– Эй!
Он поднял руку.
– Эй, там, слышите?
И вот один из бригады распрямляется. Тот, кто пришел, снова:
– Бросайте ваши инструменты!.. Говорят вам, всему конец!..
Они оперлись о рукоятки мотыг и кирок. Вдруг вам приходит идея, вначале ее нужно увязать с мыслями, что у вас уже были, происходит это неловко, словно толстыми пальцами пытаешься ухватить тонкую нить. Надо сделать узелок, завязать первый узелок, но вот уже получается. И тот, что пришел, как раз и говорит:
– Вначале надо пойти выпить!
Он поднимает руку и машет тем, которые, должно быть, еще ничего не поняли, чтобы подходили. Они все повернули головы в его сторону. И все вместе, ничего не говоря, подумали: «Да мы охотно, но кто заплатит?» И человек, словно услышав их:
– Никто ни за что больше не платит! Вся выпивка задарма. Это ничего больше не стоит…
Они задвигались. Среди белого дня, в тумане, в дымке, в пресном пару, похожем на тот, что поднимается в воздух, когда моют посуду, они вытянули шеи, зашевелили плечами. Они пошли один за другим, миновав каменный мост с аркой, меж клонящихся, увядающих ясеней, серой ольхи, зарослей желтеющей таволги все было сухо, и каждый будто кусками обрушивал вокруг себя массы тяжелого воздуха, словно комья земли. В нескольких шагах, вверху насыпи, за обрезанными каштанами скрывалось кафе. Внезапно все увидели висящую в дверном проеме занавеску. Она нисколько им не мешала, они ее приподняли. То, что мешало, было не снаружи, а внутри нас. И оно исчезало. Мы не осмеливались, не знали, куда направиться. Не занавеска мешала нам войти, – это всего лишь кусок хлопковой ткани, ничего не весящий, если взять его в руку, отводя в сторону, – и не рука, отодвигавшая занавеску, – а то, что приказывало руке, – вот, что мешало. К счастью, появился кто-то еще, он вошел первым, за ним вошли остальные. Они увидели никем не занятые, словно поджидавшие именно их столики, со стороны деревни послышался шум, а человек уже ударял кулаком по столу, говоря хозяину:
– Лучшее из того, что у тебя есть и что ты в силах дотащить!
Казалось, хозяин тоже почувствовал разницу меж тем, как все было раньше, и тем, как стало теперь, он побледнел.
Он остановился возле двери в кухню, откуда только что вышел, даже не подумав закрыть ее за собою.
– Принеси выпить, слышишь?! Выпить и закусить…
И тот стал считать:
– На тринадцать персон.
Хозяин кивнул.
Он кивнул, они занимали места, придвигая табуретки, располагаясь бок о бок, их уже охватывало веселье.
Вновь появился хозяин. Видно было, что он делает над собой усилие, он весь напрягся, насильно подавляя страх, проговорил:
– Два франка литр.
Они все засмеялись.
– Отлично! Принеси-ка еще поесть!
Они кричали все вместе, а хозяин говорил:
– Деньги вперед!
– Да? Не хочешь? Ну ладно!
Двое или трое поднялись с мест.
Началась неразбериха. Вина, поскольку оно больше ничего не стоило, никто не щадил. Вставая, они опрокинули одну из бутылок. Двенадцать или тринадцать человек принялись кричать, поднимая в сумраке руки. Голые руки, похожие на поленья, большие, как головы. На спинах заиграли бугристые мускулы, похожие на завязанные узлами веревки. Ручьями тек пот. Они утирали его руками. Упала табуретка. Летавшие вокруг рои мух, спасаясь, поднялись к потолку. С кухни доносится грохот, там уже рыскают по шкафам. Все, что в шкафах, наше. Все наше. А поскольку хозяин все еще ерепенится, набросились и на него. Теперь и стол повалился на пол.
– Держите его! Да! Вот так!
Потом они завопили:
– Свяжем его!
Другие спустились в подвал. Они не мешкали. Все наше, нам все дозволено. Там была бочка. Может, лучше поднять ее наверх, нежели каждый раз таскаться сюда?! Нечего нам ходить за вином, пусть оно идет к нам! Раз теперь все иначе! Раз теперь все дозволено! И они втроем уже поднимали бочку по узкой и скользкой лестнице с шатающимися ступеньками, зато – как странно – мы сами вдруг стали крепкими, сильными! Мы чувствуем такую мощь, такую легкость внутри!
Полетели стекла. На кухне повалилось что-то тяжелое. Там, где было заперто на ключ, дверцы выламывали. Для быстроты взялись за тесак. Вот так! Это ведь тоже удовольствие – разрушать ради разрушения. Даже без того, чтобы выпить, ведь опьянение бывает разным. Они закатили бочку на стол, открыли кран, но вино лилось слишком медленно, они вышибли крышку и стали черпать. Существуют и другие радости помимо питья.
И работа есть краше, нежели просто что-либо делать, работа лучшего сорта – громить то, что уже сделано. Усталость их улетучилась.
Висевшие на стенах картины, посудный шкаф со стаканами, ряды графинов, бутылки с ликером, пивной кран, окна, стулья, скамьи. Этажом выше кричала женщина, к ней побежало несколько человек, она закричала сильнее, теперь уже не кричит. Лежавший в углу связанным хозяин, неизвестно, каким образом, освободился от пут и набросился на тех, что стояли ближе всего, и тогда те узнали, что еще большее удовольствие можно испытать при виде пролившейся крови.
Внезапно человек их окликнул:
– Нас там ждут, пошли!
Там – это поближе к городу, где виднелся столб дыма.
– Идем!
Перестав рушить все, что могло упасть, наспех свалив в углу столы и стулья, облив все это керосином…
Воздух был тяжек. Они пошатывались. Что ж, ничего страшного, они растянутся цепочкой, обопрутся один о другого. Они взяли с кровати красное покрывало и привязали к жерди. Понесем его впереди, оно будет о нас возвещать. Пока огонь в кафе разгорался, двинулись в сторону города. Оглянувшись, они увидели, что из окна показалось пламя, они принялись петь, каждый завел свою песню, но все равно, они пели все вместе, вот что важно, вот что прекрасно; они принялись петь, они поддерживали друг друга, помогали друг другу, подталкивали идущих впереди, их было много и они были единым целым, – вот что важно, вот что прекрасно: их было много, все они были одним существом.
16
Сегодня во второй половине дня слышались пулеметные выстрелы.
Здесь, на берегу озера, где я живу, ничего не происходило, разве что весь вечер напрасно крутились телефонные диски. Задолго до темноты все двери были закрыты, заперты на замки и засовы. Все дороги, улицы и даже внутренние дворики опустели. Семь часов. На западе над высокой стеной меж бузиной и сливой виднеется небо; ничего необычного, за исключением невероятного марева, такого густого, что со временем оно стало напоминать поле колосящейся, вызревающей пшеницы (сорта, что мы называем красной). Я поднялся в мансарду. Оттуда, сверху, увидел на оцинкованной крыше прачек – соседок, которые, как всегда, развешивали белье, с двух сторон цепляя белые или цветные вещи к проволоке. Три красивых девушки. Они поднимали оголенные руки. Напрасно курился над крышей пар, напрасно жар кровли искажал очертания ног, корсажей, а белое белье напоминало кипящее молоко – девушки смеялись, болтали. Я взглянул вдаль. Там тоже все было спокойно. Изгиб реки, выступающий берег, тополя. Там тоже люди жили спокойно. В подвалах, амбарах, ригах была еда, они вновь и вновь подбадривали себя и друг друга и стремились сберечь, что имели. Я представляю себе братьев Паншо, которые ближе к вечеру опять отправились удить рыбу, теперь им пора возвращаться. На кухнях готовят суп, вот жена пошла в сад нарвать зелени, к фонтану – набрать воды, к бочонку с маслом или жиром, который натопила из куска нутряного свиного сала, к ящику с картошкой. Дальше, в красивом жарком тумане, кузнец кует железо, а плотник толкает рубанок, вокруг вьются ароматы табака и смолы. А я, смотря в пространство, – прекрасное, безграничное, впалое, будто чрево сидящей женщины, – не знаю что делать. Правда ли это? Возможно ли это? День заканчивается, свет слабеет, уходит, на западе появляется отвратный зеленоватый оттенок, отсвечивающий и внизу, среди деревьев, меж цинний в саду.
Красный цвет остался лишь на севере.
Небо там красного цвета, иного красного цвета.
В пожарный колокол не звонили. Я прислушиваюсь, но везде тишина.
Слышно только, как кто-то колотит в ставни магазина, кричит. Это башмачник Перёле.
Он, верно, пьян, как обычно. И, как обычно, явился взять что-нибудь на ужин, он сам готовит, у него нет жены. Но магазин закрыт. Он рассержен, он зовет, кричит, кричит все громче.
Но никто не отвечает, никто не открывает. Перёле все кричит. Всполохи на небе, должно быть, росли: тополя все были расцвечены, казалось, они шатаются, будто задул ветер. И никого. Все укрылись по домам. Сидят на кухнях. Я смотрю: среди деревьев видно несколько окон, их очертания не такие, как прежде, линии не такие четкие, не такие ясные, контуры расплывчаты, они то тут, то там мерцают, моргают, словно глаза сонного человека. Электричества больше нет. Люди жмутся на кухнях вокруг свечи, с которой не снят нагар, или керосиновой лампы, от нее неприятно пахнет, давно не зажигали. Они едва видят друг друга. Ищут друг друга глазами, хотя это не помогает. Уверенности в их груди поубавилось, им не хватает воздуха. Женщина говорит мужу:
– Сходи посмотри, хорошо ли заперто.
Он проверил, вернулся:
– Заперто, но если завтра снова никуда не пойдем… Женщина открывает шкаф:
– Осталось еще немного вареного мяса.
Она показывает тарелку с куском говядины. Есть сахар, лапша для супа, но молока на завтрак… Если молочник не придет…
– Надо делать, как остальные! Пора брать ружье!
А в другом доме отец вдвоем с ребенком.
Жена в отъезде, няня ушла. Он сам готовит, сам обо всем заботится. Ведя хозяйство, он должен о многом помнить. Он приготовил для малыша ванну, искупал. И малыш смеется, хлопает в ладоши, говорит:
– Папа, почему пушки стреляют?
Но прежде, чем получит ответ, задает новый вопрос.
Немного легкого супа, кусочек поджаренного хлеба, повидло. У него голые ножки, он в сандалиях, платьице без рукавов, его усадили за стол, рядом посадили плюшевого мишку.
Надо подумать обо всем, что больше не имеет смысла, для него оно еще что-то да значит. Он не может видеть подобных различий. Вокруг него все просто, все истинно, он невинен. Но что делать мне?
Настала ночь. Ребенок еще долго играл у зажженной свечи. Потом заснул. Внезапно, как каждый вечер. Он живет своей жизнью. Продолжает идти своей дорожкой, не спрашивая, куда та приведет.
Он идет туда, куда ему хочется, трет глазки, головка начинает клониться. Он примет все, что случится, – вот что прекрасно, – а я?
Кроватка выкрашена в белый цвет, на ночном столике фарфоровая лампадка.
Кретоновые занавески в складках висели так же, как и пологи великой тишины, тяжелого, удушающего воздуха, пытавшегося пробраться внутрь.
Отец положил малыша в кроватку, но тот сразу проснулся. Сон к детям то приходит, то уходит, то возвращается. И вот он снова только и думает о том, чтобы поиграть. Он волен во всем! Он дружит с самим собой и со всем, что его окружает, в постоянном со всем согласии, что б ни случилось, поскольку ничего не знает, не защищается, может лишь все принимать, так он устроен, без намека на ложь. И что же, что же, Господи?! Значит, он лучше меня. И это не он нуждается во мне, а я в нем!
И отец, не в силах сдержаться, подходит к кровати, встает на колени, складывает руки над одеялом…
– Папа, ты хочешь за меня помолиться?
17
В гостинице они наскоро достали весь запас свечей, которых, к счастью, было несколько ящиков. Сами расставили их, большая часть служащих уже исчезла. Обмотали свечи проволокой, сделав что-то наподобие новогодних гирлянд, разместили их в люстрах и настенных светильниках. Другие свечи воткнули в горлышки пустых бутылок, расставленных по столам. Женщины принарядились. Еще раз сели возле зеркал, взяв пудру, румяна, карандаши. Еще раз принялись переделывать себя, пытаясь стать не такими, какими были, а такими, какими хотели быть. Сравнивая что видели в зеркале с образом, который лелеяли внутри. Видя, что руки белы, но белы недостаточно, что щеки розовы, но розовы недостаточно. Видя, что губы тронуты алым, но их надо подкрасить. Затем они вышли. С оголенными руками, с подобранными волосами, демонстрируя спину, шею, еще раз одаривая всех своими красотами и обещаниями. Заиграла музыка. Музыкантов было пятеро. Все свечи горели. Возникло движение, стал различим ритм, и люди начали уступать. Блеснула чья-то эгретка, пропала, появилась вновь, головка склонена набок. Кончик цветного пера вновь обретает настоящий оттенок, скользнув по плечу туда, где тень, тень меж плеч, она то уже, то шире. Еще одна тень скользит вдоль руки, прячется в эту руку, скрывается. А с виду – шаг вперед, шаг назад, снова вперед, тела остаются неподвижны, только ноги раскачиваются. Давайте же! Темнокожий изо всех сил принялся бить в барабаны. Движения: ногу выставляют вперед, руку надо поднять так, чтобы локоть оказался на высоте плеча, плечо к плечу, локоть к локтю, губы к губам.
Почему бы и нет? Скрипки припустили вовсю. Давайте! Раньше это было запрещено, а теперь нет. Давайте! В такой одежде ведь неудобно. Зачем она нужна, только мешает. Ритм слышится все отчетливей. Давайте! Темнокожий смеется, показывая большие белые зубы. Давайте! Давайте! Давайте! Настолько, насколько это возможно, и до самого конца. Погасла свеча. Остались стоять только двое, они медленно, медленно клонятся, – погасла еще свеча, – они клонятся, наклоняются, остальные уже лежат на ковре.
18
Безграничная сеть брошенной железной дороги отсвечивала белым, словно наполненные водой колеи, где отражается небо, затем свет погас, и опять загорелся – красный. Торговый склад неподалеку тихо горел ночь напролет. Взрывались паровозы, вверх взметался столб искр, опадал. Полночь, два часа, три, – теперь считают не дни, а часы, – вот прошел еще один, а огонь тихо, тайком пробирается вглубь горы из угля.
Был еще пожар, горело внизу, в глубине красной пещеры, пламя продвигалось вперед понемногу, бросками, как подрывник. День едва брезжил, столько везде было дыма. Прокукарекал петух, на деревьях началась птичья перекличка, птицы показывались из своих потайных мест и сразу скрывались обратно. Пахло углем и паленой кожей. Час, когда механик в темно-синей рубашке и черной соломенной шляпе выходил из дома на работу, неся в руках корзинку с едой, но прежде, стоя возле решетки из проволоки, кормил кроликов травой и морковью, теперь – никакого механика. Час, когда ставни стучали, будто хлопая рассвету, – этим утром не хлопали. В аллее под сенью деревьев – площадка для игры в кегли, старичок, который постоянно их собирал, в последний раз (когда это было?) – не собрал кегли. Бутылка на столе опрокинулась, ее так и оставили вытекать по капле, лужа на дорожке еще не высохла. Старичок сидит здесь же. Там, где обычно ставят кегли, есть небольшой холм, чтобы они не слишком далеко разлетались, возле него и сидит старик, руки на коленках, голова свесилась, седая борода спутана. Лицо скрыто шляпой. Он не шевелится, не поднимает головы, не двигает ни руками, ни ногами, которых тоже почти не видно. И все, из оставшихся – только двое подальше: один лежит на животе, простерши руки, на голове сбоку кровавая рана; другой по-прежнему сидит за столом, упершись лбом в сложенные на столешнице руки. Это кафе, в котором, должно быть, все пили, потом началась драка, а позже никого не осталось, кроме тех, что уже не могли уйти. Пивная стоит с распахнутыми с двух концов дверями, за одной виднеется сад, за другой – дорога. Среди опрокинутых столов бродит, что-то выискивая, котенок. Рядом с зеркалом в черной раме с потрескавшейся позолотой висит на боку хромолитография с сидящим на бочке Вакхом – реклама торговца вином. Уцелели лишь часы с маятником, которые так и висят на месте. Каждый час они дважды звонят в глубине механической усыпальницы, звук рождается трудно, словно кашель, который называют «влажным». Часы с маятником пробили шесть, они пробили шесть во второй раз. Ничего более, вдали тоже, правда, особо далеко и не взглянешь. Словно смотришь через закопченное стекло. Деревья по форме напоминают глыбы туфа, и по цвету они тоже напоминают туф. Трава вытоптана, словно здесь была ярмарка. Дороги, тропинки никуда более не ведут, полощутся, словно ленты в воздухе, концы их висят в пустоте. Надо долго идти в сторону города, к развилке возле металлургического завода. Там баррикада из сваленных в кучу железных брусьев и балок. Рабочие вынесли все, что нашли в цехах, а сами укрылись сзади. Вероятно, они были вооружены, их атаковала кавалерия. Перед баррикадой – трупы лошадей ногами кверху, с животами, раздувшимися, словно зрелая тыква. Повсюду – предметы экипировки, мушкетоны, шлемы. Все написано перед вами, словно чернила расцветили страницу словами и предложениями. Под деревьями за садовой изгородью что-то зашевелилось. Это несколько оставшихся без хозяина лошадей, которых поманила сюда трава. И вот снова что-то движется. На сей раз женщина, она шла к дороге, толкая перед собой плетенную ивовую коляску с вощеным полотняным верхом, в которой было несколько малышей. Вероятно, они болели. Она шла быстро, как только могла, склонившись над ними…
Дорога. Дома. Куда она направляется?
Дома, виллы. Запертые, с распахнутыми дверями, за стенами, заборами. За кустами сирени – хвойные деревья, которые всем нравятся, потому что зимой остаются зелеными. Шале, белые здания с плоской крышей, из цемента, из тесаного камня, крашеные и некрашеные, оштукатуренные и нет, маленькие, чаще высокие, расположенные нелепо, смешные, со смешными названиями, вдоль всего проспекта, обсаженного по краям деревьями, с которых один за другим падают листья, не успев пожелтеть.
Это была ненастоящая осень, ненастоящий конец года. Листья падали, будто царапая сухую землю; затем послышалось пение.
На входе в город дорога поднимается и выходит на площадь, где раньше располагался сенной рынок с общественными весами в центре и домиком весовщика рядом. На людях были полушерстяные штаны, синие рубахи, фетровые шляпы. Они бежали схватить под уздцы припустившую лошадь, а позади раскачивалась, благоухая, квадратная конструкция, стоял маленький дом на колесиках и без окон. Когда еще были рынки и туда приходили крестьяне.
Но теперь здесь вооруженный отряд. У одного из мужчин с плеч упали серые подтяжки с красными крестами. Солдатские брюки больше не держатся, полицейская каска свесилась набок.
Отряд все ближе, вокруг рыночная площадь, на которой больше нет рынка.
Воздетые руки из-за висящего в воздухе дыма кажутся тоньше.
Они жестикулируют, машут руками, поднятыми над едва различимыми фигурами, кто-то клонится, кто-то падает, шаг назад, как раз вовремя, чтоб не свалиться.
– Эй, будь здоров!
– Идешь?
– Куда?
– В «Железную хватку».
Их уже много.
Ничего не видно, ничего не различимо. Ясно только, что все до самого низа в движении, колышется в тени. Словно дерево подпилили и оно вот-вот упадет. Словно привязали веревки и орут: «Берегись!Берегись!» Слышно, как трещит ствол. Крыши группами и нагромождениями приходят в движение. Они тоже клонятся то в одну сторону. То в другую на фоне неба, которое, кажется, поднялось в испарениях снизу и, восстав из каких-то глубин, закрыло собой настоящее. Мы уже никогда не увидим (иного неба, что спрятано позади, чистого, сияющего и живописного, оно уже не для нас. Небо от нас отделилось. Мы живем под небом, поднявшимся с самой земли, под ложным земным небом, и оно давит на нас, но ничего страшного, так даже лучше! Ничего страшного! Кажется, именно так говорят те, что приходят сюда (а приходят они со всех концов). И все же ногам не хватает опоры, больше нет цели, нет центра, никто не может опомниться, никто не знает, что происходит, не знает, кто он, но ничего, ничего страшного.
Они приходят группами, приходят отрядами. Вот еще одна улица, более-менее ровная, переходящая в другую, спускающуюся вниз.
Все ведет вниз, в нижние кварталы. Во что-то туманное, во что-то кислое, от чего начинаешь кашлять, там какой-то опьяняющий воздух, опьянение повсюду в воздухе, или же мы пьяны изнутри?
Неизвестно, никто ничего не знает, все движется, бродит.
Эти узенькие улочки, где все уже разрушено. Некоторые дома еще горят, другие уже сгорели и в их дыму мреет все остальное. Дыму некуда деться, и вот он спускается, спускается ниже, висит перед вами, вы кашляете, смеетесь, несете его на себе, он обернулся у вас вокруг шеи, в нем спотыкаешься. Ничего страшного! Вот и площадь, здесь они собираются. Она должна быть невелика, но никто не принуждает знать, что она невелика, ведь очертания ее все равно теряются. Различить можно только тех, кто совсем близко. Перед вами часть мощеного пространства. Они расставили столы, одни за ними сидят, другие под ними лежат. Эти еще как-то двигаются, а вон те уже никогда не зашевелятся. Они вытащили наружу все столы, которые только нашли, образовав некий новый вид общества, где все блага общие: еда, питье, принесенные бочки, бутылки, награбленные запасы, да и тела тоже, поскольку все общее. Они сидели так тесно, что стоило одному в конце стола наклониться, как в едином движении наклонялись и все сидящие на скамье. Слышались выстрелы револьвера. В углу, словно заводной, упорно играл аккордеон. За ближайшим столом парочками сидели парни и девушки. Прогремел мощный взрыв, заполнив собой пространство: воздух тихо задрожал, и лишь потом, снизу почувствовался сильный толчок. Они только лишний раз пошатнулись, но почему бы и нет? Мы лишь плотнее прижались друг к другу и стали держаться еще крепче. Все захохотали. Палили из револьверов, ружей. Запели хором: быстрей же, быстрее, пока еще есть возможность! Равенство, братство, не правда ли? Но вот парень повернулся к девушке, земля вновь задрожала, и он обхватил ее за талию, чтобы она не упала. Он смотрел на нее, видел, что она хорошенькая. Начал с ней говорить, и вдруг выпалил:
– Будешь моей! Хочу показать им, что ты моя! Я покажу тебя им, ты ведь красивая!..
Она не верила и, отбиваясь, смеялась, но он схватил ее. Он был сильнее, он взял ее на руки. Поднялся. Встал на скамью – последний раз попытаться стать выше их всех, вместе с ней, потому что она красивая, и она – его; выше их тел, выше голов – он встал на скамью, затем на стол.
Он что-то кричал, кричал:
– Вы видите?!
Он поднялся на стол:
– А ты, – говорил он девушке, – ты будешь еще выше, чем я, – и он поднял ее на руках вверх.
И на короткий миг ее все увидели (словно все и сбывалось, как он говорил, словно все налаживалось), она была наверху, ее голова запрокинулась, повисли длинные волосы, плечи сжались…
Затем – бах! Кто-то выстрелил из ружья.
Парень и девушка рухнули вниз. И все стало так, как бывает на море, когда одна за другой идут ровные, плоские волны, не захлестывающие друг друга, – потому что мы тут все вместе, все на одной высоте, так ведь? Мы все равны. Так и надо, он не имел права. Все смеялись. Но тогда (и это было уже во второй раз) воздух опять задвигался, послышались возгласы. Где-то слышалось множество голосов, кричавших: «Оно наше!» Получалось настоящее песнопение, кричали они все время одно и то же: «Оно наше!» И еще. Воздух затрещал, глыбы, пласты воздуха, слитые воедино, принялись распадаться. Обозначилась перспектива улицы, стало ясно, что она идет под уклон. Она почти стекала. Мостовая шла все ниже и, в конце концов, добиралась до вас, часть ее словно отделилась. Стоявшие здесь смотрели, а те, что были вдали, приближались. И по-прежнему: «Оно наше! Оно наше! Оно наше!» – словно песня. В конце концов, стало понятно, о чем они. Это было золото. Они вытащили его из карманов, оно предстало всеобщему взору. Это были рожденные им крики великой радости. Но зачем оно было нужно? Ведь у нас и так все есть, можно взять что угодно, ничего покупать не надо. Но получалось, будто стоявшие здесь вернулись в прошлое или вновь ощутили прежний голод:
– Дайте нам тоже… Нет?.. Ладно! Сейчас поглядим!..
У них были винтовки, охотничьи ружья, пистолеты, браунинги, ножи. Кухонные и перочинные. Палки. А у тех, у кого ничего не было, имелись кулаки, ногти, зубы. И все потонуло в шуме, криках, стонах, столы были перевернуты…
Банки грабили. Один из трех больших банков на площади пылал синим пламенем. Величественные сооружения с колоннами, выточенными из камня и поддельного мрамора, с позолоченными решетками, своего рода крепости, – одновременно воспрещавшие и вызывавшие зависть, – все возможные средства защиты, которые могли придумать, – ничего не помогло, все было напрасно.
И толстые стены, и бронированные подземелья, и сейфы из закаленной стали, и несгораемые перекрытия.
Банки горели. Мешки вытряхивали из окон, летели акции, площадь была завалена ценными бумагами по колено.
Пролетает аэроплан.
Летит с шумом второй, едва различимый в рыжеющем небе. На всей скорости, оттуда же, откуда первый, в сторону гор, туда, где есть (еще может быть) прохлада, свежий воздух, еда, защита…
Один. Второй. Третий. Целое подразделение, летящее прочь.
Но что это изменит? Пусть один край переходит в другой, пространства сменяют друг друга. Сшейте эту равнину с соседней. Сшейте вместе моря, а к сшитым морям пришейте то, что найдете на берегу противоположном, в конце концов все окажется там, где было в начале.
У кого есть способность передвигаться, возвращаются. Все возвращаются. В конце концов понимаешь, что все круглое. Земля круглая.
Все – узники. Узники круга. Тленности, замкнутого круга.








