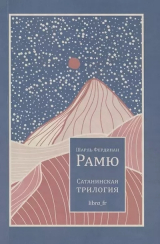
Текст книги "Сатанинская трилогия"
Автор книги: Шарль Фердинанд Рамю
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
24
Озерная вода была цвета намокшей земли с белыми поблескивающими полосками, похожими на следы слизняка. Те, кто уже здесь, вновь прибывающим не мешают: им тоже нужно, они тоже вынуждены.
Тем не менее ничего особенного здесь нет – всего лишь круг мертвой воды. Все, что вдали от этого места, больше не существует, все дистанции, расстояния упразднены. Круг мертвой воды, полукруглый песчаный берег, две-три ивы, два-три неподрезанных разлапистых платана с большими стволами, кусты. Круглое пространство воды, напоминающее стекло часов, все в него погружаются, не в силах оставаться на раскаленном песке, прожигающем вплоть до лодыжек, щебенка – будто железки гладильщика. Жить на земле уже невозможно. Они делают шаг, другой, им непривычно. Они заходят все дальше, и из-за обмана зрения кажется, что дно поднимается им навстречу, как странно. Они оскальзываются на поросших мхом камнях, падают. Они не решаются идти дальше, но так надо. Заходят по колено, вода достигает уже живота, половина тела чувствует невероятное блаженство, для другой все становится невыносимым. Они с головой погружаются в воду, им не хватает воздуха; они снова вдыхают воздух, но теперь им не хватает воды. Надо было почувствовать это, чтобы понять, как всем плохо. Никто не беспокоится о тех, кто зашел слишком далеко. Видите, никто ни о ком уже не тревожится и даже, если бы те позвали на помощь, никто б не откликнулся. Руки вновь погружаются в воду, перебирая в ней, словно в траве; ничто никого не трогает, все теперь – личное дело каждого. В озерной воде цвета мокрой земли – будто течения, отдельные реки, что-то темное идет поверху, медленно растворяется в остальной воде, исчезает. Несколько из недавно пришедших все еще стоят под тальником, пытаясь почувствовать остатки свежести, прижимаясь к коре, или, зарывшись в акации, придвигают ветки поближе. Сюда же привели маленького калеку и, повесив костыли на ветках, бросили его на песке; вон он, голова свесилась меж выпирающими плечами, рот раскрыт, ребра выступают, словно лемехи. Слышен плач, слышно, как кто-то кашляет. Некоторые прибегают и кидаются в воду в одежде. Все они вынуждены это делать, их толкает вперед, все дальше. Они пытаются выжить, они говорят себе: «Так надо», что-то толкает их сзади, что-то уже поджидает их впереди. Нет больше ничего, лишь небольшое круглое пространство, оно все уменьшается, – есть только оно, – чтобы не умереть сейчас, чтобы умереть вскоре. Они это понимают. Не слышно больше голосов, зачем говорить? Стоит великое молчание. И вдруг:
– Не-е-ет!
Кричит женщина с ребенком, она сжимает его в объятьях. Он не может этого знать, к счастью, не может. Она поднесла его так близко, как только могла, она сжимает его в объятьях. Он спит, жара его убаюкала, он не будет страдать, прощай! Она целует его, целует вновь, быстро, его лоб, глаза, носик. Снова и снова… Затем поднимает его обеими руками над головой, устремляясь вперед, шагая как можно шире…
И вот по воде пошли завихрения, а его – его вынесли обратно на песчаную жаровню, на палящее солнце, он прижал ручки и ножки к тельцу.
Съежившись, словно в женской утробе, он поднес кулачки к щечкам, подтянул колени к груди. В этот момент, прекращая существование, он такой же, каким был в момент появления, жизнь оканчивается, припав к своему истоку.
25
Виттоз стоял перед домом, на нем была женская шляпа с цветочками и юбка жены. Виттоз стоял перед зеркалом, он одевался в женское и курил трубку. Усы занимали почти половину лица под широкой серой соломенной шляпой, черные шелковые ленты завязаны под небритым подбородком. Он поднял голову, чтобы еще раз взглянуть на себя, мешались текшие по носу и свисавшие с бровей капельки пота – одна, вторая, – он вытер их рукой. Он вытер их, громко смеясь, глядя в зеркало. Вышел, продолжая смеяться, он надо всем смеялся. Услышал, что говорят в соседнем доме. Остановился.
– Ну да! Это ты виноват! Если б мы оставили деньги дома, они б не пропали… – говорил женский голос.
– А проценты? Десять тысяч франков с шестью процентами годовых, получается еще шестьсот франков в год, – мужской голос.
– Проценты? А где они? Ты их видел? Чертов скопидом!
Виттоз стоял под окном, – это был первый этаж, – ему надо было только подняться на цыпочки.
Старуха едва держалась на ногах. Старик с трудом поднимался со стула. Дышал он трудно, прерывисто и хрипло, как кузнечные мехи. Одной рукой он опирался о стол, другую поднял:
– Замолкни!
И сам замолчал, ему надо было отдышаться.
– Ты не понимаешь… что… что у меня все документы… расписка… квитанция… вот что важно… на сумму в десять тысяч… десять тысяч… шестьсот…
– Ну так сходи за ними!
И показывает ему на раскрытую дверь (Виттоз отпрянул).
В дверном проеме виднелись мостовая, толстый поникший стебель львиного зева, у старика не было никакого желания.
Он упал на стул. И больше не двигался. Она тоже не двигалась…
Продолжавшему улыбаться Виттозу не потребовалось отступать дальше. Он сощурил глаз под широкими полями шляпы с двумя черными шелковыми завязками и повернулся к вам (хотя вас там не было), указывая большим пальцем поверх плеча на окошко.
Ему так хорошо, как еще никогда не было. Единственное, что немного мешает, – язык. У него слишком большой язык. Он постоянно жует, пережевывает язык, который занимает весь рот, мешает говорить.
Но идти не мешает. К тому же сейчас никого, кто мог бы воспрепятствовать делать, что хочется, посреди большой пологой центральной улицы, плавно спускающейся к озеру, по которой Виттоз мог дойти до конца. И вот он замечает, что потихоньку, шаг за шагом заходит в воду. Шаги вдруг даются сложнее из-за отяжелевших башмаков, словно кто-то хватает за ноги, он озирается. Ему становится еще веселее. Озеро поднялось выше набережной: Виттоз намеревается снять шляпу, но думает, что такие шляпы обычно не снимают, он делает реверанс. Вода доходит до колен, смешно. Большие, светлые и зеленоватые стволы платанов растут теперь не из земли, а из озера, поднявшегося до жилищ. Вода залила палисадники, разлилась среди кустов черной и красной смородины, массивных георгин и высоких мальв. Добралась до ножек скамейки у двери и, осмелев, подбирается к кухне. Виттоза это смешит, Виттоз пускается в пляс. Виттоз видит всю эту воду, он прыгает по ней на одной ножке, осторожно приподымая юбку пальцами, как барышни на балах. Когда танцевать надоедает, он принимается звать. Ему хочется, чтобы кто-нибудь пришел, он не желает веселиться один, это понятно, гораздо веселее, когда людей много. Он зовет как может, у него не вполне получается. Он заглядывает в одну из кухонь: «Эй, вы идете?.. Анриу! Это ты? Ты идешь?..» Ему отвечают. Он: «Ах, это ты…» Он понимает, что ошибся. Это за грубой холщовой занавеской мычит корова с переполненным выменем, мучимая жаждой и голодом, вот замычала другая, а теперь и третья, они ведь всегда вторят друг другу. Виттоз расхохотался: «Только не вы!..» А потом сказал себе: «Никого уже не осталось!» Будто вечер праздничного дня, когда все веселятся, танцуют во время ежегодных гуляний. Он воротился на дорогу. Поднимается по улице, по которой недавно спускался. О! Кто-то появился! «Так, ладно! Сейчас я его разговорю!» Возле амбарной двери наклоняется: «Слышь!? – по-прежнему, едва ворочая языком, – Слышь!?» Должно быть, тот спит, какой крепкий у него сон! Виттоз трясет его. Только, пока он его трясет, тот словно разваливается: упавшие руки не двигаются, голова, свесившись набок, так и лежит. Виттоз несколько удивился. Потом, оглядев человека, пожал плечами: «Что ж, тем хуже для тебя!» И снова зовет. Он уже в другом квартале: тут ни следа воды, земля невероятно сухая и твердая. Метя юбкой, он оставляет позади облако пыли. Он ходил, звал, терпение у него кончается: «Черт подери! Они что, смеются надо мной?!» Он злится. Откликается опять корова. «О, только не ты!» Воет собака, как бывает, когда из-за леса показывается луна. «Пошла прочь!» Он забыл, что на нем юбка, идет привычным ходом. Вот лежат все вповалку, он толкает их ногой. Особо не церемонится: «Вставайте! Идем!» Они растянулись по земле. «Куча бездельников!» Они лежат перед домами, сидят возле стен или на лавках, головы свесились. Он подходит к одному, обеими руками берет за голову, приподымает: «Слышишь?! Эй! Идешь или нет?!»
Его самого хватают. Руки вцепляются в болтающийся корсаж, обвивают шею. Он разевает рот, валится на мостовую, другой валится на него, продолжая сжимать, сжимать, сжимать, сжимать все сильнее до тех пор, пока в глотке не слышится лишь едва различимое бульканье, как в опустевшем садовом шланге…
Единственный, последний корабль на озере. Высится мачта. Это корабль Паншо.
Корабль братьев Паншо, Эдуара и Жюля. Эдуар спрашивает Жюля:
– Ну, что думаешь?
Он показывает на воду, качает головой:
– С нашим ремеслом покончено.
Он зачерпнул рукой застоявшуюся озерную воду. Она уже не такая, как прежде: мутная, мертвая.
И снова:
– Жюль, что думаешь?
Сама собой совершалась незаметная работа возле газовых труб, на конце одной появился огонек и шел вдоль нее все глубже, устремляясь в подвал.
Дома клонятся друг за другом, склоняются, словно уснув. Валится с потолков штукатурка, обваливаются потолки, исчезают углы.
Большие электрические турбины на берегу Роны продолжают вертеться вхолостую, по-прежнему совершая тысячу двести оборотов в минуту: среди ночи полыхает невероятное розовое свечение.
Как опадают листья с деревьев, так валятся с крыши одна за другой черепичные пластины.
Толпы купальщиков возвращаются к вечеру с налипшим на ногах песком, толпы купальщиков возвращаются, побарахтавшись в воде и засунув кусок марсельского мыла под полосатые купальные костюмы. Они проходят мимо крашеной красным двери амбара…
Одна за другой падает черепица, даже не верится.
Хозяину просто не верится. Только что окончив работу, хозяин пытается читать газету, но это не для него, это слишком. Надо представить небо, светила, экватор, полюса. Крашеная красным дверь амбара раскололась под тяжестью свода.
Сидевший на цепи добрый толстый Бари подох, добрый толстый Бари, любимец всего квартала, верный сторож дома, верный сторож печи, это был пес пекаря, он охранял печь, охранял дом, таскал тележку с горкой хрустящих булочек, горячих, благоухающих, согревавших прохладным утром на крутой дороге, и вот Бари протянул ноги.
Из пасти шел еле заметный пар, витавший над коротконогим телом. Над красивой шерстью в белых и рыжих пятнах, над длинными прядками, завивающимися на концах в колечки.
26
Несколько больших кораблей с ушедшими под воду ватерлиниями, – такое количество пассажиров на палубах, – отправились в полярные области. Они были вынуждены повернуть обратно, навстречу попадалось все больше и больше дрейфующих льдин. Стало ясно, что разрушение неизбежно для всех сторон света, которых всего-то четыре: раз, два, три, четыре – сосчитали их быстро. Поворачиваясь то к одной, то к другой, капитан думал: «Может, пойти к той?» и сам себе отвечал, что в том направлении идти нельзя. Ни на Север, в края Септентриона, прозванные Полночью, ни на Юг, именуемый Полуднем, ни на Восток и ни на Запад, у которых свои названия. Склонившись над компасом, капитан понимал, что нет никакой разницы. Надежда может быть лишь на третье измерение – на высоту – никаких иных надежд не осталось. Не поможет ни ширина, ни долгота, но есть еще высота. Есть горы. Есть края, возвышающиеся над другими, все в наслоениях, складках, как одеяния святых на соборных портиках, и слетаются туда ласточки, и ласточки говорят: «Это для нас!» Эта скалистая местность, искусно высеченная из камня, которую рыли, терпеливо углубляли резцами, люди думали: «Здесь будут убежища!» К тому же здесь высоко, все остальное пребудет внизу, это словно ковчег, он устоит над разлившимися водами. Когда был Ной, у Ноя была жена, и все твари были по паре. Вот первый, зеленый этаж, вот второй, серый. И многие пришли, добираясь любыми способами наполнив эти этажи надеждами, разместившись на этаже первом, втором. Послышался глас бурных потоков, и начал он речь, которой нет конца. Настала долгая ночь, она полнилась за окнами домов словами, произносимыми со все большей силой: вначале их шептали, потом говорили в полный голос, потом еще громче, наконец, уже кричали, поскольку низ и верх поменялись местами. Снег больше не снег, лед уже и не лед, все видоизменяется. Здесь, в русле потока, вода поднималась непрерывными толчками, скачками – небольшими, но постоянными, она прибывала и прибывала. И вода на каменном ложе была белой, как только что надоенное молоко в деревянных ведрах. Сквозь нее невозможно было ничего разглядеть, виднелось лишь то, что из нее выступало. Несколько скал, затем две-три скалы, затем только две, потом ни одной. Нависавший над потоком куст все клонился, клонился, и вот листья его уже намокли и погрузились в воду. Пора было уходить с мельницы…
Одиноко гуляющий по лесу человек продвигается все дальше по скользкому, словно навощенный паркет, настилу из еловых иголок. Какое-то время он видел между ветвями деревню, затем она исчезла, ее загородил склон. Склон становился все круче, тут росли сосны: на красных стволах, словно большие перья, по две-три темно-зеленые ветви; над землей, среди пробуравленных круглых камней извиваются корни. Гуляющий по лесу сел, прислушался. Он слышал великое дыхание, оно было учащенным, как у лихорадочного больного. Оно заполняло весь воздух. И никакого отдохновения. Гуляющий по лесу думает: «А что, если это правда?!» Теперь их очередь спрашивать себя, правда ли это. Гуляющий мысленно оглядывается: видит, как обрушиваются дома. Он закрыл глаза, чтобы четче увидеть картину, снова раскрыл. Дома падают. А вот муравей, тащит слишком большое для него яйцо, прокладывая путь среди торчащих игл, опрокидывая одну за другой. Пожар, повсюду руины. Муравей проделал десять сантиметров пути. Человек на него смотрит: перед муравьем ветка с листьями, словно рука, подающая дружественные знаки. Что-то хрустнуло в голове: тишина. Он ничего больше не понимал. Мы все столь неустойчивы. Столь подвержены крайностям, нас так и кидает из одной в другую. Кто мы такие? Кто мы?..
Он снова закрыл глаза.
Раскрыл. Послышались голоса. Это группа молодых людей, за плечами холщовые сумки, они взбираются по крутой тропинке неподалеку отсюда, разговаривая громко и беспрестанно и указывая друг другу на что-то, что находится еще выше…
27
Надо взобраться еще выше. Туда, где уже нет деревьев, где растет лишь трава. До двух, двух с половиной тысяч метров, куда жители долины поднимаются каждое лето на два месяца вместе с животными, поскольку ничего нельзя упускать, к тому же они умеют довольствоваться малым.
Этим вечером они сидели возле шале, их было восемь. День был похож на остальные. Как всегда, закончив работу, они поели и пошли отдохнуть на скамейке у двери. Руки держали так, словно не знали, что с ними делать, теперь-то их нечем было занять. Кто-то, положив их на колени, курил трубку, кто-то, сложив руки вместе, зажал их меж ног, а кто-то просто опустил вниз. Так сидело восемь человек, начинался вечер. Их было восемь, и они не двигались. Края эти в самой вышине. Здесь, по крайней мере, будет спокойно? Это в самой вышине, выше тех мест, куда обычно заходят, выше людей и привычного мира, выше новостей, так что еще могут быть дни, похожие на другие, разве они здесь не в укрытии?
Правда, стоит невероятная жара (и здесь тоже, даже здесь), но такое случается. И, загнав скот на ночь, они смотрели, как вокруг происходит то, что происходило всегда: опускались тени. Тени бесшумно ложились у ног, поднимались к рукам, как всегда в это время, когда небо начинало меняться: вначале розовое, затем красное, светло-красное, темно-красное, желтоватое, зеленое, словно цветут поля заячьего гороха, поспевают пшеничные нивы, наступает пора сенокоса. На нас в это время уже лежит тонкий слой пепла. И вот показывается еле заметная первая звездочка, затем еще две или три, но тех, что появляются вослед со всех сторон стаями, уже никто не видит.
Был час, когда обычно они отправлялись спать. Это случилось, когда они собирались войти в дом. Один за другим они постучали трубками, выбивая пепел, положили их в карманы, зевая. Все это – в вышине над миром, кажется, за пределами досягаемости. Они не заметили, что кто-то пришел, что их караулили. Это была группа молодых людей, которым больше не было места в долине, и они сказали себе: «А давайте пойдем в шале!» Так поднимается вместе с людьми война, и война поднялась вместе с людьми сюда. Те думали: «У них наверху есть все необходимое, надо только занять их место!» Так что они пришли с темнотой, поднимавшейся впереди, перевалившей через откос перед пастбищем, занявшей травянистый склон, похожий на три наступавшие друг на друга волны. Верхняя несла на гребне шале. Поднимавшаяся тьма добралась до него, накрыла, улегшись поверх, затем, восстав, принялась карабкаться по отвесным скалам. Мужчины на скамье, убрав трубки в карманы, встали на ноги. Из хлева слышался шум: коров на ночь запирали, но не привязывали. На телятах оставили колокольчики. Они поднимали заднюю ногу, чесались, и колокольчики позвякивали. Мычала телка, тяжело дышал бык. Мыши прибегали из леса в теплую комнату, где в печи тлел огонек, но перед сном все гасили. Один из мужчин, набрав в руки воды, брызнул на головешки, пошел дым. По низкому потолку, по балкам метнулись отблески, пропали. Большая деревянная ручка, на которой висел котел, стала черной, словно обуглилась, исчезла, растворилась во тьме…
Все началось с выстрела в воздух.
Те из обитателей шале, что еще не успели войти, замерли, вошедшие бросились наружу.
Никакой догадки у них не возникло, они видели, что во тьме кто-то приближается, они не препятствовали. Вероятно, они могли защититься, скрывшись за дверью, заперев ее, но они об этом даже не думали. Прежде, чем они успели опомниться, им прокричали: «Руки вверх!» Они сделали, как им велели. Их спросили: «Вы все здесь?» Они сказали, что да. Тогда им сказали: «Убирайтесь отсюда!..» Они в изумлении по-прежнему стояли с поднятыми руками. Их осветил яркий луч фонаря: они жались друг к другу, длинные бороды, синие полотняные безрукавки, рубашки, глаза широко раскрыты, в них не читалось ни единой мысли. «Убирайтесь! Вам ясно?!» Нет, им не было ясно. «Пошли прочь! Говорят вам!.. Вместо вас тут будем мы!» Они сдвинулись с места, отступили на шаг. Чуть отошли, отошли еще немного, принялись озираться, оглядываться…
«Поживее!» Они побежали. Вновь прозвучал выстрел. Они бежали, они уже даже не оборачивались.
Устремились вниз по травянистому склону, прокатились по следующему, оказались на скалистом откосе и попадали. Окликали друг друга, молчали. Ночь их поглотила поодиночке, они отыскали друг друга. Они сбивались с пути, сходились, теряли, вновь находили дорогу, вплоть до ущелья, до дна ущелья, до выхода из ущелья, где, наконец, остановились…
В тусклом свете звезд или луны они стояли напротив друг друга с приклеившимися ко лбу волосами, в рубашках с порванными воротниками. Хриплое дыхание заглушал шум потока; начав говорить, они едва слышали свои голоса. Они простирали ввысь руки, качали головами. Вздергивая плечи, сжимали кулаки. Один из них кое-что сказал, высказал предположение, может быть, как он говорил, такое случается… Рассказывают, есть духи, неупокоившиеся души умерших, они бродят, скитаются и, заприметив человека, терзают его. Но остальные подняли его на смех. Нет, дело не в этом. Всему виной наша глупость. До нас не сразу дошло. Мы не были готовы. Не было знаков, кроме разве что невероятной воды, переполнившей русло, она бурлит, постоянно движется, все время белесая. И они снова: «Мы ничего не поняли, мы позволили им, мы сами виноваты!» И так еще какое-то время они тянули шеи, качая головами, потом поднялись: «И все же мы здесь!»
28
Они добрались до деревни, не желая слушать, что им рассказывали. Они пришли разгневанные, и гнев мешал им видеть, что творится вокруг. Дабы собрать народ, в полдень зазвонил деревенский колокол. Колокол звонил в полдень, звонил вечером. Были оползни, из-за обрушившейся земли в русле могла образоваться плотина, уже отправили первую бригаду рабочих. Если прислушаться, можно было уже различить, будто кашляет великан, звуки эти исходили от ледников (почти полностью скрытых от взора, их загораживали склоны, но их можно было услышать), но люди из шале ничего не видели, ни к чему не прислушивались. Они лишь ждали, когда наступит ночь, думая только о том, чтобы пуститься в путь, что они и сделали, когда стемнело. Они поднимались, вооружившись тщательно начищенными и смазанными ружьями. Вот еще одна человеческая затея, еще одна небольшая человечески затея среди затей великих – затей воздуха, затей воды, затей земли, затей огня. Они шли по дороге, где накануне спускались, шли размеренным шагом, где днем раньше неслись, подскакивая. Они шли, ведомые одной идеей, она маячила перед ними, они видели только ее. Они шли, обливаясь потом, и думали лишь о своем плане, даже когда стал различим глас воды, когда она принялась им угрожать, когда пространство вокруг словно в ответ их намерениям, наполнилось шепотом даже на такой высоте, средь кромешной тьмы, вблизи снегов и ледников. Все было тщательно спланировано и продумано. До мелочей зная местность, они могли заранее условиться и распределить посты: такой-то – за той вон скалистой глыбой, такой-то – вон там. Когда они пришли, надо было лишь подождать, чтобы ночь сгустилась и на вершине. За откосом, где они укрылись, виднелась на краю неба белесая туча, словно на молоке появилась пенка. Глаза привыкали, они ясно различали предметы, их очертания, формы. О, вот еще раз земля показалась над тьмою, наша земля – такая красивая, она открывается нам, простирается перед нами, вышедшая из ничего, родившаяся из ничего, появившаяся из бездн ничего – вот она снова пред нами, сколько раз так еще будет? Однако для них это был лишь сигнал. Они сказали Фирмену: «Подожди, пока мы окажемся на местах!» Он был самым молодым и проворным. Они разошлись по местам. Фирмен посидел немного как договаривались, поднялся. Рядом на траве лежал большой круглый сверток из серой ткани, на вид совсем легкий, за поясом у Фирмена торчала веревка. Он полз на четвереньках, неся за спиной сверток и направляясь прямо к двери шале. Все замерло. Сплошное одиночество, безмолвие. Везде – одиночество и безмолвие: час перед рассветом, когда сон завершается, но еще длится, в краях ниже едва слышится птичья песнь, здесь – даже птиц нет. Лишь небесная белизна, бросающая отблеск на траву, по которой полз человек, затем он побежал, и было видно, что он босой.
Двигался он бесшумно. Вот он подошел к лишь прикрытой двери шале, в двери было кольцо, которому соответствовало другое, закрепленное в стене. Он еще послушал, осторожно протянул руку. Протянул вторую, в которой была веревка, продел ее в кольца. Завязал узел, еще один и еще несколько. Тишина, спокойствие, куда ни взглянешь – трава, земля, груды скал, со всех сторон груды льда и скал, все неподвижно (разве что покажется, сама гора чуть движется, но как в такое поверить?), ни одного живого существа, ни зверя, ни птицы, пустынное место, возвышающееся надо всем и за пределами жизни. Фирмен завязал веревку, после чего, взяв полотняный шар, скрылся за углом шале. В полотняном свертке у него было сено. Вскоре из-под крыши повалил дым. Вначале он был белый и слабый, затем быстро стал черным. Позади шале раздался крик, которым по вечерам собирают стадо, а по утрам гонят его на выпас, животные его понимают и подчиняются: хо!.. И опять: хо! Хо!.. И вот уже показалось первое животное в дверях хлева, за ним толкались остальные, крик звал их вперед в то время, как позади что-то пугало, то был дым, его стало больше, хотя он и медленно поднимался в отяжелевшем воздухе.
И – хо! Хо! Слышалось среди позвякивания колокольчиков над пастбищем, по которому на расстоянии рассыпались, удаляясь, цветные пятна. И, если б кто-то стоял поближе, то, может, слышал бы, как изнутри дергали, колотили в дверь, однако веревка держалась прочно.
Люди в укрытии сказали себе: «Приготовься! Сейчас начнется!» Они зарядили винтовки. Одни стояли на колене, другие лежали, все винтовки направлены в одну сторону, цель у всех одинаковая. Слева от двери шале – квадратное отверстие, в котором могла поместиться голова и верх туловища, туда-то и метили. Надо было лишь подождать первого.
Над скалами с разных сторон мелькнули синие вспышки, и голова в оконном проеме повисла, вытянутые руки ударились о стену.
Потревоженные воздушные массы бросило куда-то вперед, они налетели на скалы, отскочили несколькими находящими друг на друга волнами, образовался будто вихрь с воронкой в центре, затем мало-помалу все стихло: голова больше не двигалась, руки висели неподвижно…
Следовало лишь перезарядить винтовки, Фирмен подбросил в огонь поленьев (мокрых, поэтому столько дыма).
Готово. Дальше дело продолжилось возле трубы – возвышающейся над топкой большой квадратной трубы, посеребренной изнутри копотью, в которой вместо вьюшки виднелось небо. На этот раз их было двое, они помогали друг другу карабкаться, но все зря. Один упал, оставшись внутри, другой покатился по крыше, и воздух вновь содрогнулся, как взятая с двух сторон простыня, которую принялись вытряхивать.
Послышался крик Фирмена: «Готово!..» И трижды, четырежды, пять раз тревожили эхо, вытаскивая его наружу, словно сверчка, которого щекочут палочкой в норке, и всех в шале уничтожили одного за другим. После чего скальные глыбы распались каждая на две части, явив миру по человеку, который уже делал шаг в сторону, уже шел навстречу другим. «Дело сделано?» Они подходили. «Готово!» Они видели, как приближается Фирмен, широко размахивая шляпой. Все подходили, с винтовками на плечах, не зная, не видя неба. Они шли, кричали: «Готово!» Подошли, разрезали продетую в дверные кольца веревку, они вошли, они смеялись. С окровавленными руками, с кровью на башмаках, они были счастливы, гордились собой. Позабыв обо всем, кроме себя, они брали тела, вытаскивали наружу, бросая в кучу, считая: «Один, второй, третий» Подсчитывая: «Итого десять». Сосчитав до десяти, вытирали руки о траву, рвали листья, вытираясь листьями: «Ну, все в порядке?» Не видя ничего другого, думая лишь о том, что осталось сделать. Стадо разбежалось, надо было его собрать. Надо было подоить коров, зажечь огонь в печке…
И снова зазвучал в горах голос: хо!.. Хо!..
Снова зазвучал голос над склонами, пробежал по ним, вернулся: хо! И теперь говорят уже скалы: хо! Трижды.
Этот вот бьет кнутом здесь, тот бьет кнутом на другом конце пастбища, и: хо!.. И теперь стены шале, опять скалы, небо: хо!.. Хо!.. Словно они все хотели друг другу помочь, и вот уже видно, что животные потихоньку идут друг к дружке, приближаются все вместе, как всегда.
Каждодневная жизнь. Домашние дела, ничего более. Вещи, вновь обретенные там, где их оставили, их отыскали и продолжили заниматься ими, словно так и должно продолжаться всегда.
Они ничего не видели. Не видели ничего, что на них надвигалось, несмотря на предупреждения. 36°, 37°, 38° на вершинах над снегами и льдами. Они все еще ходят под белым небом, даже не удивляясь тому, какое оно сегодня, довольные собой, ни о чем другом и не помышляя. Время от времени вытирают тыльной стороной руки лоб. Ничего другого не происходит. Стряхивают пот с рук. Время от времени они вынуждены останавливаться, им не хватает дыхания, но они не хотят ничего понимать. Можно было б понять, если б было желание, но они хотят понимать лишь то, что снова хозяева у себя дома. Они хотят понимать лишь то, что они снова хозяева вещей, которыми обладали до этого и которые вновь принадлежат им. Свое дело они знали прекрасно! Одни доили, другие, собирая навоз, толкали тележки. Полдень. Они попытались перекусить, растянулись в тени. Легли на живот, распластались, как только могли, но это не помогало, не помогало уже ничего, всякая помощь иссякла, выветрилась. 40°, 41° в такой-то час, что же будет дальше? Но они себя об этом не спрашивали, хотя временами вверху будто слышались взрывы, будто валили деревья, набив порохом сучковатые стволы с ушедшими в землю корнями. На ледниках 40° и больше, но мы-то дома. Так они думают, ничего не говоря вслух. Так думает каждый из них и все они вместе.
Мычит корова, тянет шею, высовывает язык. Ложится на бок, отводя голову в сторону, рогом мешая грязь лужи.
Четыре часа пополудни, пять часов…
Такое невозможно было себе представить. А следовало бы.
Горные склоны по бокам пастбищ задвигались как двигается шкура у лошади, которой досаждают мухи. Над склоном висел ледник, низ его был похож на застывший водопад, и вот, кажется, тот начал обваливаться.
Неподвижные прямые трещины, изогнувшись, словно дуга под коленом, сложились посередине.
Словно выстрелили одновременно сотни артиллерийских орудий.
Поднялся вихрь, налетел шквал, схвативший людей и животных, поваливший их всех вперемешку, сбивший крышу с шале.








