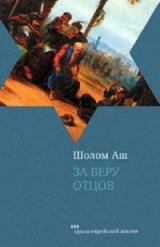
Текст книги "За веру отцов"
Автор книги: Шалом Аш
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Глава 6
Немиров
Все это выпало нам, но мы не забыли Тебя
и не нарушили завета Твоего.
(Псалмы, 44: 18).
В городе началась паника. Женщины хватали детей, мужчины – что попало, и бежали. Но никто не знал, куда бежать. Одни кричали: «На кладбище! Раввин там. Лучше умереть у родных могил!» «К реке!» – кричали другие. Но казаки уже были у них за спиной. Тут и там слышались крики девушек и молодых женщин, которых казаки хватали и затаскивали на лошадей. Но вскоре крики затихли, слышался только глухой топот копыт.
Тихо и пусто стало на узких улочках, будто весь город вымер. Валялись в грязи страницы святых книг, окровавленная одежда, мужские шапки и женские чепцы, домашняя утварь, обрывки талесов и человеческие тела. И уже не разобрать было, чье это тело, чья одежда. Все перемешано, растоптано конскими копытами. Только из домов, из-за закрытых дверей и ставней доносятся шум и голоса.
Показался из дома казак, полуголый, в висящей лоскутами рубахе, в одной руке держит серебряный подсвечник, другой рукой тащит за собой девушку в разорванной одежде, с растрепанными волосами. Девушка пытается вырваться, колотит казака кулаком по голой спине, но он только смеется. Еще один казак выходит из другого дома, несет на плече девушку, потерявшую сознание. Казаки останавливаются, кладут на землю свои жертвы, как связанных телят, начинают меняться девушками, торгуются, доплачивают друг другу подсвечниками, отрезами шелка, шубой, парой сапог. Совершив обмен, расходятся, таща свою добычу.
Из переулка появляются трое. Они пьяны, пот блестит на жарком солнце, катится по выбритым головам с длинными чубами, по лицам, по спинам. Один несет голое тельце ребенка, непонятно, живого или мертвого. Казаки орут, передразнивая еврейского мясника: «Свежая телятина, двенадцать грошей фунт, кошерная, покупайте!»
Наконец все затихает. Только донесся еще с окраинной улочки топот ног и короткий, тут же прервавшийся крик. Всюду валяются пьяные казаки, полуголые, обмотанные женскими шелковыми платками. Рядом – женские и детские тела. Кожаные переплеты еврейских книг, кусок пергамента от свитка Торы, порванные талесы и шубы, оловянные тарелки с остатками еды, куски турецкого ковра – все растоптано, все смешалось с кровью и пролитой водкой. Не понять, кто мертв, кто жив, но кажется, что все пьяны, и живые, и мертвые…
Долог летний день, казалось, не будет ему конца, и не будет конца ужасу и страданию. Проходят часы, но все так же светло и жарко. Но вот из степи начали надвигаться тени, и вскоре ночь укрыла город. Спокойно, черно вокруг, сияют звезды, на болотах квакают лягушки и гудят комары. Все как всегда. Но в опустевших домах – мертвая тишина. Только слышно, как кто-то играет на лире, и поет, и плачет над чьей-то судьбой.
* * *
На ночном кладбище, в тишине, что-то движется. Из-за надгробий появляются живые мертвецы. Некоторые закутаны в талесы, некоторые – в праздничных белых халатах, многие не успели надеть погребальное облачение, но тоже прячутся на кладбище: если погибать, то лучше здесь, у могил предков. Целый день ожидали смерти, но смерть не пришла.[37]37
В действительности волна убийств докатилась до кладбища. Именно там 20 июня 1648 г. погибли среди прочих раввин Ехиел-Михл бен Лейзер и его мать.
[Закрыть]
Из города доносятся крики погибающих. Уже прочитали предсмертные молитвы, каждый отыскал могилы своих близких и ждет возле них. Но день уже клонится к вечеру, а из города никто не появился. Крики затихли, и в людях вновь проснулась надежда. Оторвавшись от могил, мертвые заговорили друг с другом:
– Слава Богу, конец месяца, луны нет.
– Может, они скоро уйдут.
– Или помощь придет.
– Тссс…
Многие заранее готовят себе погребальное облачение. Теперь те, кто успел захватить на кладбище саваны, надели их: может, казаки примут за покойника, а если все же суждено погибнуть, то лучше быть готовым к погребению. Казалось, мертвые поднялись из могил и ходят среди живых.
– Нет у кого-нибудь кусочка хлеба? Сил нет, есть хочется, – спрашивала у всех старая еврейка в саване.
– Давно на том свете, а все еда на уме, – заметил кто-то.
– Что поделаешь? Пока душа в теле, без еды никак, – ответила женщина.
* * *
Семья Мендла тоже была на кладбище. Когда пришло несчастье, Мендл, как и многие другие евреи, хотел переправиться через реку, чтобы бежать в Тульчин. Но, увидев панику, царящую на берегу, решил, что, раз смерти все равно не избежать, лучше встретить ее на кладбище, среди своих. Целый день каждую минуту Мендл и его родные ждали смерти, не раз прощались друг с другом, прочитали предсмертную молитву. Шлойме старался утешить родных как мог. Говорил, что они попадут в рай, как все, кто погиб во имя Господа, рассказывал, какое там солнце, как встречает прибывших небесное воинство, как мудрецы и праведники сидят с коронами на головах и Всевышний учит с ними Тору, а ангелы играют на арфах. О будущем мире, где пребывают праведники всех поколений, Шлойме много читал в святых книгах и знал о нем гораздо больше, чем о настоящем. И что такое этот мир, где правят злодеи, где властвует ужас, по сравнению с будущим, вечным миром?
Шлойме удалось успокоить родных, они были готовы к предстоящему испытанию. Счастливы были родители, что их сын тут, рядом, что он стал их утешителем в этой великой беде. Они забыли о страхе, освободились от него и видели только вечный покой, уготованный им после смерти, и уже ждали ее как избавления.
Шлойме и его молодая жена сидели, прислонившись к надгробию. Ночь окутала их, звезды сияли в небе, с берега, из долины, долетали крики казаков, вспыхивали и гасли огоньки выстрелов, иногда слышалось чье-то приглушенное рыдание. Двойра прижимается к мужу. Не смерти она боится, – боится расставания, ей страшно потерять радость, которую она так недавно узнала. Теснее, крепче прижимается она к нему: пусть лучше они погибнут вместе, чем будут разлучены.
– Шлойме, мы только начали жить и уже должны расстаться. Не дал мне Бог стать матерью твоих детей.
– Двойра, Бог нас соединит, если мы хотим прийти к Нему в святости и чистоте. Там, на небе, мы вечно будем вместе, удостоимся видеть Божественный свет, пока не придет Избавитель, пока его рог не воскресит мертвых.
Внезапно их страх превратился в радость. Они сами не поняли, как это произошло, но почувствовали, что тишина и покой спустились на землю, легко стало у них на сердце, и вернулись слезы, высушенные близостью смерти. Улыбаясь сквозь слезы, Двойра сказала:
– Шлойме, я больше не боюсь смерти. Почему же они не придут, не освободят нас? Так хорошо было бы сейчас умереть! Так же хорошо, как опять пойти с тобой к свадебному балдахину.
– Не надо, Двойра. Пока мы живы, надо просить о жизни, а не о смерти.
– Для Всевышнего все возможно. Да, Шлойме, мы будем жить. Я так хочу жить для тебя, Шлойме, так хочу…
– Тише, Двойра, тише.
– Я так хочу быть с тобой, на этом свете или на том. Жить и знать, что ты со мной, – говорила Двойра, засыпая в объятиях Шлойме.
Шлойме сидел, не шевелясь, смотрел на жену. Такой слабой, такой беззащитной и прекрасной была она сейчас! Ему казалось, что он ее не узнаёт, все земное покинуло Двойру, небесный свет сиял на ее лице, будто это не она, а праматерь Рахель спустилась с неба, будто это сама Божественная душа явилась оплакать разрушенный Храм.
Глава 7
По воде
С наступлением ночи в людях проснулась надежда и воля к жизни. Мендл позабыл о смерти, энергия снова вернулась к нему. Он огляделся по сторонам. Все поняли, о чем он думает. Мендл посмотрел на спящую Двойру.
Она молода и красива. Если казаки схватят ее, они оставят ее в живых, но сделают с ней то, что хуже смерти. Все это понимали, хотя никто не высказал эти мысли вслух.
Тем временем кладбище пришло в движение. Люди появлялись из укрытий, собирались вместе, о чем-то тихо говорили. Это еще больше ободрило Мендла. Он встал.
– Мендл, куда ты?
– Хочу подойти к забору, посмотреть, может…
– Мендл…
– Тише.
– Куда ты пошел? Я тебя не пущу! – Юхевед попыталась остановить его. – Если умирать, лучше умрем вместе.
– Подойду к забору, может, есть какая-то надежда.
Двойра проснулась. Спросила, испуганно глядя по сторонам:
– Кто это играет? Я слышала музыку во сне.
И правда, издали доносился тихий звон крестьянской лиры. Страх вернулся. Кто-то сказал, что это идут казаки. Люди снова начали прятаться среди могил, старались не дышать, матери укрывали платками детей, чтобы те не закричали. Тихо стало на кладбище, только шелестели листья верб, а звон лиры все приближался.
Наконец струны смолкли и кто-то позвал:
– Евреи, пора! Чего вы ждете?
В слабом свете звезд стоял старый нищий с лирой в руке.
– Кто ты?
– Не узнаете? Это я, портной. Я говорю по-украински, вот и затесался среди гоев. Уходите скорее! Я слышал, они говорили, что на кладбище спряталось много евреев со своим золотом и серебром. Когда рассветет, они придут. Уходите!
– Куда?
– Река сейчас спокойная. Злодеи веселятся в городе, пьянствуют и грабят. Несчастен тот, кто это видел! Попробуйте перебраться на тот берег, здесь очень опасно.
Люди снова зашевелились, черные тени двигались среди надгробий, тихо переговариваясь друг с другом. Вдруг кто-то бросился бежать, кто-то вскрикнул.
– Тише, услышат, – отозвалось несколько голосов.
– Что вы делаете? Гои заметят.
– По одному, по одному, через поле, – командовал кто-то.
Все кладбище пришло в движение, только Мендл продолжал сидеть, пристально глядя на Двойру и сосредоточенно размышляя. Кладбище пустело, но он не поднимался с места.
Вдруг кто-то бросился Мендлу в ноги:
– Панычу, спасайся, ночь темна, беги.
Это была Маруся. Увидев Двойру, она кинулась к ней:
– Доченька моя!
Семья Мендла была поражена появлением старой служанки, все обрадовались, на минуту забыв об опасности.
– Зачем ты пришла? Почему ты не в городе? Тебе там ничего плохого не сделают.
– Что ж вы думаете, я брошу своих хозяев, а сама пойду гулять с казаками? Уж лучше вместе с вами погибнуть. Кто делил со мной кусок хлеба, с тем хочу жить и умереть.
– Но как ты нас нашла?
– Шла за вами. Увидела, что мои хозяева побежали на кладбище – и за ними. Боялась, что прогоните, я ведь другой веры. Спряталась за камнем, сижу тихо, как кошка, и думаю себе: придут братишки, возьму моих деток, прикрою своим телом, скажу: «Меня убейте, братишки, а деток моих не трогайте. Хоть они и другой веры, но это мои дети».
– Возвращайся в город, Маруся, ты же видишь, здесь опасно. Иди к своим, а то убьют вместе с нами.
– Панычу, не гони меня, – стала просить старая казачка, – я вам честно служила, я моих деток не брошу. Я Двойрочку спасти пришла. Вот, платье ей принесла. Я ее спрячу, скажу, что это моя дочь. А чтобы братишки не засматривались, сделаю так, как будто она уже старая, некрасивая. А ты бери хозяйку, бери молодого паныча, и плывите на тот берег. Бог вам поможет. Только молодую панну не берите. Знаю я своих братишек, казаков, они девушку за версту учуют, как собака зайца. За женщину в ад полезут, не то что в воду. Я ее казачкой одену и отведу к рыбаку, тут недалеко. Знаю тут одного. Яиц ему дам, он нас перевезет на лодке. На том берегу встретимся. Или, с Божьей помощью, отвезу ее прямо в Тульчин. Со мной надежнее будет, как зеницу ока буду ее беречь, мою ненаглядную.
Совет Маруси пришелся Мендлу по сердцу. Трудно было ему решиться на расставание с Двойрой, но он понимал, что отправить ее с казачкой будет безопаснее, чем взять с собой. Однако уверенность, что погибать надо всем вместе, была в нем так сильна, что он молчал, размышляя. Никто не осмелился что-нибудь сказать, посоветовать, все ждали его решения.
Но Маруся не дала ему долго раздумывать, снова бросилась к Мендлу:
– Панычу, спасай свою жизнь. Я была в городе, видела, что братишки делают. Они в степи совсем одичали, Бога забыли. Страшные времена пришли. Бегите же, бегите!
– Идите за мной. Какая разница, где мы смерть повстречаем, – сказал Мендл своим.
Они выбрались с лежащего в долине кладбища и поднялись на холм. Сверху был виден казачий лагерь, раскинувшийся вдоль реки. Под котлами горели костры. Лагерь не спал. Тут и там слышался звон струн, пение, пьяные крики. Кое-где танцевали, собрав возле себя зрителей.
Маруся упала Мендлу в ноги:
– Панычу, не ходи туда, видишь, что делается. Это смерть. Братишки нас увидят, носом почуют.
– Придется расстаться. Так и так смерть стоит перед нами. Когда рассветет, они нас заметят. Может, если расстанемся, Бог нас спасет, как до сих пор спасал. Встретимся в Тульчине. А если, не дай Бог, суждено погибнуть, значит, погибнем за Его святое имя, – сказал Мендл, обнял своих и поднял глаза к небу. – Господи, помоги нам!
Никто не плакал. Молча обнялись в последний раз.
– Попрощайся с женой, Шлоймеле.
На минуту муж и жена остались одни. Шлойме погладил Двойру по голове:
– Двойра, верь, Всевышний все может, даже когда нож уже приставлен к горлу.
Жена не ответила, только поглядела ему в глаза.
– Мы увидимся, Двойра. Ты праведница, ради тебя Всевышний не даст нам пропасть.
– Ради тебя, Шлойме. А если не увидимся, предстану перед Богом в праведности и чистоте, как ты меня учил.
– Береги себя, Двойра, не теряй надежду.
– И ради наших детей, которыми Бог нас осчастливит, – тихо сказала Двойра. Это были ее последние слова мужу.
– Бог тебя наградит за твою доброту, Маруся, за все, что ты для нас делаешь, – сказала Юхевед. – В твои руки отдаю все, что мне дорого: свою жизнь и жизнь моего сына. Не знаю, смогу ли я тебе отплатить, но Бог тебя наградит.
– Просите Его за нас, а мы будем просить за вас, – ответила старая казачка, и они с Двойрой скрылись в темноте.
Еще минуту ждал Мендл. Юхевед вытерла слезы, которым дала волю только теперь. Еще минуту прислушивался Шлойме к шелесту кустов и шороху сухой травы там, где исчезло его счастье.
Мендл сказал:
– Ну, с Богом.
И по кустам пополз к берегу, жена и сын – за ним.
Долго ползли они по сухой траве. Смех и голоса казаков слышались совсем близко, можно было разобрать слова. Не раз им казалось, что они пропали. Но Бог все-таки помог им: до берега добрались незамеченными. В конце концов в лагере стало тихо. Прекратился шум, погасли костры под котлами. Еще горели факелы на телегах, казак вел к реке лошадь на водопой. Мендл с женой и сыном, затаив дыхание, лежали в высокой траве, ждали, когда лагерь совсем уснет, чтобы никто не услышал плеска воды.
– Бог нам помогает, – сказал наконец Мендл. – Шлойме, я возьму мать на спину, а ты за мной. Если почувствуешь, что теряешь силы, хватайся за меня.
Трижды раздался негромкий всплеск, и три тела заскользили по воде. Река относила назад, легкие волны выползали на песчаный берег.
На берегу лежал казак, подложив под голову седло, смотрел на звезды, тихо, печально напевая. Плеск волн привлек его внимание, казак быстро поднял голову, и его зоркий степной глаз тотчас различил пловцов на гладкой речной поверхности. После минутной борьбы любопытство одержало верх над ленью. Казак подхватил свою пику, и теплая ночная вода всколыхнулась, когда он босыми ногами вперед прыгнул с берега.
Борясь с течением, Мендл услышал сзади негромкое «Слушай, Израиль» и по привычке, продолжая плыть с женой за плечами, ответил: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один».
Выйдя из воды, он увидел, что они с Юхевед остались вдвоем, и что в слабом свете звезд темное пятно движется обратно, к покинутому берегу.
Глава 8
Пленник
Ты продаешь свой народ без выгоды
и не повышаешь цену его.
(Псалмы, 44:13).
– Кого поймал, казачок?
– Еврея поймал. Почудилось, девушка, не разобрал издали. А потом гляжу, это парень с пейсиками, – вытаскивая из воды Шлойме, ответил казак своему товарищу, поджидавшему на берегу.
– Что с ним делать будешь?
– Не знаю. Убить жалко, зачем за ним в воду лазил?
– Хочешь, чтоб он жив остался, так накормить надо.
– И то верно, – вздохнул казак.
Шлойме, мокрый, закоченевший, лежал на берегу и вслушивался в разговор. Он уже приготовился к смерти и шептал слова исповеди. На минуту ему стало жаль своей молодой жизни, своего недавно узнанного счастья. Но он был уверен, что соединится с Двойрой в будущем мире, что там они начнут новую, великую жизнь, и был даже рад, что уже стоит на ее пороге. Жаль только, что Двойры нет рядом и умереть им предстоит порознь. Его мучило то, что они расстались, что ему не известна ее судьба, но он твердо уповал на Всевышнего, Который все видит и все знает.
Река и степь исчезали где-то в ночной темноте, но берег был освещен огнями костров. Любопытные казаки толпились вокруг.
– Молодая или старуха? – спросил один, поднося факел к лицу Шлойме. Увидев длинные, мокрые пейсы, казаки расхохотались:
– За девушкой всю реку переплыл, а вытащил еврея. Смотрите, казаки, кого он поймал. Знатный улов!
Казак, молодой, с приятным лицом и небольшими, быстрыми глазами, осматривал свою добычу. Пару раз он пнул Шлойме ногой, не со зла, а просто не зная, что с ним делать. Наконец он решил:
– Я его покрещу, пусть примет нашу веру. Хоть какая-то заслуга перед Господом за труды.
С этими словами казак снял маленький металлический крестик и повесил его Шлойме на шею.
– Моли господа нашего Иисуса Христа, чтобы я тебя в живых оставил.
Шлойме не ответил, продолжал лежать, скорчившись, спрятав лицо.
– Вставай, еврей, – поднял его казак. – Я тебе добро делаю. К святой церкви тебя приведу, в живых оставлю, хоть они и смеются надо мной. А ну, на колени, целуй крест, повторяй: «Во имя отца и сына…» Повторяй, проклятый еврей, а то убью, как Бог свят, убью!
Но как только казак выпустил свою жертву, Шлойме снова упал на землю и закрыл ладонями лицо.
– Ничего ты с ним не сделаешь. Видал я таких. Взял одного в Корсуне, молодой, красивый, жаль было убивать. Дочь хотел ему отдать в жены. «Крестись, – говорю, – дочь за тебя отдам, в Сечь со мной пойдешь, казаком станешь». Ничего не помогло, пришлось убить. Упрямый народ! Их всех раввины заколдовали. Им раввины такое красное вино дают, оно им не позволяет забыть их веру. Убей лучше, и дело с концом.
– Раввины дают им кровь пить, когда обрезание делают. В этой крови такая сила, что каждый раз, когда они хотят креститься, она им не дает, – сказал другой.
– Говорят, они перед смертью видят свет, а в этом свете – лицо матери. Потому и не могут свою веру оставить. Но если завязать им глаза, то покрестить можно.
– Какая разница, все равно ничего с ним не сделаешь. Убей, да и все.
– Отдай его мне! – попросил другой.
– На что тебе?
– Я его к своей бабушке отправлю.
Казаки рассмеялись.
– Лучше убей, не мучай, грешно над Божьим созданием издеваться, – сказал старый казак.
– Верно говоришь, дядюшка, лучше убить, – согласился тот, что вытащил Шлойме из воды.
Вдруг послышались звуки струн. К казакам подошел старик, опираясь на палку, с лирой в руке.
– Что смеетесь, казачки?
– Да вот, дедушка, еврея поймали, не знаем, что с ним делать.
– Продайте Мурад-хану. Он евреев покупает, за старых платит серебром, за молодых золотом. Может, выторгуешь еще кувшин татарского пива, друзей угостишь. Хитрый он, Мурад-хан. Персидские ковры и сабли получает за евреев в Турции. А наши братишки не берегут свое добро, убивают евреев. В Константинополе за них большие деньги дают.
– Правду ты говоришь, дедушка, не знают наши братишки, как обойтись с таким товаром, – согласились с ним.
– Дедушка, отведи нас к Мурад-хану, – сказал казак, поднимая Шлойме за ворот и таща за собой.
– Отпусти его, сынок, не надо. За мертвого еврея Мурад-хан ничего не заплатит, – сказал старик. – Лучше дай ему глотнуть горилки, он и приободрится. Глядишь, заскачет как жеребенок. Пусть оживет немного.
Один из казаков поднес к губам полумертвого Шлойме медную флягу и начал лить ему в рот.
– Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один, – услышал Шлойме над ухом.
Еще не совсем очнувшись, в полузабытьи, Шлойме повернул голову и увидел рядом старика. Тот тихо произнес:
– Что спишь, друг? Поднимайся, благодари Бога.
Голос показался знакомым, очень знакомым, но Шлойме не мог вспомнить, где его слышал.
Огромный двор был окружен частоколом. Из-за частокола доносился напев, тихое бормотание, слова еврейской молитвы. У ворот сидел на ковре Мурад-хан, молчаливый, болезненный на вид, с длинными обвисшими усами и потухшим взглядом. Рядом пылал бочонок смолы. Перед ханом стояли столбики серебряных и медных монет, лежали турецкие платки, посуда, разные вещи для обмена. По бокам стояли два татарина с покрытыми головами и выкрикивали по-казацки:
– Ведите ваших пленных к Мурад-хану, братишки! Мурад-хан, великий торговец, покупает невольников, платит турецкой монетой.
Низкорослый татарин подошел к казакам, осмотрел Шлойме, ощупал его и показал на две кучки монет.
– И бочонок пива, – начал торговаться казак.
Татарин помотал головой.
– А нет, так убью его, как Бог свят. Или добавишь бочонок пива, или убью.
Татарин подошел к Мурад-хану, который сидел, скрестив ноги, мрачный, безмолвный, как человек, съедаемый каким-то недугом. Равнодушное лицо, мутные, ничего не выражающие раскосые глаза. Мурад-хан тоже помотал головой.
– Ну так убьем его, а вам не продадим.
– Погодите, казачки, погодите! – сказал старый лирник и зашептал татарину на ухо, указывая на Шлойме. – Это важный еврей, большой раввин, я его знаю. В Смирне евреи хорошие деньги дадут, чтобы его выкупить.
Татарин снова подошел к Мурад-хану и передал ему слова старика. Хан кивнул. Татарин принес казакам кувшин пива, Шлойме отвели во двор к другим пленным. Из-за частокола доносилось: «Господь – свет мой, спасение мое. Кого мне бояться?»
– Пойдемте, братишки, выпьем. А ты, старик, сыграй нам, чтоб и весело было, и грустно.
Казаки уселись в кружок, лирник ударил по струнам и запел:
В нашу землю нас,
В нашу землю нас…
Сынку, сынку, не грусти,
Свое сердце не томи,
Будет хатка выкуплена,
Будет хатка выстроена,
Скоро избавление наше придет!
Авраам, Авраам,
Старшенький ты наш,
Исаак, Исаак,
Дедушка ты наш,
Яков, Яков, Яков,
Батюшка ты наш,
Что ж вы не просите,
Что ж вы не просите,
Что ж вы не просит
Пана Бога за нас?
Вы же наши хатки выстроили,
Нашу землю выкупили,
Нас бы в землю отвозили,
В нашу землю нас,
В нашу землю нас.
Казаки подхватили:
В нашу землю нас,
В нашу землю нас!
И с той стороны частокола донеслось:
В нашу землю нас,
В нашу землю нас.







