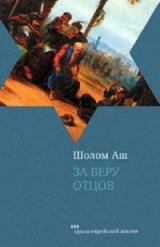
Текст книги "За веру отцов"
Автор книги: Шалом Аш
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Глава 4
Новая община
Вскоре по всей Подолии и Волыни, где только ни жили евреи, разнеслась весть, что появилась новая община. Злочев получил разрешение на синагогу, и евреи стали стекаться туда со всей округи. Приезжали из Корсуня, из Чигирина, ехали из-за Днепра, из Люблина, из Лохвицы, из Переяслава. Злочев славился как прибыльное место: близко к Сечи, можно вести торговлю с казаками. Даже из Малой Польши приезжали, услышав на ярмарках в Ярославе и Люблине, что в Злочеве есть теперь еврейская община.
Первым делом начали строить синагогу. Каждый пожертвовал что мог. Женщины принесли свои украшения. Из Немирова пригласили двух мастеров.
Два года длилось строительство. Участвовала вся община. Синагоге предстояло служить двум целям: быть местом молитвы и защитой от врагов.
Поэтому строили ее как крепость, с железными дверьми и засовами. Кузнец Нахмен выковал дверь, ограду для бимы[11]11
Бима – возвышение посредине синагоги, с которого читают свиток Торы.
[Закрыть] и огромные светильники. Незатейливая работа, простая кузнечная работа, но какая любовь, какое старание! Все свое мастерство, все умение вложил кузнец в светильники и ограду. А резчик Бурех! Под присмотром двух мастеров из Немирова вырезал он всевозможные фигуры и украшения, которые когда-то в детстве научили его резать: голубей, оленей, львов, символы всех двенадцати колен и двенадцати месяцев. Ночи напролет сидел он и работал при свете лучины, чтобы украсить синагогу. И каждый, кто ездил на ярмарку в большие города и там находил что-нибудь подходящее: отрез шелка для занавеса на ковчег, или кресло пророка Ильи,[12]12
Кресло, в котором во время обрезания сидит человек, держащий на коленях ребенка.
[Закрыть] или какое-нибудь украшение, – тут же покупал это и привозил домой для синагоги.
А женщины сидели ночами в корчме у жены Мендла, Юхевед, и, напевая, расшивали драгоценностями занавесы и чехлы для свитков Торы.
Мендл, как старейший житель Злочева, с которым считается сам помещик, стал главой новой общины. И Мендлу хотелось, чтобы Злочев уважали в еврейском мире. Надо было найти известного раввина, настоящего знатока Талмуда.
Был такой раввин в Лохвице, праведник, о котором говорила вся округа, и Мендл, недолго думая, запряг лошадей, поехал в Лохвицу, пообещал раввину на двенадцать грошей в неделю больше, а его жене – привилегию изготавливать свечи для всего города. Тут же подписали договор, и, когда в Лохвице об этом узнали, было уже поздно: Мендл увез праведника в Злочев. Вскоре город прославился на весь мир. Раввин открыл хедеры, начал преподавать Талмуд, и Злочев превратился в центр учености.
И когда об этом заговорили на ярмарках в Ярославе и Люблине, в Злочев стали приезжать не только ремесленники и торговцы, но и ученые люди, знатоки Талмуда. Приехал реб Янкев Коэн из маленького немецкого городка, разрушенного из-за навета на тамошних евреев. Только реб Янкев спасся и спас свитки Торы. Из Богемии, из города Аша, приехал реб Исроэл, привез с собой маленькую девочку. На ярмарке в Люблине услышали они, что где-то в далекой степи поселил Бог евреев, обеспечив их заработком, приехали и обосновались в Злочеве.
А Мендл уже начал подыскивать для сына достойную пару. Шлоймеле исполнилось восемь, пора было думать о сватовстве, чтобы приблизить избавление еврейского народа. Глава общины Злочева хотел породниться с лохвицким праведником, его дочь была тех же лет, что и Шлоймеле. И Мендл пообещал, что будет пожизненно содержать сына и невестку, и добавил золотых червонцев. Свадьбу назначили на день открытия синагоги. Хоть жених с невестой были еще слишком молоды, решили все-таки их поженить. Пусть удостоятся обновить синагогу своей свадьбой.
* * *
Синагогу достроили к Пейсаху,[13]13
Пейсах – весенний праздник в память об исходе из Египта.
[Закрыть] но открытие отложили на Лаг ба-омер,[14]14
Лаг ба-омер – тридцать третий день после Пейсаха. В этот день прекратилась эпидемия, унесшая жизни многих учеников рабби Акивы (первая половина II в. н. э.). Также является годовщиной смерти рабби Шимона бар Йохая (вторая половина II в. н. э.), повелевшего отмечать этот день как праздник.
[Закрыть] который считается счастливым днем. Снаружи синагога казалась небольшой, старалась не бросаться гоям в глаза. Но в действительности была просторной и высокой. Фундамент был глубоко вкопан в землю, на двенадцать ступеней вниз. В самом глубоком месте стоял омед,[15]15
Конторка, на которую кладут молитвенник.
[Закрыть] за которым должен был молиться кантор. Так сделали по двум причинам. Во-первых, чтобы синагога была не слишком заметной, во-вторых, чтобы молиться, как сказано в Псалмах: «Из бездны к тебе взываю, Господи!» Но к ковчегу от омеда поднималась резная лестница: не подобает слову Божию находиться в бездне. В этот день ковчег закрыли новым, праздничным занавесом из синего флорентийского бархата, расшитого серебряной нитью. Вытканная на нем корона мерцала благородным блеском жемчужин, украшавших когда-то белые шеи молодых еврейских женщин во время благословения свечей. Был этот жемчуг освящен праведной радостью субботних вечеров. Темно-красными, как вино, рубинами вспыхивали грозди винограда, висевшие на зеленых сапфировых ветках, а вместе с именами женщин и девушек светились на занавесе их пожелания и надежды: рожать, растить, любить своих детей. Этот занавес, пронизанный кроткой нежностью, помнил благородные женские пальцы и вобрал в себя напевы, которые звучат в каждом еврейском доме вечером накануне субботы.
Посреди синагоги стояла бима. На ней в твердом ореховом дереве были вырезаны имена двенадцати колен и их символы: Иеуда – сверкающий золотом лев; Шимон – башни и стены покоренного Шхема, разрушенного за поругание сестры; плывет по серебряному морю корабль Звулуна; из зеленых камней выложено цветущее дерево – символ Ашера; из меди отлит змей Дана. Над бимой натянут балдахин, как темно-синее небо, усеянное золотыми звездами. И двенадцать созвездий плывут в ночной синеве, каждое над своим коленом. На биме стоят теперь жители города со свитками Торы в руках, готовые поместить их в новый дом, который они выстроили для Бога. Стоит среди них реб Янкев Коэн из Германии. Свиток Торы – единственное, что осталось у него от семьи, от целой общины, разбросанной теперь по всему свету. А вот стоит реб Исроэл со свитком из города Аша. Всех потерял, жену, детей, и вот приехал их разыскивать в Польшу. Сказали ему, что много евреев из Богемии нашло приют в польских землях, и он странствовал со своей дочерью по ярмаркам, пока не добрался до Злочева и не поселился в нем.
И среди них, узнавших немало горя, испытанных огнем гонений за веру, держащих в руках свитки, которые остались от погубленных еврейских общин, стоит глава новой общины реб Мендл с новым свитком Торы, который он заказал для только что построенной синагоги. Ни одна капля крови мучеников, ни одна слеза беженцев не упала еще на чехол свитка. Еще он чист, незапятнан, и сильным, свежим выглядит его хранитель – Мендл. Не лег еще на его лицо священный отблеск горя и страданий. Нет в нем еще и тени того благородства, что появляется вместе с готовностью жертвовать собой. Но крепко обнимает он сильными, неловкими руками новый свиток. Сердце замирает от святого бремени, которое он взял на себя: быть главой общины. Он чувствует это великое бремя, столь знакомое главам погибших общин. Вот он стоит среди них, и сердце стучит в груди: не придется ли ему так же, как им, жертвовать жизнью за свою общину, за свою Тору? Готов ли он умереть за них? Не дрогнет ли сердце? Сможет ли он выполнить свой долг?
Вдруг стало тихо. Тишина воцарилась в синагоге, будто вошел кто-то невидимый. Реб Янкев взял свой свиток, поднял его над головой и с дрожью в голосе начал произносить благословение, благодарить Бога за то, что Он спас его и дал вместе со свитком Торы надежное пристанище. Из женской части синагоги доносились тихие всхлипы. Это жены вспомнили своих потерянных, неизвестно где пропавших мужей. Все громче и громче звучал в синагоге плач. На людей напал страх перед будущим: не придется ли им, как реб Янкеву, бросить дом Бога, который они строили с таким трудом и любовью, и идти неизвестно куда, взяв свои свитки Торы? Кто знает, что скрывают в себе грядущие дни… И вот изгнанники друг за другом стали благословлять Всевышнего за избавление от опасности. И когда молодой кантор, которого реб Мендл привез из Умани, начал своим хрипловатым голосом называть имена тех, кто отдал жизнь за веру отцов, плач переполнил синагогу. Слезы текли из всех глаз, и глубоко в душе каждый тихо просил Бога, чтобы это место стало их последним пристанищем, где они найдут покой до прихода Избавителя.
– Дай Бог, чтобы это было наше последнее изгнание, – говорил один другому.
– Пусть Он избавит нас от всех бед. – И женщины со слезами целовали друг друга.
Но вдруг исчезла грусть, и все лица, молодые и старые, засияли, как солнце над умытым дождем полем. Это Ицик-музыкант сладко заиграл на скрипке, и просветлели у людей опечаленные глаза, как только кантор запел: «Когда ковчег трогался в путь…»
И Шлоймеле, сын Мендла, в зеленом кафтанчике, который справил ему к свадьбе его учитель и портной, отворил дверцы ковчега. Друг за другом поднимались люди по ступеням и ставили в новый ковчег свитки. По его сторонам стояли, охраняя Тору, два деревянных льва с коронами на головах, а при помощи скрытого механизма, сделанного мастером из Немирова, спустились с синего звездного неба два огромных, покрытых белым золотом орла и повисли над ковчегом с распростертыми крыльями.
Приблизиться к ковчегу первыми удостоились старый реб Янкев и реб Исроэл из Богемии, затем раввин и только после них – Мендл с новым свитком злочевской общины. Когда подошла его очередь, он задержался перед святыней, и сердце его наполнилось тихой молитвой: «Отец наш небесный, пошли покой детям Твоим». И слеза, первая слеза упала с его щеки на чехол свитка.
Но снова заиграла скрипка, и хор юных голосов запел: «Властелин мира царствовал…» Народ подхватил слова, и вместе с пением радость разлилась по синагоге. Исчезли печаль и страх. Отцы, матери, дети – все вместе. Голоса юных певцов звенели, как звенят на зеленом лугу колокольчики на шеях коз.
Теперь звуки скрипки широким потоком вливались в напев. Заиграли свадебную мелодию. Портной-меламед, а теперь и шамес[16]16
Синагогальный служка.
[Закрыть] новой синагоги, в широких крестьянских штанах из шерсти, которые он пошил ради такого случая, вышел вперед, подскочил к свадебному балдахину и закричал: «Дай дорогу, народ, посмотри, кто идет! Это же пан Ицик на свадьбу пришел!»
Мальчики подняли балдахин и установили его над бимой. Заиграла флейта, будто расчищая путь почетному гостю. И тут же засияли, заискрились на женщинах золото, камни, жемчуг, закачались перья на чепцах. Переливался красный шелк, расшитый золотой нитью. В жемчужной ночи краснели бусы, и золотистые агаты горели желтыми цветами на белом атласе. Шуршали белые, как морская пена, оторочки на платьях.
В этом блеске величественно, не спеша двигались женщины, вели невесту. Совсем еще ребенка, десяти лет не исполнилось. Острые ножницы безжалостно срезали ее черные, вьющиеся локоны, и не понимала девочка, почему ей надо выходить замуж. Откуда ей было знать, что это приблизит избавление? Она упиралась, не давала срезать свои черные кудри, пока Лея, управляющая миквой,[17]17
Миква – бассейн для ритуальных омовений.
[Закрыть] не заплатила ей сладкими коржиками: по коржику за каждую отрезанную прядь. Даже сейчас, когда она идет к балдахину, утешают ее эти сахарные коржики, плата за проданные волосы. На ней золотистое свадебное платье. Община решила одевать в это платье всех невест, чтобы не позорить бедных девушек, у которых нет денег на свадебный наряд. Сегодня платье было надето впервые, а потом в нем праздновали все свадьбы в Злочеве. Девушки несли плетеные свечи, освещая путь первой злочевской невесте.
И вот невеста уже стоит под балдахином и теребит бахрому на платье. А жениха все нет. Уже пропел свою песенку свадебный шут, уже музыканты сыграли приветственный марш, а жених не идет. Напрасно шамес и старосты со свечами обыскали всю синагогу, все уголки осмотрели – нет жениха! Наконец нашли: под креслом пророка Ильи спрятался. Выдал его длинный зеленый кафтан. Пришлось учителю выгонять его из-под кресла палкой: «А ну, жених, ступай под балдахин!»
Что было сил упирался мальчик новыми сапожками, не хотел вылезать из-под кресла, пока отец не вытащил его за пейсы.
А друзья смеялись над ним, и показывали язык, и уже распевали сочиненную кем-то песенку:
Все на свадьбу идут,
Все танцуют и поют,
Только Шлоймеле рыдает,
Почему – и сам не знает.
– Я жениться не хочу,
Вот и плачу и кричу!
Как ни упирался жених, отец все-таки притащил его за ухо. А чтобы он не сбежал из-под балдахина, пришлось отцу и учителю стоять у него по сторонам и держать за полы кафтана. Тогда обратил жених свой гнев на невесту, начал толкать ее в бок, пока невеста не угостила его полученными за свои волосы коржиками. Только тогда он согласился жениться…
А пение из новой синагоги летело вдаль, через широкие украинские степи, разнося добрую весть по лесам и полям. И каждое дерево шумело, каждая былинка шелестела в теплой весенней ночи: «Синагогу построили, свадьбу сыграли. Мир и благословение!»
Глава 5
Семья
Нельзя сказать, что молодая семья, Шлойме и Двойра, слишком хорошо жила после свадьбы. И, к стыду Шлоймеле, это была больше его вина. Ему уже почти исполнилось тринадцать, дело шло к бар-мицве,[18]18
Бар-мицва – совершеннолетие.
[Закрыть] он ходил в хедер, изучал Гемору[19]19
Гемора – одна из важнейших, наряду с Мишной, частей Талмуда.
[Закрыть] и чувствовал себя в море Талмуда как рыба в воде. Он уже знал все законы семейной жизни, записанные в брачном договоре, все обязанности жены перед мужем и мужа перед женой. Знал даже, как дать жене развод. И все же Шлоймеле, хоть и заглянул во все закоулки обоих миров, хоть и умел выстроить Вавилонскую башню комментариев, нередко получал в хедере хорошую порку. Учитель мало считался с тем, что Шлоймеле играет важную роль мужа, главы семьи. И муж зачастую вымещал свою обиду на чепчике жены. Сидит молодая жена на пороге корчмы, играет, делает куличики, а муж подходит, срывает с нее чепчик и насыпает в него целую горсть песку:
– Вот тебе, будешь знать, как надо мной смеяться!
– Тебя за это в аду огненными прутьями высекут! – кричит жена.
– Это на тебе грех, ты стоишь с непокрытой головой.
Обиженная женушка отвечает:
– Шлойме глупый, Шлойме злой,
Не хочу жить с тобой.
Идет, идет коза,
Выколет тебе глаза.
Шлойме глупый, Шлойме злой,
Будет Шлоймеле слепой!
Шлойме не хочет этого слышать, поворачивается к ней спиной. А жена закрывает ладошками глаза, чтобы не видеть мужа.
Все это происходит летним вечером в пятницу. Корчма полна народу, Мендл разрывается между мануфактурной лавкой и бочонками с водкой, Юхевед занята приготовлениями к субботе, а дети кричат у дверей. На крики выходит Маруся и, увидав, что Шлойме натворил с чепчиком, начинает его стыдить:
– Ах ты паршивец! Разве можно так с женой? Жену любить надо, а не сыпать ей песок на голову.
– Ха-ха, – отвечает молодой глава семьи и показывает ей язык, – ты, валаамова ослица, – не попадет твоя душа в рай, перейдет в собаку или в кошку. Ты не от праотца Яакова, ты от злодея Эсава.[20]20
Эсав считается прародителем христианских народов.
[Закрыть]
– Это ты от злодея Эсава, ты сам Эсав! – сердится христианка. – Что наделал, заставил жену стоять с непокрытыми волосами. Разве так можно? Поджарят тебя за это в аду, – заступается Маруся за Двойру.
Тут Шлоймеле вспоминает, что еще не получил свой положенный по пятницам кусок пирога. Он требует:
– Хватит уже! Дай лучше пирога.
– Скажи сперва благословение, тогда получишь, – отвечает казачка.
– Не твое дело! Я-то скажу. Давай сюда!
– Ты ведь злодей Эсав. А вдруг забудешь благословить Господа?
Шлоймеле ничего не остается, как принять это условие, хоть и досадно ему, что его наставляет христианка. Но пирог в руках казачки так вкусно пахнет, что у него слюнки бегут, и он произносит благословение.
За пирогом муж с женой помирились. Вскоре они уже тихо сидели на крыльце, угощая друг друга лакомыми кусочками. Но ягодным пирогом они наслаждались недолго. Из корчмы послышался голос Мендла:
– Шлойме! Шлойме!
На крыльце появилась Маруся:
– Иди, сорванец, отец зовет. Пойдешь, мужикам церковь откроешь.
Войдя в корчму, Шлойме видит: отца обступили крестьяне, и полуголый мужик – босой, в длинной рубахе, с непокрытой головой – держит на руках завернутого в тряпки ребенка и кланяется Мендлу в ноги:
– Отец родной, сжалься, дай ключ от церкви дитя покрестить. Четыре месяца ему, а еще святой водой не побрызгали. Помрет некрещеным, в ад попадет.
– А потом ваши ксендзу расскажут, что я дал ключ без выплаты. С меня кожу сдерут, было уже, когда Ефрем женился. Мало еврей страдает за свою веру, еще за чужую розги терпеть? Нет уж!
– Да чтоб мы все онемели, чтоб у нас языки отсохли, если хоть слово скажем, – просил полуголый мужик, не переставая отвешивать Мендлу поклоны. – Пожалей, отец родной, болен мальчик, помереть может. Попадет к черту в лапы, по ночам приходить будет, отца душить. Смилуйся!
– На, Шлойме, иди, открой мужикам церковь. – Мендл передал сыну ключ, висевший на гвозде вместе с ключами от подвала, где хранилась водка.
– Бог тебя не забудет, отец родной, Бог тебя вознаградит! – Крестьянин поцеловал сапог Мендла и с ребенком на руках направился вслед за Шлойме.
– Пойдем, батюшка, сделай святое дело, еврей ключи дал, – повернулся мужик к русскому попу, сидевшему на скамье у печи.
Но поп не двинулся с места. Широкой спиной подпер печь и остался сидеть, будто прирос к стене.
– Чего ждешь, батюшка? – спросил Мендл.
– Была в церкви капля святого вина, да выпили души православные. Не примет без вина Господь душу в христианскую веру, – ответил поп.
– Чего ж тебе надо?
– Поступи по-христиански, Мендель, не дай пропасть несчастной душе. Пожертвуй для церкви бутылочку вина. – Поп вытащил пустую бутыль из широкого кармана и протянул Мендлу. – Мы люди бедные, а Бог тебе заплатит.
– Что за напасть, опять он за свое! Никак от него не отделаться! Ксендз меня запорет до смерти, а у меня жена, ребенок. Не хочу я вам помогать, знать ничего не знаю. Хочешь ключ от церкви – на тебе ключ, мне он не нужен. Хочешь водки – на водки, на то и корчму держу, чтоб водку продавать. Но почему я помогать должен, зачем мне это? Ничего не знаю и знать не хочу. – Мендл наполнил бутыль и вытолкал попа на улицу.
Шлоймеле открыл попу церковь и отбежал, чтобы не коснуться стены. Он встал подальше, боясь оскверниться церковным пением. Но когда поповский бас все же настиг его на улице, он покрепче зажал уши ладонями, чтобы ничего не слышать, – а то способность учить Тору потеряешь.
Мендл, с узлом белья под мышкой, поджидал сына у дверей корчмы, и они отправились совершать омовение в честь субботы: шамес уже объявил на площади, что миква истоплена.
Домой вернулись очистившиеся, в свежих рубашках с широкими белыми воротниками, закрывавшими плечи. Корчму было не узнать, она преобразилась в тихую, спокойную обитель. Водочные бочонки накрыты, полки с тканями занавешены белыми простынями. Все чисто, убрано, готово к встрече субботы, – будто здесь никогда и не наливали водку, не вели торговлю. Семь кошерных свечей горят в огромном латунном подсвечнике, другие свечи приготовлены для благословения. Четыре халы – одна пара побольше для старшего хозяина, другая поменьше для молодого – лежат на столе с белой скатертью. Рядом два серебряных бокала.
Свекровь и невестка сидят за столом в длинных зеленых шелковых платьях, в новых остроконечных чепцах. Головы повязаны платками, на груди – подаренные мужьями украшения. Двойреле, как подобает молодой скромной жене, во всем подражает свекрови. Маруся, в честь субботы в новом переднике и головном платке, сидит на низенькой табуретке у печи и с гордостью смотрит на молодую хозяйку. Свекровь и невестка поют перед благословением свечей:
Прекрасную песню я сейчас спою,
Я буду петь в ней про радость свою,
Буду славить святую царицу, известную тут.
Субботой эту царицу зовут.
Свой свет на нас Всевышний прольет,
Пусть Он в мой дом царицу пришлет.
Чисто прибран мой дом в честь этой царицы.
Зачем ей на улице ждать и томиться?
Она скиталась целых шесть дней,
А мы в изгнании тоскуем по ней,
Из дома в дом, как голубка, летит царица Суббота,
Мы встречаем ее, оставив дела и заботы.
Когда Шлоймеле, готовый идти с отцом в синагогу, уже держал в руках молитвенник, послышался стук колес, и панская карета, запряженная четверкой лошадей, подкатила к корчме.
– Открывай, еврей, ясновельможный пан Домбровский приехал!
– Ой, ясновельможный пан Домбровский стучит в двери. Не могу, мой господин, суббота уже.
– Еврей, тридцать розог велю тебе всыпать, открывай быстро!
– Не могу, пан помещик, нельзя, мой господин, суббота у евреев.
– Да как ты смеешь, жид? Ясновельможный пан Домбровский желает пропустить стаканчик.
– Нельзя, милостивый пан, не могу, суббота.
– Так выстави кварту водки за дверь, во всем городе ни капли не сыщешь.
– Нельзя, мой господин, жена уже свечи зажгла.
– Проклятые евреи! Когда у них суббота, хоть вся Польша от жажды помирай… – донеслось из-за двери.







