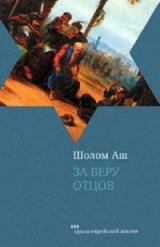
Текст книги "За веру отцов"
Автор книги: Шалом Аш
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Шолом Аш
За веру отцов
Мы стыдимся описывать все, что казаки и татары делали с евреями, ибо не хотим позорить род человеческий, созданный по подобию Господа.
Из одной старой книги
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава 1
Где-то в степи
Ничего не видно. Всю корчму заволокло дымом, который валит из дверцы только что растопленной печи. Из облака дыма доносится звонкий детский голосок, ему вторит, подгоняя, нетерпеливый голос мужчины:
– «Вайоймер» – «и обратился», «Ашем» – «Всевышний», «эл Мойше» – «к Мойше», «леймойр» – «так говоря».
Когда дым стал рассеиваться, из облака показалась огромная печь, а перед ней – что-то большое, бесформенное и темное. Как будто часть печи вдруг отделилась и пришла в движение, зашевелилась, превращаясь в человека с огромным животом и длинной рыжей бородой. Потом показался широкий длинный стол, уставленный разного размера бочонками с водкой. Повсюду лежали кипы тканей, на полке – свечи. За столом, раскачиваясь над раскрытой книгой, сидел еврей с завитыми пейсами, в изношенной ермолке, укутанный в какую-то женскую телогрейку, перевязанный платком и накидкой. Рядом на бочонке с водкой сидел мальчик, одетый во все белое: белый халатик, белую шапочку, белый талес-котн,[1]1
Ритуальное облачение, прямоугольная накидка с привязанными на углах кистями (цицис), которую носят под верхней одеждой.
[Закрыть] – и, как отец, раскачиваясь над Пятикнижием, повторял своим звонким голосом:
– «Вайоймер» – «и обратился», «Ашем» – «Всевышний», «эл Мойше» – «к Мойше», «леймойр» – «так говоря».
Но отцу с сыном не дали долго сидеть за столом. У печи снова зашевелилась огромная, темная, неуклюжая фигура. Теперь стало видно, что это здоровенный поп. Будто часть печи шагнула вперед, качаясь на двух ногах. Поп засунул кисти рук за свой широкий пояс, мотнув головой, так что высокая меховая шапка съехала на затылок. Пот струился по его низкому лбу, капли скатывались с волосатого носа и пропадали в бесконечной рыжей бороде. С минуту поп смотрел на еврея, потом заговорил:
– Менделю, Менделю, пожалей христианскую душу. Еще кружечку, прогнать сатану проклятого. Не дает мне жить, злодей, все требует. Я его напою и прогоню. Сжалься, Менделю!
– Ай, батюшка, батюшка, не напоишь ты сатану проклятого, не прогонишь. Чем больше будешь потакать его ненасытной глотке, тем больше он будет тебя мучить. Не корми его, он и зачахнет. Когда увидит сатана проклятый, что ничего от тебя не получит, он и уберется. К Степану придет, к Ивану придет, а тебя оставит.
– Это ты хорошо сказал, умно сказал. Ты мудрец, Мендель, я тебя послушаю, – ответил поп и вернулся на свое место, на деревянную скамью возле печи. Тихо сел, уткнулся головой в широкие ладони, затем рыжим веником бороды утер пот с лица.
– «Вайоймер» – «и обратился», «Мойше» – «Мойше», «эл бней Исруэл» – «к народу Израиля», «леймойр» – «так говоря», – снова начал еврей учить мальчика. Поп уловил слово «Мойше» и стал играть с ним, теребя длинную рыжую бороду.
– Мойше, Моисей, как же, мы его знаем. В святых книгах о нем написано. Он Бога видел, с Богом говорил, на гору Синай поднимался. Знаем о нем. Пастырь был своему стаду. Хороший пастырь, не то, что ты, Степан Кватков, – проклинал он себя. – Сатана поселился в твоем жирном брюхе и не дает тебе покоя, проклятый сукин сын. Ну, если ты не уберешься подобру-поздорову, я тебе покажу! На, вот тебе! – И поп начал обеими руками что было сил колотить в свой толстый живот.
– Батюшка, батюшка, ты что? Что с тобой? – закричал еврей. Его пейсы затряслись от испуга.
– Никак не уймется, сукин сын, – показал поп на живот. – Ну так я ему задам.
– Полегче, полегче, батюшка, – отозвался еврей и снова принялся учить сына.
Вскоре, однако, поп снова подошел к столу и смущенно обратился к еврею:
– Хорошо поддал ему, а он, сукин сын, все никак не успокоится. Знаешь что, Мендель, я с ним поступлю как добрый христианин. Он меня истязает, а я ему за это водочки дам. С христианской любовью подойду к нему, вот что я сделаю. Он испугается и убежит. Где сатана почует Христа, там он оставаться не может. Не дай душе пропасть, дорогой, помоги поступить по-христиански. Помоги, Менделю, изгнать нечистого из грешного живота!
Возражать против такого довода корчмарь не посмел, только горько вздохнул над еврейской копейкой, потерянной в противоборстве между сатаной и христианской любовью, куда его невольно втянули. Мендл нацедил попу большую чарку водки и еще сильнее принялся раскачиваться над Пятикнижием. А батюшка приступил к святой работе по изгнанию из своего толстого живота сатаны с помощью христианской любви и еврейского спирта.
* * *
Эту сцену между пастырем православного стада отцом Степаном и корчмарем Мендлом наблюдала зимним снежным вечером злочевская корчма. Злочев лежал в глубине подольских степей и принадлежал помещику Конецпольскому.
Мендл был единственный еврей, который отважился открыть корчму и взять в аренду православную церковь[2]2
Представление о том, что евреи брали в аренду церкви, не находит ни одного документального подтверждения.
[Закрыть] в далекой степной глуши, так близко к запорожцам, он даже наведывался в Сечь, на тот берег Днепра, где вольные казаки собирались на совет, чтобы выбрать гетмана или решить, а не повоевать ли с турками. Мендл привозил казакам замшу, которую покупал у еврейских кожевников из Волыни, выделанные овечьи шкуры, льняные платки, крашенину, чистую водку и испеченные женой медовые пряники: казаки до них были большими охотниками.
Бывало, он возвращался из Сечи с наполовину выдранной бородой и пейсами, но всегда с мешочком, туго набитым польскими злотыми и турецким серебром. Свой товар он также менял на татарские ковры и казацкие меховые бурки, на турецкие ружья и сабли с точеными рукоятками из слоновой кости, усыпанными восточными самоцветами. Эти казацкие и татарские товары Мендл возил на ярмарку в Чигирин или в Лубны, где жил князь Вишневецкий, благоволивший к евреям. В его владениях евреи могли осесть и свободно вести торговлю.
Мендл неплохо ладил со своими соседями, казаками. При корчме он держал небольшую лавку, и торговля приносила приличный доход. Но Мендл тосковал. Он не мог жить без евреев. А евреи не хотели селиться в Злочеве. Нечистое место… Здесь не было ни синагоги, ни еврейского кладбища. Сколько Мендл ни старался получить у помещика разрешение на постройку синагоги, все попусту. Иезуит Козловский, приехавший в Чигирин с миссией обратить казаков в католичество, ни за что не хотел давать разрешения на синагогу в Злочеве. Вдруг евреи, не дай бог, отговорят казаков менять веру! А чтобы унизить православие в глазах казаков, он вынудил корчмаря взять церковь в аренду. Пусть казаки ходят за ключом от своей церкви в еврейскую корчму.
Мендл старался держаться еврейских обычаев и среди казаков, в одинокой, затерянной в степи корчме. На праздники он ездил в Чигирин и там погружался в еврейскую жизнь.
Шесть лет Юхевед, жена Мендла, не могла забеременеть, и вот вымолили у Всевышнего единственного сына, Шлойме. Мальчику, которого одевали во все белое, чтобы уберечь от разных напастей, уже исполнилось шесть, а ни один меламед[3]3
Учитель, преподающий детям основы иудаизма.
[Закрыть] до сих пор не заглянул в корчму. Мендл как мог учил сына, но он и сам знал не так уж много. Бывало, возникнет вопрос, а он не находит в книгах ответа. Жена перенимает у казачек их привычки и тоже не знает, что можно, а что нельзя. Поэтому Мендл уже не раз думал бросить корчму и перебраться куда-нибудь к своим. Но жаль было потерять заработок. Вот он и учил Шлойме, сидя в корчме среди бочонков водки и пьяных гоев. Так было и на этот раз, когда отец Степан вмешался со своим сатаной. Мендл только и делал, что без конца повторял с сыном: «Вайоймер» – «и обратился», «Ашем» – «Всевышний», «эл Мойше» – «к Мойше», «леймойр» – «так говоря».
Похоже, сатана действительно испугался христианской любви. Когда отец Степан как следует набрался, он вдруг заговорил как трезвый человек. Внезапно он начал проклинать себя, стуча кулаком в грудь:
– Грешный ты человек, отец Степан. Господь доверил тебе своих овец, посох пастыря тебе вручил: паси их, когда они голодают, пои, когда жаждут. А ты что? Не накормил, когда голодали, не напоил, когда жаждали. Продал ты душу еврею за чарку горилки. Еврей сидит и молится своему Богу, а ты, батюшка, пьянствуешь. Это ты, еврей, все подстроил, я знаю. Меня напоил, а сам молишься.
– Батюшка, родной, да что ты? Что ты такое несешь? Сходи в церковь, батюшка. На вот тебе ключ иди и молись, сколько хочешь. Разве я тебя держу? Еврею радость видеть, как гои молятся, большая радость. На, бери ключ, иди в церковь.
– И ключи от святой церкви евреям отдали. Осквернили церковь, осквернили нашу веру. А ты, пастырь, сидишь и пьешь. Погодите, приедут скоро добры молодцы из степи. Примчатся хлопцы на быстрых конях. Приедут из-за Днепра, отомстят за поругание. Освободят народ от панов, церкви у жидов отберут, расквитаются за нашу веру!
– Да что же это? Замолчи! – еврей выскочил из-за стола и ладонью зажал Степану рот. – Молчи, стены услышат, ветер пану расскажет, с тебя живьем кожу сдерут. Тсс, тихо!
Он оглянулся, не услышал ли кто поповские слова, его пейсы тряслись от страха:
– Тсс, я тебе дам водки, сколько хочешь, на, пей! О Господи, сил моих нет. У меня в корчме ему это надо! За что мне такое наказание? На тебе еще, бесплатно, чтоб тебе пусто было. Пей, только молчи.
Напугать еврея добрыми молодцами из степи был лучший способ получить выпивку, не считая изгнания сатаны христианской любовью. Взяв еще одну чарку, к тому же налитую до самых краев, потому что еврей в спешке перехватил меру, поп успокоился, снова уселся на скамью возле печи и, теребя длинную рыжую бороду, начал отхлебывать водку. Еврей вернулся к столу, но заниматься с сыном больше не мог, только вздыхал:
– Господи, Господи, за что мне такое? Не беру церковь в аренду – ксендз бьет, беру – поп своими молодцами пугает. А синагогу построить не дают, и евреев тут нет, сына учить некому, растет без Торы. Бросить корчму, бежать из Злочева куда глаза глядят! Ни синагоги, ни евреев, одни попы пьяные!
– Не убегай, Менделю, не бросай нас, – вдруг отозвался поп, хотя, казалось, вовсе не прислушивался к словам еврея, – ты ведь нам как отец родной, а синагога у тебя будет. Приедут добры молодцы из степи, прилетят на быстрых конях. Панов вырежут, а тебе синагогу построят. Я за тебя словечко замолвлю.
– Да что такое, опять он со своими молодцами. Замолчи ты! – перепуганный Мендл снова выскочил из-за стола.
Кто знает, чем бы все это закончилось, если бы в трудную минуту на помощь Мендлу не пришла служившая у него старая, но крепкая еще казачка Маруся. Она появилась из заднего, жилого, помещения, отделенного от корчмы перегородкой. Маруся встала перед попом, уперев в бока толстые, сильные руки, обнаженные даже в зимний морозный день.
– Вижу, батюшка, надо тебе поддать как следует, – сказала старуха, – иначе ты не уймешься. Сатану своего ты напоил, а теперь какой бес в тебя вселился?
– Помоги, матушка, поступи, как добрая христианка. Я уже сам ему поддал, да не больно он меня боится. Проклятый сатана давно со мной запанибрата!
– Подожди, батюшка, подожди, я тебе помогу! – Маруся подошла к двери, взяла помойное ведро и вылила его на голову отца Степана.
– Ох, хорошо! – Поп даже слюну пустил от наслаждения.
– Ну что, батюшка, полегчало тебе? – спросила Маруся.
– Надо бы его еще маленько поколотить, тогда он совсем успокоится.
– Ладно, батюшка, надо так надо, – и старая Маруся большими, мясистыми руками что было сил пихнула попа в живот.
– Полегче, полегче, – наблюдая за ними издали, махал руками Мендл.
Глава 2
Потерянный день
Смеркалось. Снег под окном стал красноватым, потом фиолетовым. Ветер, прилетавший из степи, стучался в стены, и казалось, если его не впустят, он сорвет с дома соломенную крышу. В корчме было уже совсем темно. Поп, после того как Маруся изгнала из него беса, упал на скамью возле печи и заснул. Его храп, как звук пастушьего рожка, разносился по всему дому.
Из-за перегородки появилась корчмарка, Юхевед. Она держала горящую лучину, освещавшую ее молодое, свежее лицо и многочисленные чепчики и шали, в которые она была закутана. Юхевед подошла к печи и зажгла фитиль, торчащий из сосуда с воском. Потом вытащила корыто и принялась сыпать в него муку.
– Что ты делаешь, Юхевед? – спросил Мендл.
– Надо тесто замесить для халы. Печка уже нагрелась.
– Что это ты затеяла халы посреди недели?
– Как же так, Мендл, ведь уже четверг, – ответила удивленная жена.
– Да нет, ты ошибаешься. Еще только среда, ты что, Юхевед, уже не знаешь? – закричал муж. – Юхевед, мы здесь в пустыне, ни одного еврея вокруг, и ты потеряла день, Юхевед!
Смущенная жена замерла с лучиной в руке и сказала умоляющим голосом:
– Не ругай меня, Мендл, посмотри лучше в календарь. Уже четверг, Мендл!
Мендл вздохнул и подошел к огромной таблице на стене. Это был календарь, который Ваад четырех земель[4]4
Ваад четырех земель – центральный орган еврейского самоуправления, объединявший представителей Великой Польши, Малой Польши, Червонной Руси и Волыни (вторая половина XVI в. – 1764 г.).
[Закрыть] печатал в Люблине для корчмарей, живших в забытых Богом уголках, вдали от еврейских общин. Календарь был исчеркан вдоль и поперек, пестрел воткнутыми на память щепочками. Долго, долго вглядывался в него Мендл, потом спросил жену:
– Юхевед, что у нас было позавчера? Понедельник или вторник?
– Ой, Мендл, Мендл, ты не знаешь, какой день был позавчера? Если ты не знаешь, откуда же знать мне, грешной женщине?
Мендл снова принялся изучать календарь, а Юхевед стояла в холодном поту. Ее муж потерял день! Она так испугалась, будто оказалась одна в ночной степи.
– Мендл, что же нам делать? Как еврей может забыть день недели, Мендл?
– Что ты кричишь? – вмешалась Маруся. Казачка Маруся, пару лет прослужив у Мендла и Юхевед, поднаторела в еврейских законах и обычаях, так что следить за их соблюдением стало ее обязанностью. Со своим воспитанником, единственным сыном Мендла Шлоймеле, она читала по утрам «Мойде ани», а перед сном «Шма Исроэл».[5]5
«Мойде ани», «Шма Исроэл» – названия молитв.
[Закрыть] Она напоминала ему, что за едой надо произносить благословения. Она должна была также отслеживать дни недели, чтобы хозяева знали, когда готовиться к субботе.
Сейчас она вбежала на их крики. Узнав, что они заблудились в календаре и гадают, когда суббота, Маруся от страха не решалась и слова сказать, хотя прекрасно помнила, что позавчера был понедельник.
– Откуда же мне знать? Панове, я ведь не еврейка даже. Может, понедельник, может, вторник. Господи, Господи…
Мендл и Юхевед с ужасом смотрели друг на друга. Вдруг все разом закричали: муж, жена и служанка. Глядя на взрослых, закричал и ребенок. Их вопли разбудили спящего батюшку. Поп несколько раз зевнул и удивленно вытаращил глаза.
– Батюшка, родной, выручай! – кинулся к нему Мендл. – Не знаешь, что было позавчера, понедельник или вторник?
– Понедельник или вторник? Позавчера? Погоди, дай подумать, – батюшка закатал рукав и стал считать по пальцам. – Святой Георгий всегда выпадает на четверг. Это первый день через две недели после святого Павла, когда первый снег выпал. Мы тогда в церкви молились за святого Антона.
– Мендл, Мендл, поп теперь твой ребе,[6]6
Учитель, духовный наставник.
[Закрыть] – расплакалась жена.
Мендл снова углубился в календарь, но все напрасно. Чтобы определить, среда сегодня или четверг, надо знать, что было позавчера: понедельник или вторник, а этого не знала ни одна живая душа в Злочеве.
На минуту дом замер. Все стояли, боясь пошевелиться, будто ждали, что вот-вот наступит конец света. Но вдруг со стуком распахнулась дверь, и вместе с ледяным ветром в корчму ввалилось что-то небольшое, сплошь облепленное снегом, закутанное в бурку, женские платки и мужские накидки. Лица видно не было, но по голосу, идущему от снежного кома, стало ясно, что это человек.
– Слава Богу! Здесь ведь живут евреи? – спросил голос.
– Евреи, евреи, – радостно отозвались муж, жена, служанка и даже поп, окружая низенького, засыпанного снегом гостя.
Снежный человечек по очереди сбросил на пол накидки, платки, бурку и задвинул одежду ногой в угол. Перед хозяевами стоял невысокий мужчина, с седой бородкой, белыми как снег волосами, ясными, детскими глазами и детской, но грустной улыбкой на добром лице. Он протянул Мендлу руку:
– Слава Богу, наконец-то нашел своих. Здравствуйте!
– Идите к печке, грейтесь, – пригласила корчмарка.
Человечек подошел к печке, обнял ее, как милого старого друга.
– Далеко же занесло еврея, в самую степь, – сказал он. – Где только, Господи, Твой народ Тебя не ищет, даже в степи, Отец наш небесный!
– Откуда вы, как попали в наши места? – опомнился Мендл.
– А вот как. Я сам портной, всего лишь портной, но здешние арендаторы меня, слава Богу, знают. Детишкам, чтоб они были здоровы, шью одежонку, молодым к свадьбе – все шью, что евреям надо. Услышал в Корсуне, что в Злочеве появился еврей-корчмарь, вот и подумал: сходить, что ли, разузнать, как он там один в степи, может, ему что пошить надо или детей поучить Торе. Я, слава Богу, еще и меламед.
– Это вас нам Бог послал! Мы ведь день потеряли. Живешь тут среди гоев, как в пустыне, забыли, что сегодня, – вмешалась жена. – Не знаете, уважаемый, какой сегодня день?
– День потеряли?! Даже в пустыне еврей должен знать, какой сегодня день, когда тесто замешивать для субботней халы. Смотри, Господи, как верен Тебе Твой народ, даже здесь, в диких степях! Даже среди гоев Тебя не забывают, соблюдают святую субботу. Это большая беда, потерять день. Ну ничего, я вас научу. Дайте-ка только взглянуть на мои узелки. – И еврей снял завязку с мешка. – Бывает, и забудешь, что сегодня, так вот смотрите. Каждый день завязываю узелок на веревке. Мои узелки говорят, что сегодня четвертый день после субботы, среда, значит. А вам я дам такой совет: дни считать дровами, так все арендаторы делают. В воскресенье положили на печку одно полено, в понедельник – второе, во вторник – третье. А когда на печи семь поленьев, значит, пришла святая суббота. Это жена делает, – повернулся он к Юхевед, – на мужчину тут полагаться нельзя.
– Спасибо вам за совет, – ответил Мендл за смущенную жену. – Поставь-ка суп, Юхевед.
Затем снова обратился к гостю:
– А мы, пока жена управляется с готовкой, прочитаем вечернюю молитву. Уже пора.
И корчма превратилась в синагогу. В одном углу стояли отец с сыном, в другом гость, и все читали «Шмойне эсре».[7]7
Буквально «Восемнадцать <благословений>», одна из важнейших молитв.
[Закрыть] А из печи доносился аромат крупяного супа с луком, дразнил отца Степана. Огромными ноздрями втягивал он запах крупы и разварившихся луковиц, то и дело глотал слюнки, облизывался, чмокал губами. Поп знал, однако, что надеяться на угощение нечего, и ему стало грустно. Он потерся спиной о печь, облизал губы, как кошка, и тихо произнес с большой жалостью к себе:
– Господи, Господи, жиды поганые едят крупник с луком, а праведная христианская душа страдает от голода. Сжалься, Господи.
Мендл не обращал внимания на разгоряченного краснорожего попа. Он пригласил гостя в жилое помещение, а в корчме оставил Марусю, чтобы она охраняла бочонки с водкой. Поп горько вздохнул, посмотрев на крепкую казачку с закатанными рукавами. Последняя надежда покинула его, и он силился настроиться на благочестивые размышления.
За едой, в комнате, наполненной паром из глиняного горшка с крупником, который стоял посреди стола, гость решил проэкзаменовать мальчика.
Ущипнув Шлоймеле за щечку, он спросил:
– Ну, малыш, что ты сейчас учишь?
– Шесть лет уже, чтоб не сглазить, – ответил за мальчика отец, – а только Пятикнижие начали. Трудно быть евреем в этой степи.
– Бог вас вознаградит, – утешил его гость. – Вы еще удостоитесь увидеть в Злочеве настоящую еврейскую общину, и вы же будете ее главой.
Мендл задумался.
– И синагога здесь нужна, – добавил гость. – Широкая, бескрайняя степь, и ни одной синагоги. Но, если Всевышний хочет, чтобы Его народ Ему молился, придется помещику дать разрешение на строительство. Разрешит, с неба его заставят. Как он сможет не разрешить?
Глава 3
Будет синагога!
Граф Конецпольский приехал в Злочев на охоту. И в охотничьем замке давал бал. Злочевский управляющий послал Мендла в Немиров привезти оттуда еврейскую капеллу, а также закупить перчатки, чтобы потом продавать их гостям. Вельможным нужны перчатки, чтобы танцевать с паннами.
Охотничий замок с высокими готическими башнями был ярко освещен множеством свечей в кованых подсвечниках. Паны в кунтушах[8]8
Одежда польского дворянства, род кафтана.
[Закрыть] с воротниками, покрывавшими плечи, в широкополых гусарских шляпах, с огромными павлиньими перьями в руках приглашали на мазурку дам, одетых в белые атласные платья, по-королевски украшенные горностаевым мехом. Еврейские скрипки выводили, тянули мелодию, нежно, сладко позванивали цимбалы немировской капеллы. Ясновельможные паны бряцали в такт музыке острыми бронзовыми шпорами. Панночки постукивали золотыми каблучками меховых сапожек. А Мендл с выглаженными перчатками метался от одного вельможного к другому и предлагал:
– Прошу вас, перчатки для танца с прекрасной панной.
После каждого танца вельможные бросали перчатки и хватали у Мендла свежую пару. Не пристало танцевать с другой дамой в тех же перчатках. Шлоймеле, сын Мендла, с развевающимися пейсами шнырял под ногами вельможных, подбирал брошенные перчатки и относил отцу. А отец клал их в деревянный пресс, разглаживал и снова подбегал к вельможным:
– Поменяйте перчатки, панове, угодите дамам, поменяйте перчатки. Негоже танцевать с ясными паннами в несвежих перчатках, панове!
Мендл не знал ни минуты покоя. Он не продавал новые перчатки, а разглаживал прессом старые, бормоча под нос псалмы, которые помнил наизусть, и время от времени со вздохом вставляя: «Веселятся гои, Отец наш небесный, мою лихорадку им в бок, моей жены родовые муки, моего ребенка зубную боль, корь и скарлатину. Только жрать бы им да пить, служат деревянному идолу, а синагогу, святую синагогу построить не дают. Наверно, пришло уже Тебе время восстановить святой Храм. Да нет, видно, рано еще. Что ж, пусть будет, как Ты хочешь, Отец наш небесный!»
– Эй, жид, что ты там лопочешь свои бесовские молитвы? Хочешь на нас чертей напустить? Перчатки для мазурки с прекрасной белой голубкой, злочевской паненкой, госпожой Зофьей! Да смотри, не разглаженные, которые твой щенок подобрал с пола, из-под ног благородных шляхтичей. Чистые давай, новые, поддерживать прекрасный стан моей голубки, моего ангела!
– Что говорит ясновельможный! Как же я могу осмелиться обмануть такого благородного шляхтича, как ты? Я еще твоего родителя знал, старого пана. Ой, добрый был шляхтич, кейн йойвди кул уршуим…[9]9
Чтоб он сгинул, как все злодеи (древнееврейск.).
[Закрыть]
– Ты что, жид, вздумал проклинать моего покойного отца на своем бесовском языке? Смотри, велю с тебя живьем кожу содрать!
– Я на нашем святом языке благословил твоего отца, пусть он пребывает в раю по воле Божьей.
– Ты не благословляй и не проклинай, еврейчик. Береги свою шкуру, а не то прятаться тебе у жены под юбкой, когда я на тебя собак спущу.
Живей, еврейчик, поторапливайся. Ноги не могут устоять на месте, так и тянет танцевать!
– Еще минутку, вельможный, пусть еще немного полежат под прессом. Чем дольше перчатки лежат под прессом, тем чище, тем благороднее они становятся. Точь-в-точь как люди, вельможный, точь-в-точь как мы, евреи.
Тут подошел злочевский помещик, хорунжий Конецпольский, высокий, крепкий как дуб, сильный, широкоплечий. В черном атласном кафтане до пят он казался еще крепче, будто вырезанный из цельного куска дерева. На плечах возвышалась, как башня, наполовину выбритая голова с острой макушкой. Виски и лоб были выбриты, но длинные, как у гигантского сома, усы тянулись от уха до уха.
– Жидку, повесели-ка моих гостей песней, как у вас поют. Хорошо споешь, можешь просить у меня что захочешь. Понял?
– Понял, ясновельможный.
Еврей быстро подозвал Шлоймеле, который все собирал разбросанные под ногами помещиков перчатки. Отец пригладил сыну пейсы, поставил мальчика рядом. Помещики и помещицы обступили их, в зале стало тихо, музыка смолкла. Только потрескивали фитили горящих свечей. Из углов, из соседних комнат доносились оживленные голоса и смех сияющих белокурых дам и влюбленных кавалеров.
Долго, долго длилось приготовление. Вдруг еврей совершенно преобразился. Он закрыл глаза, лицо его налилось краской. Казалось, он пытается уйти в какой-то другой мир. И это ему удалось. Еврей нажал себе пальцем на горло и вдруг запел. Сначала негромко, будто для себя самого, но вскоре его голос приобрел силу, зазвучал дерзко и уверенно. Еврей забыл, где он. Только что смеялись помещики, но теперь затихли. Казалось, еврей – единственный хозяин огромных залов. Он не видел вокруг себя помещиков с паннами, не видел блеска атласа и мехов. Никого нет, только он один со своей суженой. И суженая его, которой он возносит хвалу, – не человеческое, но высшее, духовное существо. Святую субботу он воспевает, поет о своих надеждах и горестях: «Жену столь совершенную кто найдет!»
Не земной женщине пел он серенаду, он воспевал небесную возлюбленную, воспевал бесконечное счастье, которое она дарит, стоит лишь о ней подумать, воспевал святость и чистоту, которыми ее сущность наделяет и освящает каждого, кто помнит о ней, кто ее любит. О своей невесте, субботе, о единственной на тысячи лет невесте пел он и о вечной, великой любви, которую хранил и будет хранить его народ от праотцев до последнего поколения. Все беды, все испытания, через которые он ради нее прошел, исчезли, растворились в святости и величии. И всю его проклятую, собачью жизнь превращает эта любовь в великое, неземное счастье. Что эти шляхтичи и панны с их ничего не стоящим богатством, с их жалкими, убогими земными радостями, с их человеческой, минутной властью против вечности и любви к святой невесте!
Смущенные, онемели помещики перед богатырем, стоявшим среди них и певшим гимн святой любви.
– Услужил ты мне, хорошо спел! Гости довольны, еврейчик. Проси чего хочешь, все тебе дам. Только не раздумывай слишком долго. Я не так боюсь твоего аппетита, как твоей хитрости, – смеялся пан.
– Ясновельможный! – Еврей упал к ногам помещика. – Синагогу и кладбище! Синагогу, чтобы молиться, и кладбище – наших покойников хоронить. Разреши в Злочеве синагогу и кладбище!
Помещик на минуту задумался. Он вспомнил о жемчужине, которую когда-то преподнес ему Зхарья, глава общины Чигирина. Была бы в Злочеве еврейская община, платили бы налоги. Но что скажут Бог и ксендз Козловский? Вдруг его осенило, как сделать, чтобы и налоги собирать, и Бог был доволен:
– Если поклонишься Господу нашему Иисусу Христу и трижды благословишь святую Марию, все разрешу и под кладбище дам хорошее место.
Еврей стоял окаменев и молчал.
– Ну, еврейчик, по рукам? Ладно, скажи только: «Мария, Матка Боска, хвала тебе на веки веков, аминь!»
Еврей молчал.
– Ну, поклонись ей, и все.
Еврей не шелохнулся.
– Тогда медведя сыграешь.
Еврей от испуга побледнел и забормотал:
– Ясновельможный, я всего лишь бедный человек, сжалься над моей женой, над моим ребенком. Проси, Шлоймеле, сынок, проси шляхтича. Сжалься, ясновельможный, я всегда тебе верно служить буду.
И отец с сыном упали к ногам помещика, целовали сапоги, бились лбами о пол.
– Сжалься над моей женой, над моим сыном.
– Или благословить святую Марию, или медведя играть.
Еврей медлил. Он совсем побледнел и все повторял отрывки псалмов и молитв, продолжая целовать полу помещичьего кафтана. И вдруг глаза его просветлели. Руки и ноги еще дрожали, но лицо уже сияло спокойствием.
– Ради синагоги, ясновельможный. Бог поможет, поступай как хочешь.
Помещик кивнул, двое слуг схватили еврея и напялили на него медвежью шкуру. Помещик велел музыкантам играть, а слуги длинными кнутами принялись стегать «медведя». «Медведь» прыгал с места на место и рычал: «Р-р-р-р!»
Паны смеялись, толпились вокруг, толкали друг друга к «медведю», а слуги гоняли его кнутами из угла в угол. Еврей, одетый в медвежью шкуру, бормотал: «Бог – свет мой, помощь моя. Перед кем мне дрожать?»
– Рррр! – прыгал он по залу на четвереньках. – «Бог – ограда моей жизни. Кого мне бояться?»[10]10
Псалмы, 27:1.
[Закрыть]
– Хорошо сыграл медведя, еврейчик. Будет тебе синагога. А за кладбище придется еще послужить.
Мендл, путаясь в талесе, что было мочи несся домой из замка, мальчик с развевающимися пейсами едва поспевал за отцом, и оба кричали во весь голос, чтобы скорее сообщить маме радостную весть: «Синагога! Будет синагога!»







