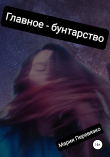Текст книги "Мать Мария"
Автор книги: Сергий Гаккель
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Пусть отдам мою душу я каждому,
Тот, кто голоден, пусть будет есть,
Наг – одет, и напьется пусть жаждущий,
Пусть услышит неслышащий весть.
От небесного грома до шепота,
Учит всё – до копейки отдай.
Грузом тяжким священного опыта
Переполнен мой дух через край.
И забыла я, – есть ли средь множества
То, что всем именуется – я.
Только крылья, любовь и убожество,
И биение всебытия.
"Стихи" (1949)
Дом на улице Лурмель.
Наконец-то. Дверь скорей на ключ.
Как запущено хозяйство в доме.
В пыльных окнах еле бьется луч.
Мыши где-то возятся в соломе.
Вымету я сор из всех углов.
Добела отмою стол мочалой.
Соберу остатки дум и слов
И сожгу, чтоб пламя затрещало.
Будет дом, а не какой-то склеп,
Будет кров – не душная берлога.
На тарелке я нарежу хлеб,
В чаше растворю вина немного.
Сяду, лоб руками подперев...
(Вот заря за окнами погасла)...
Помню повесть про немудрых дев,
Как не стало в их лампадах масла.
Мутный день, потом закат, закат.
Ночь потом, – и тишина бормочет.
Холодом рассветным воздух сжат.
Тело сну противиться не хочет.
Только б не сковал мне волю сон...
Пахнет пол прохладной тишиною.
Еле видны рамы у окон,
Всё налито гулкой чернотою.
Дух, боренье в этот час усиль.
Тише. Стук. Кричит пред утром петел.
Маслом сыт в лампаде мой фитиль.
Гость вошел. За ним широкий ветер.
"Стихи" (1937)
Одно русское сказание особенно нравилось матери Марии. Оно касается хождения двух святых, Николая угодника и Кассиана римлянина, которые однажды вернулись на землю, чтобы посмотреть, как обстоят дела человеческие. Набрели они на мужика, телега которого глубоко увязла в грязи. Он попросил помочь ему. Касьян с сожалением отказался. Ведь ему скоро надо будет вернуться на небеса, и его одеяния должны сиять там незапятнанной белизной. В это время Никола молчал: он уже погрузился по колени в грязь и напрягал все силы, чтобы помочь мужику. Когда Бог узнал, почему у Касьяна одежда безупречно бела, а у Николы запачкана, Он сказал: "Тебя, Николае, народ дважды в год поминать будет, – а тебя, Кассиане, лишь раз в четыре года". Так, говорят, и получилось, что Кассианин день падает на 29 февраля.
Это сказание вполне в ее духе. Она не обращала внимания на свой внешний вид; ее подрясник часто носил следы той работы, которой она недавно занималась. А сколько у нее было "мужиков", завязших в трясине эмигрантской жизни, нуждающихся в ее помощи! Помощь же, как она писала, возможна "только в любви к этим потерявшимся и пьяненьким, помощь в отказе от своих белых одежд".
"Путь к Богу лежит через любовь к человеку, и другого пути нет, говорила она [...] – На Страшном суде меня не спросят, успешно ли я занималась аскетическими упражнениями и сколько я положила земных и поясных поклонов, а спросят: накормила ли я голодного, одела ли голого, посетила ли больного и заключенного в тюрьме. И только это спросят. О каждом нищем, голодном, заключенном Спаситель говорит "Я", "Я алкал и жаждал, Я был болен и томился в темнице". Подумайте только: между каждым несчастным и Собой Он ставит знак равенства. Я всегда это знала, но вот теперь это меня как-то пронзило. Это страшно".
Эта пронзившая ее мысль стала преобладать: постепенно (порой, бесцеремонно) она вытеснила созерцательно-уставное монашество – к глубокому удовлетворению ее друзей, Н.А. Бердяева (1874-1948) и Ф.Т. Пьянова (1889-1969), которые раньше опасались, что уставное монашество может лишь разочаровать или сковать ее. "Должен сознаться, что я не очень сочувствовал принятию ею монашества, – писал Бердяев. – Я думал, что это – не ее призвание, и что она встретит настолько большие трудности у церковной иерархии, что может быть, ввиду своего непокорного характера, принуждена будет покинуть монашество – что очень тяжело". По таким соображениям Бердяев вместе с Пьяновым вначале пытались отговорить ее от намерения стать монахиней: в виде протеста Пьянов даже не пришел на постриг. Потом, по словам Бердяева, "она переживала медовый месяц монашества. Но скоро [прибавил он с облегчением] обнаружилась ее свободолюбивая бунтарская природа".
С Бердяевым она не нуждалась в Рабиндранате Тагоре, которым (в чем нельзя сомневаться) она увлекалась в молодости, когда он впервые появился в русском переводе. Зато, как раз у Тагора можно найти одно стихотворение в прозе, которое отражает ее мысли и как будто указывает ей дорогу:
Оставь это моление и пение и перебирание четок!
Кому же ты поклоняешься в этом темном
уединенном углу храма,
где двери все закрыты?
Открой глаза и виждь: нет пред тобою Бога твоего!
Он там, где земледелец пашет землю,
где рабочий разбивает камни для дорог.
Он с ними, когда сияет солнце, когда дождь,
а риза его покрыта пылью.
Отложи мантию твою священную и спустись
на пыльную землю по подобию его!
Спасение? Где можно обрести спасение сие?
Наш владыка сам радостно возложил на себя узы твари:
он с нами связан навсегда.
Выйди из созерцания, отложи твои цветы и фимиам!
Разве беда, если одежда твоя будет ободранной и загрязненной?
Встреть его,
встань рядом с ним в труде,
в поте лица твоего.
Повернуться в таком смысле лицом к людям отнюдь не означало отвернуться от их Творца. Всё менее занимаясь "перебиранием четок", она всё же не теряла сознания вечных измерений ("биения всебытия"), как бы она ни трудилась в поте лица своего. А работы было вдоволь.
Наступил экономический кризис тридцатых годов. В одном авторитетном исследовании 1938 года было отмечено, что "ни одна европейская страна не может сравниться с Францией по количеству беженцев, для которых она предоставила постоянное убежище". Однако не все пользовались одинаковыми правами. Например, у многих не было постоянного местожительства. А оно как раз и считалось обязательным условием для тех, которые собирались подавать прошение о государственных пособиях для приобретения одежды, топлива или продовольствия: "положение беженца, лишенного постоянного местожительства, совершенно иное, и он должен обращаться за помощью к частным организациям".
Возможно, что мать Мария уже думала об образовании такой организации под своим руководством. Пока же она собиралась создать по крайней мере общежитие, которое могло бы быть законным местожительством, хотя бы для немногих. Но по ее представлениям, главным было не формальное исполнение каких-то бюрократических требований, а живой отклик на человеческие нужды: "Будет дом, а не какой-то склеп,/Будет кров – не душная берлога".
Первый ее дом (№ 9, вилла де Сакс, Париж VII) был снят, как почти все ее последующие учреждения, при полном отсутствии надежной финансовой поддержки. "Ничего... увидим, – говорила она. – Надо ходить по водам. Апостол Петр пошел и не утонул же. По бережку идти, конечно, верней, но можно до назначения не дойти". Эти же мысли она записала в записную книжку: "Есть два способа жить: совершенно законно и почтенно ходить по суше мерить, взвешивать, предвидеть. Но можно ходить по водам. Тогда нельзя мерить и предвидеть, а надо только всё время верить. Мгновение безверия – и начинаешь тонуть".
Но денег еще не было даже утром того самого дня, который был назначен для подписания контракта. Оставалась единственная надежда – срочное обращение к Митрополиту. О событиях этого дня она сразу же написала матери:
"Сегодня я подписала контракт на снятие дома, огромного и замечательного. Я до последней минуты не верила, что это возможно, волновалась невероятно; была масса самых диких трудностей, вплоть до того, что в последнюю минуту деньги оказались под сомнением. Теперь это всё позади (сегодня Митрополит дал мне пять тысяч, которые и уплачены хозяину), я могу уже ночевать дома [...]. У меня будет сейчас очень много работы, – но работы очень радостной, потому что это не фантазия уже, а настоящая и похожая на чудо реальность [...]. Какой замечательный человек Митрополит Евлогий. Совсем всё понимает, как никто на свете".
"Я могу уже ночевать дома": она в тот же день перекочевала в особняк, который отличался обилием возможностей и полным отсутствием какой бы то ни было мебели. Лишь заброшенное и одинокое фортепьяно стояло у входа, диковинное не только из-за своей фантастической неуместности, но также и из-за полного равнодушия новой хозяйки к музыке. Первые дни она спала на одеялах на полу. Подле нее стояла большая икона Покрова, осеняя ее сон. Груда телефонных справочников заменяла стул. Вначале не было ни электричества, ни газа.
Регулярный перезвон колоколов соседнего католического монастыря Бедных Кларисс, спокойное и размеренное движение монахинь в окнах их великолепной обители представляли любопытный контраст с ее собственным "юродским безобразием жизни".
Дом, однако, скоро был обставлен мебелью (на редкость разнообразной). Еще не успели его обставить, как он уже начал действовать – сразу же и процветать. Чтобы дать место большому количеству обитателей, мать Мария покинула собственную комнату и поселилась в закоулке за котлом центрального отопления. Она пригласила Микульского к себе в эту келию "посидеть на пепле": "Узкая железная кровать; дырка в полу заткнута сапогом – там живет крыса". По словам Манухиной, "ничего "своего" у нее не было, и иметь свое она не желала; именно то, что у нее нет ничего, даже своей комнаты, радовало ее". Об этой радости она писала:
Жить в клопиной нищенской каморке...
Что-то день грядущий принесет?
Нет, люблю я этот тихий гнет,
О, Христос, Твой грустный мир прогорклый.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Не внезапно, не в иные сроки,
А всё время, с горем пополам,
По моим по сумрачным углам
Виден мне простор иной, широкий.
Нищенство и пыль, и мелочь, мелочь,
И забота, так что нету сил...
Но не Ты ль мне руку укрепил?
Отвратил губительные стрелы?
Всё смешалось: радость и страданье,
Темнота и ширь, и верх и дно,
И над всем звенит, звенит одно
Ликованье.
Одна из комнат на втором этаже была превращена в домовую церковь, которую мать Мария сама расписала. Над северными и южными дверями в алтарь парили на голубом фоне белоснежные серафимы и херувимы; рядом и ниже были веселые узоры из цветов в современном русском стиле, напоминающем работы Гончаровой. Чашу подарила монахиня-нищенка, тоже мать Мария. "Вы ее, наверное, знаете, – рассказывала хозяйка нового общежития Мочульскому. – Она сидит у ворот церкви на рю Дарю и просит: "Помогите, родимые". И вот на свои нищенские гроши купила нам чашу.
Внизу находилась просторная столовая, где читались доклады и велись занятия, собирался, например, Кружок изучения России (КИР), на котором юные обитательницы читали друг другу "сухие, неинтересные сообщения о том, "сколько белок водится в Забайкалье"". Но мать Мария сумела оживить даже и такие заседания. Порой они заменялись собраниями религиозно-философского семинара, на которых выступали такие выдающиеся докладчики, как Бердяев и Булгаков. Остальные комнаты были заняты молодыми русскими пансионерками. "Стиль общежития – веселый, все шутят и смеются. Большая простота и добродушие". "У меня работы очень много и я устаю, – писала мать Мария, – но довольна всей своей затеей".
Не прошло и двух лет, как помещение эту "затею" уже не вмещало. Мать Мария переселилась в более просторное, но еще более заброшенное помещение, которое стояло пустым целые годы. Район, в котором оно находилось, имел совершенно иной облик. "Улица грязная, шумная, с кривыми тротуарами и разбитой мостовой, – отметила Манухина. – Как всё непохоже на чопорную авеню де Сакс, на особняк, спрятанный в кудрявой зелени палисадника!" Главное преимущество нового округа (пятнадцатого) было в том, что в нем проживало много русских. Новый адрес: рю де Лурмель, дом № 77. Плата за наем: двадцать пять тысяч франков в год.
"Денег никаких, риск огромный, – писал Мочульский, – но она не боится. "Вы думаете, что я бесстрашная. Нет, я просто знаю, что это нужно и что это будет. На Сакс я не могла развернуться. Я кормлю теперь двадцать пять голодающих, там я буду кормить сто. Я просто чувствую по временам, что Господь берет меня за шиворот и заставляет делать, что Он хочет. Так и теперь с этим домом. С трезвой точки зрения, это – безумие, но я знаю, что это будет. Будет и церковь, и столовая, и большое общежитие, и зал для лекций, и журнал. Со стороны я могу показаться авантюристкой. Пусть! Я не рассуждаю, а повинуюсь". В таком же духе она писала в одном стихотворении предыдущего года:
О, Боже, сжалься над Твоею дщерью!
Не дай над сердцем власти маловерью.
Ты мне велел: не думая, иду.
Во дворе находилась конюшня-гараж из кирпича. На снимке 1934 года показано, как ее загромождает объемистый грузовик. Мать Мария с помощниками освободила здание от стойл, которые напоминали о прежних временах, и переделала здание, а где нужно было и перестроила, в церковь. Малообещающее, заброшенное и замусоренное помещение преобразилось.
Некоторые иконы писались монахиней Иоанной (Рейтлингер), некоторые были пожертвованы. Остальные писались (и вышивкой украшались) самой матерью Марией. Вышивкой она также украсила стены. Наверху вдоль правой стены тянулась "житийная" вышивка, посвященная царю Давиду; над царскими вратами позднее висела замечательная Тайная Вечеря, вышитая (как всегда, без предварительных рисунков) в тяжелые годы 1940-1941. Облачения тоже были ее работы. Окна она расписала растительным узором. Храму суждено было прослужить более тридцати лет.
С улицы обветшалый дом освещался газовым фонарем: фонарный столб №559 пятнадцатого парижского округа стоял у самого входа. Штукатурка на стенах, которая своими классическими пилястрами напоминала о более богатом прошлом, облупилась. Снаружи дом не отличался от соседних. Однако почти все соседние дома казались неприветливыми для посторонних, в то время как дом №77 на улице Лурмель теперь оказывал каждому пришельцу радушный прием, который мог избавить от уныния, порой от гибели, беженцев, находившихся "в наихудших условиях для борьбы за существование":
"В доме просторно, но пыльновато, грязновато, убого, невзрачно, но всё искупает теплое чувство укрытости, упрятанности, приятной скученности в спасительном Ноевом ковчеге, которому не страшны волны грозной житейской стихии: с ужасом просроченной квартирной платы, безденежья или уныния безработицы; тут можно переждать, передохнуть, как-то временно отсидеться, пока не станешь на ноги".
Лурмель стал и до конца остался центром деятельности матери Марии. Постепенно к лурмельскому дому прибавлялись другие учреждения, не все одинакового типа и не все одинаково удачные. На улице Франсуа Жерар в шестнадцатом округе был найден большой дом (№43), который предназначали для семейных; на авеню Феликс Фор (№74) в пятнадцатом округе был открыт дом для мужчин (менее просторный); за Парижем в Нуази-ле-Гран приобрели и приспособили усадьбу, первоначальное назначение которой было служить санаторием для туберкулезных.
На Лурмеле находились общежитие и, независимо от него, столовая, цель которых была сформулирована в сухом сообщении в "Вестнике" РСХД в начале 1937 года:
"Цель женского общежития дать возможность малоимущим людям за минимальную плату иметь полный пансион. В общежитии сейчас живет 25 человек, из которых часть оплачивает свое существование, часть не имеет возможности внести даже половинную сумму. Кроме того, в общежитии постоянно живет 7-8 человек персонала, оправдывающего свое существование тем или иным трудом [...].
При женском общежитии на 77, рю Лурмель, уже три года существует дешевая столовая, в которой выдается от 100 до 120 обедов в день. Стоимость обеда (суп и второе мясное) этой осенью была поднята с 1 с пол. до 2 франков. Столовая посещается главным образом получающими пособие безработными. Среди столующихся удалось наладить культурно-просветительную работу, в которой активное участие принимают сами посетители столовой".
Столовая, как отметил один журналист, "дешевая, почти бесплатная": несмотря на это, "всё приготовлено вкусно и чисто [...]: ничего похожего на обычные благотворительные или полублаготворительные "обжорки".
"К плоти брата своего у человека должно быть более внимательное отношение, чем к своей плоти", – писала мать Мария: она не жалела сил, чтобы обеспечить людей необходимым. "От книг бухгалтерских дух устает", начинается одно ее стихотворение 1935 года. Как ни опасалась она рутины, однако ежедневное раздобывание и приготовление пищи для столовой неизбежно отнимало значительную часть ее времени.
Еще со времени первого общежития она привыкла посещать центральный рынок Парижа ("чрево Парижа", по выражению Золя), чтобы рано утром, еще до рассвета, когда оптовая торговля уже закончилась, наполнить объемистый свой мешок всякими остатками, которые распродавались или просто отдавались благотворительным организациям или нищим. На рынке мать Марию хорошо знали. В мешок сыпались кости, рыба, фрукты, овощи. "Стоило бы завести тачку и привлечь к этой работе кого-нибудь из безработных", – сказала она однажды: накануне рыба протекла и промочила ей спину ("я вся пропахла рыбой") – тачка предохраняла бы от таких неприятностей.
В этой бедно одетой монахине ("рукав пыльной рясы разорван, на ногах стоптанные мужские башмаки") трудно было узнать поэтессу, бестужевку, дворянку, которой в молодости никогда не приходилось ходить за такими покупками.
Кухня меньше обременяла, чем раздобывание провизии. До своего отъезда в СССР, Гаяна заведовала кухней общежития и столовой. Но потом случилось, что заместительницу нельзя было найти. Раз летом ("в африканско-знойный день") Манухина застала мать Марию "у раскаленной плиты, в пару, в чаду над огромным котлом с кипящими щами", простоволосой, растрепанной, босой: "Уж скоро полгода, как я из кухни не выхожу. С кухаркой пошли недоразумения, я и решила: возьмусь за дело сама. Вот я на всю братию и стряпаю".
Когда кухонные дела не так ее связывали, ее комнатушка под черной лестницей служила приемной для посетителей. Чтобы туда попасть, надо было пройти по белому с черным мраморному полу передней и следовать по бежевым и коричневым керамическим плиткам в темный коридор по дороге в кухню.
"Комната, в которой живет мать Мария, – под лестницей, между кухней и прихожей, – писал Мочульский. – В ней большой стол, заваленный рукописями, письмами, счетами и множеством самых неожиданных предметов. На нем стоит корзинка с разноцветными мотками шерсти, "боль" [объемистая чашка] с недопитым холодным чаем. В углу – темная икона. На стене над диваном большой портрет Гаяны [...]. Комната не отапливается. Дверь всегда открыта. Иногда мать не выдерживает, запирает дверь на ключ, падает в кресло и говорит: "Больше не могу так, ничего не соображаю, устала, устала. Сегодня было около сорока человек, и каждый со своим горем, со своей нуждой. Не могу же я их прогонять". Но запирание на ключ не помогает. Начинается непрерывный стук в дверь. Мать отворяет и говорит мне: "Видите, так я живу".
Недаром это прибежище для шатающихся получило от Булгакова прозвище: "Шаталова пустынь".
Посетители являлись в течение целого дня и до самого позднего вечера; некоторые оставались и на ночь.
Скоропостижно скончался один шофер: его вдове негде было жить. Она явилась на Лурмель. Свободной кровати не оказалось. Мать Мария делила с ней собственную, "ночи напролет с ней говорила, успокаивала". Такие ночи ее не истощали. Наоборот: "Мне сейчас удивительно хорошо. Не чувствую себя большая легкость. Хорошо бы отдать себя совсем, чтобы ничего не осталось. Счастливых людей нет, – все несчастные и всех жалко. О, как жалко!".
Энергию, которая в ней обнаруживалась в таких положениях, уподоблялась ею неразменному рублю: сколько ни старайся, всегда получаешь рубль сдачи. Более того (писала она), "мир думает, – если я отдал свою любовь, то на какое количество любви стал беднее, а уж если я отдал свою душу, то я окончательно разорился и нечего больше мне спасать. Но законы духовной жизни в этой области прямо противоположны законам материальным. По ним всё отданное духовное богатство не только, как неразменный рубль, возвращается дающему, но нарастает и крепнет. Кто дает, тот приобретает, кто нищает, тот богатеет".
Такое проявление энергии не нуждалось в похвалах. "Мне дана огромная сила (не моя), и она меня раздавляет":
Я только зов, я только меч в руке,
Я лишь волна в пылающей реке.
Но такая сила призывает и обязывает "собой тушить мирскую скорбь":
Постыло мне ненужное витийство.
Постыли мне слова и строчки книг,
Когда повсюду кажут мертвый лик
Отчаянье, тоска, самоубийство.
О, Боже, отчего нам так бездомно?
Зачем так много нищих и сирот?
Зачем блуждает Твой святой народ
В пустыне мира, вечной и огромной?
Я знаю только радости отдачи,
Чтобы собой тушить мирскую скорбь,
Чтобы огонь и вопль кровавых зорь
Потоплен в сострадательном был плаче.
"Мы не только верим в обетования блаженства, – писала она, – сейчас, сию минуту, среди унылого и отчаявшнгося мира, мы уже вкушаем это блаженство тогда, когда с Божьей помощью и по Божьему повелению отвергаемся от себя, когда имеем силу отдавать свою душу за ближних своих, когда в любви не ищем своего".
По мере того как расширялась ее деятельность, увеличивалась нужда в помощниках. Гаяна поддерживала ее до своего отъезда, потом сын Юра, когда он вырос. Их бабушка, Софья Борисовна Пиленко, с самого начала была старостой лурмельского прихода. Но такими семейными силами нельзя было, и не следовало, ограничиваться. Надо было надеяться на помощников и помощниц извне.
Одной из первых появилась монахиня Евдокия (Мещерякова) (1895-1977), которая прибыла из СССР в 1932 году. Вначале никто не знал об ее имени и чине, так как о тайном своем постриге в советских условиях (1927) она никому пока не говорила. Любопытно, что мать Мария, которая пригласила ее работать на вилле де Сакс, а вскоре и жить там, неоднократно уговаривала ее принять монашество. Только через некоторое время выяснилось, что уговаривать ее не приходится. В продолжение шести трудных лет она самоотверженно работала вместе с матерью Марией.
Сперва активное монашество матери Марии ее привлекало. Но всё же оно ее никогда вполне не удовлетворяло. Для нее необходимо было его восполнить, подкрепить и углубить молитвенной жизнью. В первом общежитии сравнительно мало времени уделялось молитве: одно время было решено молиться сообща утром и вечером, но богослужения совершались лишь изредка и нерегулярно. Назначение иеромонаха Льва (Жилле) постоянным священником Покровского храма на вилле де Сакс тем более обрадовало мать Евдокию. Настоятелем он не мог быть: у него был свой приход (французский православный), где он служил по праздникам и воскресеньям. Но когда он не был связан приходом, он совершал Божественную Литургию почти ежедневно, сначала на вилле де Сакс, а потом на улице Лурмель, где он и поселился во дворе в заброшенном сарае. Мать Евдокия была одной из тех, кто неизменно посещал эти службы, в то время как мать Мария, которая поздно ложилась спать и часто, когда надо было идти на центральный рынок, вставала задолго до рассвета, посещала эти богослужения значительно реже. Даже если она попадала на службу, ей часто не удавалось отстоять ее до конца, так как предстояла еще и "внехрамовая литургия", "литургия, проецируемая из церкви в мир", а если утро уйдет на службу, кто будет хлопотать об обеде, которого ждет так много людей? Случалось, что некоторые посетители храма делали замечания по поводу ее отсутствия в церкви, не понимая, что "в скучных, трудовых, подчас будничных аскетических правилах, касающихся нашего отношения к материальным нуждам ближнего, уже [или тоже] лежит залог возможного Богообщения, внутренней их духовности". Благочестие за счет такого рода Богообщения подчас в свою очередь раздражало мать Марию. Она с крайним неодобрением отнеслась к особому сбору, организованному матерью Евдокией среди молящихся, на приобретение дополнительных богослужебных книг: такого рода расходы она считала недопустимыми в дни безработицы и нужды. "Меня мучает, что даже среди самых близких чувствуется стена в основном, – писала она в записной книжке. Благочестие, благочестие, а где же любовь, двигающая горами? Чем дальше, тем более принимаю, что только она мера вещей. Всё остальное более или менее необходимая внешняя дисциплина".
Со временем становилось всё более и более очевидным, что мать Евдокия стремится к сосредоточенной монастырской жизни, которой ее лишила революция (крымский монастырь над Гурзуфом, где она приняла постриг, был закрыт в 1929 году), тогда как мать Мария считала, что та же революция, вызвав эмиграцию, тем самым дала эмигрантам небывалую свободу в области церковной жизни. Не воспользоваться этой свободой значило бы проявить безответственность и слепоту. "Наша Церковь никогда так не была свободна, – говорила она Мочульскому. – Такая свобода, что голова кружиться. Наша миссия показать, что свободная Церковь может творить чудеса. И если мы принесем в Россию наш новый дух – свободный, творческий, дерзновенный – наша миссия будет исполнена. Иначе мы погибнем бесславно". А в статье, которая вышла в 1939 году, она писала:
"Мы можем утверждать, что наша эмиграция религиозно оправдает себя лишь в том случае, если будет крепко стоять на почве подлинной духовной свободы, если не поддастся соблазнам современных идолопоклоннических религий, если пронесет через свои скитания незапятнанной веру в человека, в его богоподобие, в изначальную и ни с чем не сравнимую ценность человеческой личности. Мы знаем, как попиралась религиозная свобода в прошлом, и попиралась силами, внешними для христианства. Мы можем с почти полной уверенностью сказать, что в России при всех возможных режимах для религиозной свободы будут уготованы Соловки. И поэтому особенно мы склонны рассматривать, как нечто совершенно исключительное и провиденциальное, тот дар свободы, который мы имеем, и считаем, что он нам дороже всякого земного благополучия, всякой внешней признанности, всякой укорененности в жизни. И мы обязаны, во-первых, быть стойкими и мужественными в защите нашей христианской свободы как от нападок, совершаемых по злой воле, так и от нападок, совершаемых по неведенью. Во-вторых, мы обязаны быть достойными нашей свободы, то есть вместить в нее максимальное творческое напряжение, раскалить ее самым настоящим духовным горением и претворить в дело, в неустанное деланье любви".
С самого начала мать Евдокия уважала пылкость матери Марии, ее энергию и силу, ее художественные дарования. Но они были двумя совершенно разными натурами: тем труднее было сгладить их принципиальные расхождения. Причем, в этой "церковной богеме" (определение матери Евдокии) вопрос о старшинстве не только не был разрешен, но даже никогда не ставился: так или иначе, не было игуменьи, которая могла бы "авторитетно" разрешать проблемы. А ни одна из них не могла по-настоящему примириться с другой. "Я боялась матери Марии, я ее раздражала", – вспоминала мать Евдокия позже.
Прибытие в 1936 году архимандрита Киприана (Керна) (1899-1960) из Югославии и его назначение на Лурмель в качестве постоянного священника Покровского храма не только не разрешило, а скорее усложнило все эти проблемы. Митрополит Евлогий выписал его с надеждой, что этот "строгий инок", который по приглашению матери Марии поселился в ее общежитии, своим примером и назиданием внушит матери Марии "правильное понимание монашеского пути". Но от о. Киприана, с его уставным благочестием, бескомпромиссным подходом и трудным характером, меньше всего можно было ожидать того, что он настолько вникнет в самую сущность такой обители, что сумеет преобразить ее изнутри, а не просто откажется от всего уже созданного. "Наш новый священник очень славный человек, – писал молодой Юра Скобцов в одном письме 1936 года. – Он очень умный, но он слишком строг".
Естественно, что он считал себя вправе вести мать Евдокию по пути к традиционному монашеству. Зато труднее было оправдать бестактность, с которой он неоднократно (и, наконец, беспрестанно) бросал вызов матери Марии и подвергал сомнению самые основы ее деятельности.
Безусловно, не вся вина лежала на одном о. Киприане. В целом ряде случаев мать Мария сознательно стремилась ему перечить, как бы проявляя таким образом свою независимость от него и от традиции, которую он представлял. Он пробыл на Лурмеле около трех лет. Но это были годы взаимного непонимания, горького (хотя позже молчаливого) конфликта.
Особенно тягостными были трапезы. О. Киприан спускался к столу молча, молча ел и также безмолвно удалялся. Тем самым он выражал свое негодование против того, что и в постные дни монашествующим подавалась скоромная пища: его не могло удовлетворить объяснение матери Марии, что важнее, чем соблюдать пост, было дать бездомным посетителям столовой почувствовать, "что они разделяют еду с нами, монахинями, как наши гости", а не как пользующиеся благотворительностью. Нередко до самого позднего вечера его раздражали оживленные собрания в комнате матери Марии (он жил как раз над ней), и к нему вместе с табачным дымом проникал гул разговора, невольно связывавший его со светским миром, от которого он отталкивался. То, что участники этих собраний (среди них Н.А. Бердяев, К.В. Мочульский, Г.П. Федотов, И.И. Фондаминский) занимались самыми насущными и волнующими вопросами современности, его не утешало.
На мать Марию его присутствие действовало удручающе. В неизданном стихотворении 22 мая 1939 года она писала:
Три года гость. И вот уже три года
Хлеб режем мы от одного куска.
Глядим на те же дали небосвода.
Меж этажами лестница узка.
Над потолком моим шаги уже три года,
Три года в доме веет немота.
Не может быть решенья и исхода,
Одно решенье – ветер, пустота.
Какой-то паутиной, пылью, ложью
Покрыло всё, на всем тоски печать.
И думаю с отчаяньем и дрожью,
Что будем долго ни о чем молчать.
Чье это дело? Кто над нами шутит?
Иль искушает ненавистью Бог?
Бежать бы из дому от этой мирской жути,
И не могу я с места сдвинуть ног.
Бежать ли из дому? Уже в 1937 году она говорила Мочульскому о своем намерении передать дом остальным монахиням и отправиться "скитаться по Франции": "Теперь мне ясно: или христианство – огонь, или его нет. Мне хочется просто бродить по свету и взывать: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное". И принять всякое поношение и зол глагол". "Пусть мы призваны к духовной нищете, к юродству, к гонениям и поношениям [писала она], – мы знаем, что это единственное призвание, данное самим гонимым, поносимым, нищающим и умаляющимся Христом".