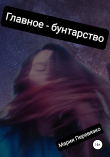Текст книги "Мать Мария"
Автор книги: Сергий Гаккель
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
Как выяснилось через несколько лет, ей предстояла казнь без всякого ритуала. Но в крематориях концлагеря Равенсбрюка ей действительно пришлось испытать "конец огнепальный".
После ее смерти ее мать писала о ранних стихах своей дочери: "Она с молодости была уверена, что ее ожидают мучения, мытарства, мучительная смерть и сожжение [...]. Лиза была юная и жизнерадостная, и мы не верили в ее предчувствия, а она твердо верила, но ни мучений, ни смерти не боялась".
На пути к монашеству.
В начале 1923 года в Париж прибыла семья эмигрантов. Мало кто заметил их приезд. Семья состояла из шести человек. Елизавета Юрьевна Скобцова (будущая монахиня Мария), София Борисовна Пиленко (ее мать), Даниил Ермолаевич Скобцов (ее муж), сын Юра и две дочери – Настя и Гаяна. Гаяна (старшая из детей) родилась еще в России, когда первый брак ее матери уже заканчивался разводом; младшая, Настя, родилась в Югославии накануне переезда в Париж.
Прибытие во Францию никак не означало ни конца бедственного положения семьи, ни избавления от изнурительной работы. Елизавета Юрьевна навсегда испортила свои и без того близорукие глаза, выполняя заказы (шитье, изготовление кукол). Положение несколько улучшилось, когда ее муж выдержал экзамен и стал шофером такси. Таким образом был обеспечен более регулярный заработок – от сорока до пятидесяти франков в день. Но финансовые заботы отошли на задний план, когда Настя тяжело заболела.
Сначала родители не понимали, что она серьезно больна. Им казалось, что она лишь очень медленно поправляется после гриппа, которым переболела вся семья в продолжение зимы 1925-1926 годов. Но вскоре состояние больной начало вызывать тревогу – тем более, что ни один из вызванных врачей не мог определить, почему она продолжает терять в весе и чахнуть. Только когда ее состояние стало уже критическим, нашелся молодой врач, который сразу поставил диагноз: менингит.
Настю поместили в знаменитый Пастеровский институт. По ходатайству вдовы И.И. Мечникова, матери дали особое разрешение находиться при больной и ухаживать за ней. В течение почти двух месяцев она присутствовала при медленном умирании своей дочери. Рисунки-портреты, которые Елизавета Юрьевна создавала, чтобы развлечь Настю, запечатлели это время. На них изображено худенькое лицо девочки в жару, неестественно спокойное: три из них помечены разными часами 7 марта 1926 года. Настя скончалась в тот же день.
Смерть ребенка оставляет неизгладимый след в душе матери. Но смерть Насти имела еще, сверх того, неожиданные последствия, намек на которые уже находится в записке, набросанной Елизаветой Юрьевной у смертного одра дочери.
"Сколько лет, – всегда, я не знала, что такое раскаянье, а сейчас ужасаюсь ничтожеству своему. Еще вчера говорила о покорности, всё считала властной обнять и покрыть собой, а сейчас знаю, что просто молиться-умолять я не смею, потому что просто ничтожна [...]. Рядом с Настей я чувствую, как всю жизнь душа по переулочкам бродила, и сейчас хочу настоящего и очищенного пути не во имя веры в жизнь, а чтобы оправдать, понять и принять смерть. И чтобы оправдывая и принимая, надо вечно помнить о своем ничтожестве. О чем и как ни думай, – большего не создать, чем три слова: "любите друг друга", только до конца и без исключения, и тогда всё оправдано и вся жизнь освещена, а иначе мерзость и тяжесть".
Плутание по переулочкам осуждается и отвергается. Перед ней открываются новые перспективы. Ей исполнилось тридцать четыре года. Жить оставалось девятнадцать лет.
Впоследствии Елизавета Юрьевна писала о похоронах вообще и различала два типа участников:
"Одни сдержанно сочувственны, корректны, будничны, – какое, мол, несчастье, кто мог думать, я его недавно видел, да как это случилось, а кто лечил и так далее, – чужие, одним словом. Другие, – тут вопрос не в несчастии даже, а в том, что вдруг открылись какие-то ворота в вечность, что вся природная жизнь затрепетала и рассыпалась, что законы вчерашнего дня отменились, увяли желания, смысл стал бессмыслицей и иной, непонятный смысл вырастил за спиной крылья [...]. В черный зев могилы летит всё: надежды, планы, привычки, расчеты, – а главное, смысл, смысл всей жизни. Если есть это, то всё надо пересмотреть, всё откинуть, всё увидеть в тленности и лжи.
Это называется "посетил Господь". Чем? Горем? Больше, чем горем, вдруг открыл истинную сущность вещей, – и увидели мы, с одной стороны, мертвый скелет живого, мертвый костяк, облеченный плотью [...], мертвенность всего творения, а с другой стороны, одновременно с этим увидали мы животворящий, огненный, всё пронизывающий и всё попаляющий и утешительный Дух.
Потом время, говорят, целитель, – а не вернее ли "умертвитель"? медленно сглаживает всё. Душа опять слепнет. Опять ворота вечности закрыты [...]. [Но] человек может каким-то приятием этих иных законов удержать себя в вечности. Совершенно не неизбежно вновь ниспадать в будни и в мирное устроение будничных дел, пусть они идут своим чередом, сквозь них может просвечивать вечность, если человек не испугается, не убежит сам от себя, не откажется от своей страшной, не только человеческой, но и Богочеловеческой судьбы. То есть от своей личной Голгофы, от своего личного крестоношения, вольной волею принятого.
[...] И думается мне: кто хоть раз почувствовал себя в этой вечности, кто хоть раз понял, по какому пути он идет, кто увидел Шествующего перед ним хоть раз, тому трудно свернуть с этого пути, тому покажутся все уюты непрочными, все богатства неценными, все спутники ненужными, если среди них не увидит он единого Спутника, несущего крест".
"Такого рода Посещение, – говорила она о собственном своем опыте, заражает душу, наполняет ее как поток, как пылающий очаг". Похожие мысли она выразила в стихах:
Всё еще думала я, что богата,
Думала я, что живому я мать.
Господи, Господи, близится плата,
И до конца надо мне обнищать.
Земные надежды, порывы, восторги
Всё, чем питаюсь и чем я сыта,
Из утомленного сердца исторгни,
Чтобы осталась одна маета.
Мысли мои так ничтожно-убоги,
Чувства – греховны и воля – слаба.
И средь земной многотрудной дороги
Я неключимая, Боже, раба.
Ей предстояло еще второе обнищание. Десять лет спустя, в июне 1936 года, последовала смерть старшей дочери, Гаяны: она умерла от тифа в возрасте двадцати трех лет. Сперва горе – и сомнения, вызванные этим, – ей казались едва выносимыми. В конце одного стихотворения, посвященного этой смерти, мать откровенно признавала:
Я заново не знаю и не верю,
Ослеплена я вновь.
Мучительным сомненьем только мерю
Твой горький путь, любовь.
"Я никогда не забуду той мучительной минуты, когда я принес ей весть о смерти Гаяны, – писал о. Лев (Жилле). – Без единого слова она кинулась бегом на улицу. Я боялся, что она намеревается броситься в Сену". Она вернулась только к вечеру – "удивительно умиротворенная".
Мать не могла быть ни на похоронах, ни хотя бы посещать могилу: Гаяна умерла в Москве по возвращении на родину, где (с помощью семейного друга Алексея Толстого) ей удалось устроиться годом раньше на постоянное жительство. В далеком Париже можно было только совершить парастас, который мать провела в сосредоточенной молитве, склонившись в земном поклоне. Присутствующие отметили ее особый духовный подъем, исполненный спокойствия. Видно было, что она еще борется с горем, но уже побеждает сомнения. "Очень было тяжело, – говорила она. – Черная ночь. Предельное духовное одиночество [...]. Всё было темно вокруг, и только где-то вдали – маленькая светлая точка. Теперь я знаю, что такое смерть".
Елизавета Юрьевна и Даниил Ермолаевич Скобцов познакомились и вскоре повенчались в необычных условиях гражданской войны. В то время они оба занимали ответственные административные посты. Он был активным членом новоучрежденного (и недолговечного) правительства Кубанского края; она заместительницей городского головы Анапы. Теперь, в прозаической эмигрантской обстановке, различие между ними стало всё больше проявляться. Возможно, что смерть Насти стала поворотным моментом в их супружеских отношениях. Так или иначе, в 1927 году они разошлись, и муж стал жить отдельно от семьи.
К этому времени новые задачи и новые обязанности уже начали выводить Елизавету Юрьевну на тот "настоящий и очищенный путь", о котором она мечтала сразу после Настиной кончины.
Осенью 1923 года в Пшеровском замке в Чехии состоялся съезд, на который собрались делегаты от всех студенческих христианских организаций русской эмиграции; присутствовали также видные представители русской интеллигенции, многие из которых были высланы из России в предыдущем году неожиданным решением советского правительства. Из этого съезда возникло Русское Студенческое Христианское Движение, центр которого вскоре передвинулся в Париж. Для проведения миссионерской, образовательной и филантропической работы за пределами столицы были назначены разъездные секретари, в их числе (в 1930 году) и Елизавета Юрьевна Скобцова.
Хоть Движение и носило название "Студенческое", но поездки по эмигрантской Франции знакомили ее не столько со студенческими и интеллигентскими кружками, сколько с обнищавшими беженцами, находившимися в совершенно чуждой им обстановке, которая довела многих до апатии, озлобленности и отчаяния. Многие искали забвения в алкоголе. Самоубийство было нередким явлением. "Русская география Франции", о которой Елизавета Юрьевна писала в газете "Последние Новости", – предмет мало утешительный.
– Опустились? – [спрашивала она]. – Опустились. Гниют? – Заживо сгнивают. Пьянствуют, развратничают, обманывают, воруют? – Да, да, да. Люди? – До конца и непререкаемо несчастные, беспризорные люди, которых человеческим словом одолеть можно, так что от лжи и разврата ничего не останется.
Без душевного сочувствия при некоторых положениях вообще нельзя было бы выступать. Когда она приехала в Пиренейские шахты, чтобы навестить забытых русских шахтеров, ее предложение провести беседу было встречено враждебным молчанием.
– Вы бы лучше нам пол вымыли, да всю грязь прибрали, чем доклады нам читать, – злобно возразил один шахтер. Она сразу согласилась.
"Работала я усердно, да только всё платье водой окатила. А они сидят, смотрят, – рассказывала она. – Потом вдруг – и так неожиданно! – тот самый человек, который так злобно обратился ко мне, снимает с себя кожаную куртку и дает мне:
– Наденьте... Вы ведь вся вымокли.
И тут лед стал таять. Когда я кончила, посадили меня за стол, принесли обед, и завязался разговор".
Один из шахтеров потом признался, что ее приезд заставил его отложить задуманное самоубийство. Она решила, что оставлять его в таком состоянии невозможно. Невзирая на его возражения, она его отвезла ("как больного ребенка") к знакомым, которые сумели восстановить в нем веру в жизнь. Несмотря на то – или, может быть, как раз потому, что доклад так и не состоялся, эта на вид как будто мало значительная встреча с шахтерами оказалась плодотворной. Хотя Елизавета Юрьевна продолжала охотно и успешно читать доклады, она всё больше стала стремиться к чисто человеческим встречам.
В поисках нуждающихся она ничего не страшилась. "Вспоминаю первую мою встречу с ней как-то в конце двадцатых годов, – писал английский священник П. Уидрингтон. – Она только что вернулась из Марселя, куда поехала с целью спасти нескольких русских интеллигентов, которые стали наркоманами. Она всегда была бесстрашной: без всяких опасений она смело вошла в притон в старом городе и силой вытащила из него двух молодых людей". Но самые прозаические нужды требовали столько же внимания, если не больше.
Самое трудное было довести раз начатое дело до какого-либо положительного результата. В этом отношении она находила в себе и в своей деятельности много недостатков. "То, что я даю им, так ничтожно, – отметила она. – Поговорила, уехала и забыла. Но я поняла, почему не получается полных результатов. Каждый из них требует всей вашей жизни, ни больше ни меньше. Отдать всю свою жизнь какому-нибудь пьянице или калеке, как это трудно".
Осенью 1931 года, покидая Безансон после такого посещения ("поговорила, уехала, забыла"), она писала на эту тему:
Устало дышит паровоз,
Под крышей белый пар клубится,
И в легкий утренний мороз
Торопятся мужские лица.
От городов, где тихо спят
Соборы, площади и люди,
Где темный каменный наряд
Веками был, веками будет,
Где зелена струя реки,
Где всё в зеленоватом свете,
Где забрались на чердаки
Моей России дикой дети,
Опять я отрываюсь в даль;
Моя душа опять нищает;
И только одного мне жаль,
Что сердце мира не вмещает.
Она не вела дневника и сравнительно редко писала письма. Доступ к наиболее ее сокровенным мыслям надо искать в ее поэзии. В одном из самых значительных стихотворений (с автобиографической точки зрения) содержится описание ее переживания во время очередной поездки в провинцию: ее дремотные мечтания (стихотворение помечено "Поезд. Весна 31") внезапно прерываются и преобразовываются ясным осознанием Божественного присутствия. Бог "суживает" ее дороги и призывает на особое служение:
Обрывки снов. Певуче плещут недра.
И вдруг до самой тайны тайн прорыв.
Явился, сокровенное открыв,
Бог воинств, Элогим, Даятель щедрый.
Что я могу, Вершитель и Каратель?
Я только зов, я только меч в руке,
Я лишь волна в пылающей реке,
Мытарь, напоминающий о плате.
Но Ты и тут мои дороги сузил:
"Иди, живи средь нищих и бродяг,
Себя и их, меня и мир сопряг
В неразрубаемый единый узел".
Мысль о том, что она лишь "меч в руке", не покидала ее. В другом стихотворении она поставила вопрос: "Кто я, Господи?" и ответила: "Лишь самозванка,/Расточающая благодать". Ее призвание – "расточать [...] искры от огня": "Бог сделал меня орудием, чтобы с моей помощью расцветали другие души". В таком же духе заканчивается одно стихотворение 1936 года:
Я весть Твоя. Как факел, кинь средь ночи,
Чтоб все увидели, узнали вдруг,
Чего от человечества Ты хочешь,
Каких на жатву высылаешь слуг.
Еще в 1927 году она издала сборник житий под названием "Жатва Духа". В своих пересказах житийного материала она явно стремится к тому, чтобы выдвинуть именно этот момент – центральную роль в сборнике играет просветление и расцвет чужих душ в результате жертвенного служения святых подвижников.
Она писала об египетском иноке Серапионе, который готов был отдать последнее и самое драгоценное имущество – рукопись Евангелия – в пользу "нищих и бродяг". Когда его спрашивали, куда он девал Евангелие, он отвечал: "Я продал слово, которое научило меня: продай имение свое и раздай нищим". Она писала также о Никифоре, дружба которого со священником Саприкием, длящаяся почти всю жизнь, порвалась из-за пустяковой ссоры. Саприкий упорно отказывался от примирения; гордыня, которая у него развилась из-за ссоры, привела его к отступничеству в пору гонений на веру. Никифор же, отвергнутый и поруганный другом, принял мученическую смерть вместо него и ради него.
Яркие и светлые примеры служения были ей известны из истории монашества. Но разве можно было сочетать задуманное материнское служение с иночеством? А если так, должна ли она, или даже может ли она мечтать о постриге – имея двух мужей в живых, хотя и состоя в разводе с одним и в отчуждении от другого? С такими вопросами она обратилась к членам семьи, к духовному отцу, Сергию Булгакову (1871-1944) и к епархиальному архиерею, митрополиту Евлогию (1866-1946).
Вопрос о призвании Елизаветы Скобцовой не сразу получил положительный ответ. Сперва казалось, что "препятствия были непреодолимые". Но, вопреки всяким ожиданиям, как она рассказывала впоследствии, "Господь взял за руку и вытащил".
Каноническое право, как выяснилось, не препятствует ее пострижению. Оно допускает развод в случае, если хоть один из супругов желает вступить в монашескую жизнь. И на том основании митрополит решил дать ей церковный развод. Единственным условием (и последним препятствием) было то, что муж должен дать и свое согласие. Скобцов отнесся к этому требованию без всякого энтузиазма: причем самому митрополиту пришлось его уговаривать. При этом вопрос о гражданском разводе не ставился: с церковной точки зрения в нем не было нужды. Таким образом можно было избегнуть и лишних судебных издержек соображение немаловажное.
Итак, канонические и семейные препятствия были преодолены. Развод состоялся 7 марта 1932 года – в годовщину Настиной смерти. Начались приготовления к постригу. Нашлась подержанная ряса. Назначили день. Но самые необходимые приготовления шли неведомо для посторонних.
Всё пересмотрено. Готов мой инвентарь.
О, колокол, в последний раз ударь.
Последний раз звучи последнему уходу.
Всё пересмотрено, ничто не держит тут.
А из туманов голоса зовут.
О, голоса зовут в надежду и свободу.
Всё пересмотрено. Былому мой поклон...
О, колокол, какой тревожный звон,
Какой крылатый звон ты шлешь неутомимо...
Вот скоро будет горный перевал,
Которого мой дух с таким восторгом ждал,
А настоящее идет угрюмо мимо.
Я оставляю плату, труд и торг,
Я принимаю крылья и восторг,
Я говорю торжественно: "Во имя,
Во имя крестное, во имя крестных уз,
Во имя крестной муки, Иисус,
Я делаю все дни мои Твоими.
В назначенный день в марте 1932 года, в храме Сергиевского подворья при парижском Православном Богословском Институте Елизавета Юрьевна Скобцова, по первому мужу Кузьмина-Караваева, рожденная Пиленко, отложила мирское одеяние, облеклась в простую белую рубаху, спустилась по темной лестнице с хоров Сергиевского храма и распростерлась крестообразно на полу:
В рубаху белую одета...
О, внутренний мой человек.
Сейчас еще Елизавета,
А завтра буду – имя рек.
Не помню я часа Завета,
Не знаю Божественной Торы.
Но дал Ты мне зиму и лето,
И небо, и реки, и горы.
Не научил Ты молиться
По правилам и по законам,
Поет мое сердце, как птица,
Нерукотворным иконам,
Росе, и заре, и дороге,
Камням, человеку и зверю,
Прими, Справедливый и Строгий,
Одно мое слово: Я верю.
2. I. 1933. "Стихи" (1937)
Монашество.
Белая рубаха-власяница, как поясняется в течение службы – это "хитон вольныя нищеты и нестяжания, и всяких бед и теснот претерпения". Митрополит Евлогий сам совершал этот постриг: как он напомнил постригаемой в положенном увещании, "Сам Господь и Бог наш богат сый в милости, нас ради обнища, яко да и мы обогатимся царствием Его [...] подобает убо и нам подражателем Его быти, и Его ради всё претерпевати, преспевающим в заповедех Его день и нощь".
Но слова увещания указывали ей путь не только в общих чертах. Ни владыка Митрополит, ни постригаемая монахиня Мария не могли знать, до какой степени многие из этих слов соответствовали ее будущему, особенно последним ее годам в концлагере:
Алкати имаше и жаждати,
досаду же подяти и укоризну,
поношение же и гонение
и иными многими отяготитися скорьбми,
ими же сущий по Бозе живот начертавается.
Егда же сия вся постраждеши,
радуйся, рече Господь,
яко мзда твоя много на небесах.
Монахиню Марию облачили в мантию. Митрополит вручил ей крест:
Приими, сестро Марие, щит веры, крест
Христов [...]
и памятствуй всегда, яко речет Господь:
иже хощет по Мне идти,
да отвержется себе,
и возмет крест свой,
и последует Ми.
Служба закончилась, как и началась, тихим пением покаянного тропаря на тему блудного сына.
Это возвращение в отчий дом, преображение Елизаветы Юрьевны в монахиню Марию, дали ей глубокое удовлетворение. От первоначального своего намерения принять тайный постриг она незаметно для себя отказалась. За трое суток одинокого бдения под сводами Сергиевского храма она пришла к убеждению, что постриг не может скрывать, что с монашеским одеянием ей не расстаться: "Как-то невольно получилось так, что стала монахиней открыто". О "блудной" же интеллигентке она просила всех забыть:
Все забытые мои тетради,
Все статьи, стихи, бросайте в печь.
Не затейте только, Бога ради,
Старый облик мой в сердцах беречь.
Не хочу я быть воспоминаньем,
Буду вам в грядущее призыв.
Этим вот спокойным завещаньем
Совершу с прошедшим мой разрыв.
В январе 1933 года митрополит Евлогий в разговоре с К.В. Мочульским (впоследствии – одним из ближайших помощников матери Марии) отметил, что этот разрыв с прошедшим как будто благополучно совершился: "Вот мать Мария постриглась и с тех пор всё сияет". "Явно, она нашла для души своей соразмерную ей форму, – отметила Манухина, – и потому казалась гармоничной и устроенной". Полтора года спустя мать Мария сама говорила: "В общем всё стало проще, очень просто совсем. И всё меньше декламации. Вот уже для декламации никакого места не остается" – для декламации не только в смысле речи, но и любой излишней деятельности. "Постыло мне ненужное витийство", начинается одно ее стихотворение. То, что она вообще продолжает писать стихи, она сначала скрывала.
Достигалась новая простота, новое равновесие; но вначале еще не выяснилось, каким именно образом она должна жить "средь нищих и бродяг", усыновляя и спасая их. Спокойная комната-келья, которую отвели ей Л.А. и В.А. Зандеры у себя в доме в Кламаре, служила временным пристанищем, где она могла обдумывать этот вопрос и готовиться к будущему служению.
Но само монашество не превратилось для нее в убежище, хотя в первые месяцы после пострига она писала о предвкушаемом покое – даже уюте монашеской жизни:
А в келье будет жарко у печи,
А в окнах будет тихий снег кружиться.
И тающий огонь свечи
Чуть озарит святые лица.
И темноликий, синеокий Спас,
Крестом раскинувший свой медный венчик,
Не отведет спокойных глаз...
Длиннее ночи, дни всё меньше.
Однако в других стихах уже зазвучала тревожная – и для матери Марии более характерная – нота:
Отменили мое отчество,
И другое имя дали.
Так я стала Божьей дочерью.
И в спокойном одиночестве
Тихо слушаю пророчества,
Близки, близки дни печали.
Митрополит Евлогий возлагал большие надежды на новую монахиню. "Я обрадовался и мечтал, что она сделается основоположницей женского монашества в эмиграции", – говорил он в связи с ее постригом. Монахиня же Мария высоко ценила Митрополита: "Самая моя большая радость – это совершенно исключительное понимание всех моих затей со стороны Митрополита, – писала она в письме к родным. – Тут с ним действительно можно горы двигать, если охота и силы есть". Но основоположницы женского монашества из нее не получилось. В этом отношении Митрополиту предстояло разочарование. К концу тридцатых годов ему пришлось констатировать, что "монашество аскетического духа, созерцания, богомыслия, то есть монашество в чистом виде, в эмиграции не удалось. Говорю это с прискорбием [прибавил он], потому что аскетическое монашество – цвет и украшение Церкви, показатель ее жизненности". Однако когда однажды Митрополит Евлогий и мать Мария ехали вместе в поезде и, стоя у окна, любовались всё время изменяющимися видами, Владыка широким движением руки указал на бескрайние поля: "Вот Ваш монастырь, мать Мария!".
Летом 1932 года мать Мария отправилась в Латвию и Эстонию по делам РСХД. Там она имела возможность наблюдать монашескую жизнь "в чистом виде", так как в этих бывших губерниях Российской империи русские монастыри продолжали свое существование, не затронутые ни антирелигиозной кампанией, ни коллективизацией, которые к тому времени привели к закрытию едва ли не всех монастырей в СССР.
В обителях, которые она посетила – в том числе Пюхтицкий женский Успенский монастырь и женский Свято-Троицкий монастырь в родном городе Риге, – она была принята со вниманием и любовью; в Свято-Троицком монастыре ей даже успели сшить рясу.
Впрочем, игуменья одного из монастырей вздумала укорить мать Марию: "Что за монашество в миру?". Но мать Мария ответила только: "А сандалии благовествования?". Действительно, а такие сандалии обувают при постриге.
Однако обители как таковые не восхитили ее. В них, как она писала по возвращении во Францию, "несомненно много личного благочестия, личного подвига, может быть, даже личной святости; но как подлинные организмы, как некое целое, как некая стена нерушимая, они просто не существуют. Значение этих лимитрофных монастырей несомненно: они блюдут заветы, они берегут огромные клады прошлого быта, золотой ларец традиции и благолепия. Надо верить, что они доберегут, дохранят, достерегут. Но это всё, на что можно рассчитывать"[6]. В частном разговоре она отзывалась о них еще более отрицательно и резко: "Никто не чувствует, что мир горит, нет тревоги за судьбы мира. Жизнь размерена, сопровождается трогательным личным благочестием".
Она возвратилась с убеждением, что требуется новый тип монашеского служения, более соответствующий нуждам и возможностям эмиграции. От интроспекции, отрешенности, покоя надо будет отказаться.
"Перед каждым человеком всегда стоит [...] необходимость выбора: уют и тепло его земного жилища, хорошо защищенного от ветра и от бурь, или же бескрайнее пространство вечности, в котором есть одно лишь твердое и несомненное – и это твердое и несомненное есть крест".
Беда в том, что старая монашеская община слишком часто ценит, оберегает и распространяет именно этот уют.
"Обет целомудрия [...] приводит в подавляющем большинстве своем к монашеству людей, не имевших собственной семьи, не строивших личной жизни, не увидевших острого противоречия абсолютной независимости личной жизни и неизбежного для монашества апокалиптического устроения духа. Произошло очень странное явление, которое постепенно переродило основные монашеские установки.
Желание построить семью вовсе не исчерпывается стремлениями удовлетворить плотские инстинкты, земную тягу к любви, даже к деторождению. В основе семьи также прочно лежит еще один инстинкт, чрезвычайно могучий в человеческой душе – это завивание гнезда, организация и строительство собственной жизни, отделенной стенами от мира, замкнутой на крепкие засовы. Человек создает свой образ жизни, человек печется не только о своем материальном благополучии, но и о нравственной чистоте своей жизни, о ее внутреннем благолепии, он ее ограждает от внешней грязи, от всякого засорения, он ее хранит, он в ней утверждает свое личное "я" и свое семейно-коллективное "мы", – противополагая их всякому внешнему "они".
И вот люди, искренне принимающие обет целомудрия, отказываются от одной части того, что заставляет строить семью: они не примут ни плотской любви, ни деторождения. Но они принимают всё другое, что лежит в основе построения семьи. Они хотят устроения своей жизни, общности быта, высоких стен, за которые не проникают грязь и скорбь мира. Они строят некую духовную семью, и ограждают ее и берегут от всяких посягательств, как святыню".
Мать Мария учитывает, что жизнь посвященная такой "семье", могла бы быть приемлема в давние времена, хотя и тогда появлялись отшельники и Христа ради юродивые, которые отвергали общинную жизнь ради того, чтобы служить Богу и человеку без общественных ограничений. А в наши времена?
"Когда время [...] само по себе становится вестником апокалиптических свершений, когда человечество действительно возводится на Голгофу, когда нет путей и нету устроений в мире, – можно ли в такую эпоху, в нашу эпоху, принять обычное, традиционное духовное монашество прошлого, как некоторое обязательство для монашеского будущего? Нет, нельзя.
И как ни трудно поднять руку на благолепную, прекрасную идею монашеской, отторженной от мира, семьи, на светлый монастырь, – всё же рука подымается. Внутренний голос требует нестяжания и в этой области.
Пустите за ваши стены беспризорных воришек, разбейте ваш прекрасный уставной уклад вихрями внешней жизни, унизьтесь, опустошитесь, и как бы вы ни опустошались, разве это сравнится с умалением, с самоуничтожением Христа [...]?
Примите обет нестяжания во всей его опустошающей суровости, сожгите всякий уют, даже монастырский, сожгите ваше сердце так, чтобы оно отказалось от уюта, тогда скажите: "Готово мое сердце, готово".
Именно наши времена побуждают к такому нестяжанию:
"Бывают времена, когда всё сказанное не может быть очевидным и ясным, потому что сам воздух вокруг нас язычествует и соблазняет нас идольскими чарами.
Но наше время – оно действительно христианствует в самой своей страдающей сущности, оно в наших сердцах разбивает и разрушает всё прочное, всё устоявшееся, освященное веками, нам дорогое. Оно помогает нам действительно и до конца принять обет нестяжания, искать не образа жизни, а безубразия, юродского безoбразия жизни, искать не монастырских стен, а полного отсутствия самой тонкой перегородки, отделяющей сердце от мира, от его боли".
Но и не-монашествующие не должны довольствоваться своими стенами и перегородками:
"И не надо думать, что всё сказанное относится исключительно к монашеству. Я говорила о нем, чтобы ярче выявить свою основную мысль. Но эта основная мысль, мне кажется, определяет собою судьбу современного мира в целом. Она проста и ясна.
Время обернулось сейчас апокалиптическим ангелом, трубящим и взывающим к каждой человеческой душе. Случайное и условное свивается и обнажает вечные корни жизни. Человек стоит перед гибелью. Гибель обличает ничтожность, временность, хрупкость его мечтаний и стремлений. Всё сгорает. Остается только Бог, человеческая душа, вечность и любовь.
Это так, для каждого – для монаха и мирянина, для христианина и язычника, для праведного и грешного.
И кто хочет в наши страшные дни идти единственным путем, уводящим от гибели, – "да отвергнется себе и возьмет крест свой и идет".
Для нее отвернуться от нужд и страданий мира, хотя бы благочестия ради, означало бы предать забвению те самые начала, которые и привели ее к монашеству. Если бы ей пришлось когда-нибудь сделать выбор между монашеством и жертвенным служением страждущему миру, она без колебаний выбрала бы последнее. Сам Митрополит Евлогий впоследствии признавал, "что она приняла постриг, чтобы отдаться общественному служению безраздельно", хотя это полностью его не удовлетворяло. Она "называла свою общественную деятельность "монашеством в миру", – говорил он, – но монашества в строгом смысле этого слова, его аскезы и внутреннего делания, она не только не понимала, но даже отрицала, считая его устаревшим, ненужным. Внутренний смысл монашества, его особенный, чисто церковный характер, так мне и не удалось ей разъяснить".
В самом деле, "тем, кто лелеял идеал строго-уставного монашества, запечатленный в творениях аскетической литературы и в строгих монашеских общежительных уставах, с Матерью [Марией] было [...] не по пути, – отметила Манухина. – Чем старше и духовно опытней она становилась, тем всё менее "монашествовала"". Другими словами – и применяя ее собственную, более положительную терминологию: "Сейчас для монаха один монастырь – мир весь". А "чем больше мы выходим в мир, чем больше отдаем себя миру, тем менее мы от мира, потому что мирское себя миру не отдает".