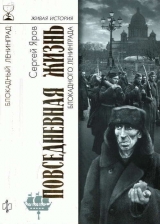
Текст книги "Повседневная жизнь блокадного Ленинграда"
Автор книги: Сергей Яров
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
Глава третья.
Преступность
В любом осажденном городе на первом плане оказываются такие преступления, как воровство, грабеж, мародерство и спекуляция. Целью действий преступников были хлеб и другие продукты, ценности, продовольственные карточки. Росту преступлений способствовало и то, что жертвы нападавших не могли сопротивляться, будучи истощенными и бессильными, а положение в городе, особенно в «смертное время», делало правонарушителями тех, кто не привлекался ранее к судебной ответственности. Преступниками становились люди, не вытерпевшие мук голода. Отделить их от профессиональных грабителей-рецидивистов можно, только детально изучив следственные дела, но многие из них недоступны.
Изучая известные нам подробности грабежей, мы, однако, способны выделить те эпизоды, где отчетливо видны организация, предварительная подготовка и умелость преступников, и те, в которых явно чувствуется налет стихийности. В докладной записке начальника управления продторгом Ленинграда 15 января 1942 года это прослеживается весьма явно:
«В ночь с 4 на 5 января 1942 г. путем проникновения через подвал и взлома стены в кладовую магазина № 22 Василеостровского райпищеторга, помещающегося по пр. Железнякова, д. 13, преступниками было похищено по предварительным подсчетам; песку сахарного – полмешка, муки ржаной – 1 мешок, изюма – 2 ящика и какао – 34 коробки.
7 января 1942 г. в 17 час. при разгрузке хлеба с автомашины в магазине № 97 Красногвардейского райпищеторга, помещающегося: Объездное шоссе, д. 66, группой неизвестных злоумышленников было произведено организованное нападение на грузчиков, носивших в магазин хлеб. Вырвав ящики и проколов резину у машины, злоумышленники похитили 23 буханки»{354}.
Другие сцены, кончавшиеся разграблением магазинов, возникали вследствие перепалки между толпой голодных блокадников и работниками булочных. Отметим, что в первой декаде января 1942 года выдачи хлеба почти прекратились ввиду отсутствия его на складах. Повышение «карточных» норм 25 декабря 1941 года не было продуманным, надеялись, что подвезут хлеб в достаточном количестве с Ладоги, но этого не произошло. Выходившие к публике директора пытались объяснить, что хлеба всем не хватит, что надо ждать завтрашнего дня, – и оголодавшие, окоченевшие горожане, стоявшие не один час в очереди, не выдерживали. Начинались своеобразные «хлебные бунты», с присущей им хаотичностью:
«…Кучкой хулиганов был сломан (в магазине № 97 Красногвардейского райпищеторга. – С. Я.) прилавок, а в работников прилавка бросали кирпичами… 8 января 1942 г. в магазине № 53 Ленинского райпищеторга, Лифляндская ул., д. 18, разграблен хлебный отдел и похищен хлеб.
9 января 1942 г. в магазине № 18 Ленинского РПТ, ул. Шкапина, д 17, разграблен хлебный отдел.
10 января 1942 г. в магазине № 12 Ленинского РПТ, Международный пр., д. 23, публика ворвалась в кладовую и начала расхватывать хлеб.
10 января 1942 г. в магазине № 64 Ленинского РПТ, ул. Розенштейна, д. 37, разграблен хлебный отдел.
<…> 12 января 1942 г. в 8 час. утра был разгромлен толпой народа магазин № 8 Приморского райпищеторга, помещающийся по пр. К. Либкнехта, д. 16, украдено 50 кг хлеба, часть хлеба потоптана ногами. С помощью наряда 34-го отделения ЛГМ и сотрудников магазина задержаны 24 человека»{355}.
Примечательно, что такие же «бунты» происходили и во время катастрофы 27—29 января 1942 года, когда хлеб в Ленинграде почти не выдавался. «…В городе творится страшное. У Строганова моста народ разграбил воз с хлебом. На Большом проспекте в магазине народ бросился на полки и разграбил весь хлеб», – отмечал 28 января 1942 года в дневнике И.И. Жилинский. О том же мы можем узнать из дневниковой записи А.И. Винокурова, помеченной 27 января 1942 года. Нападение на двух женщин, перевозивших продукты, организовали «ремесленники», но разграбили они хлеб «с помощью обрадовавшейся случаю публике». Ради объективности, однако, отметим и записки Д.В. Павлова, ответственного за снабжение продовольствием Ленинграда. По его мнению, не было ни одного случая разграбления магазинов{356}.
Более трагичный исход имели нападения на отдельных людей с целью завладения их продуктами или карточками. Выбирали чаще всего слабых, шатающихся стариков или беззащитных детей, которые не могли постоять за себя. Но жертвами преступников мог стать любой человек. Нападали на улицах, глухих и темных, выслеживали, в каких домах они живут. Ограбления особенно участились все в том же январе 1942 года. Не исчезли они и значительно позднее, даже после эвакуации, существенного повышения норм пайка и пополнения рядов милиции более крепкими и здоровыми сотрудниками. Так, только 2 ноября 1942 года в Мариинской больнице были госпитализированы трое раненых, у которых отняли на лестнице их карточки{357}.
Отбирали хлеб и в булочных, пользуясь замешательством «очередников». Перед выходом из булочных они старались прятать хлеб поглубже, но могли выхватить из их рук довесок, который многие хотели съесть здесь, на улице, тайком от семьи. Нередко хлеб хватали с весов, когда покупатель прятал карточки. В пакеты и сумки хлеб тоже было класть небезопасно: могли выхватить и их.
Давно было замечено, что большинство из тех, кто отнимал хлеб в булочных, являлись дистрофичными и шатающимися. Уйти далеко, отняв продукты, они не могли, да, наверное, и сами на это не надеялись. «Как-то зашел я в булочную. Одной женщине вешали хлеб. Другая выхватила у нее этот хлеб, отвернулась в угол и ест. Пострадавшая давай ее бить, та никак не реагирует, но быстро ест хлеб»{358} – эта запись, сделанная М.И. Скворцовым, находит подтверждения во многих других блокадных документах.
Среди тех, кто ютился у булочных и отнимал хлеб, нередко видели и детей. Шли они сюда часто за милостыней, но не могли вытерпеть мук голода. Они тоже понимали, что им не уйти, иногда даже сами ложились на пол, ожидая расправы. Главным было как можно больше сжевать хлеба, пока его не успели выдернуть из окровавленного рта, – били их жестоко, даже ногами. Одна из девочек-подростков рассказывала позднее, как решила добыть себе чужой хлеб: «Я, как и все, обессилела окончательно… шатались зубы… Ноги опухли. Я рассказала сестре Галине: “Пойдем в булочную и отнимем хлеб у какой-нибудь старушки, все равно они скоро умрут”. Сестра согласилась. Пришли мы в булочную, прижались к теплой печке… Как хорошо согрелись. Высматриваем самую старую бабулю. А бедные старушки, дойдя до прилавка… тут же съедали паек. А некоторые трясущимися руками убирали хлеб на дно “своей кошелки” и прижимали к груди… Мы окончательно согрелись, посмотрели на этих просвечивающихся старушек, на их выпученные глаза и раскрытые рты, и нам стало жалко их… Мы побрели домой»{359}.
Рассказ стилизован и самого главного мы, конечно, не узнаем – сцепления мыслей, ощущений, сомнений. Но возникает вопрос – зачем это записано? Чтобы отметить свое милосердие? Но это странный способ подчеркнуть его, есть ведь и другие средства, более традиционные. Вероятно, это след столь эмоционального переживания, что даже в смягченном виде не рассказать о нем не могли. Она никого ограбить не могла, и потому эта история передана с большей долей откровенности, чем что-то постыдное, о чем следовало молчать и десятилетия спустя. Но обратим внимание, прежде всего, на простоту поступка. Моральные рефлексии обнаружились позднее. Первый же шаг свободен от них. Это в тишине опустевшей комнаты легко решиться на безнравственный поступок. Но когда человек появляется среди других людей, кажется, что он словно очнулся. «Согревание» уравновешивает в какой-то мере другие порывы. Обстоятельства, делающие исход действия сомнительным, оказываются особенно наглядными, решимость, смелость неизбежно угасают. Этого, пусть и слабого морального и житейского ориентира нет и не может быть у одичавшего голодного ребенка, в звериной жажде есть не принимающего никаких доводов, готового на побои и унижения.
Попытки охранять магазины с помощью милиции и вооруженных патрулей являлись, как правило, недолговечными. Предпринимались они обычно в то время, когда грабежи особенно учащались. В январе 1942 года за погромы в магазинах и нападения на их работников, перевозивших продукты, были задержаны 325 человек. За бандитизм, нападения на граждан (в том числе имевшие и летальный исход) с целью завладения их продуктами и карточками осуждены в первой половине 1942 года 1216 человек. После января 1942 года число погромов и нападений на людей резко сократилось, стихийные «хлебные бунты» не наблюдались, но это было не только результатом действий правоохранительных органов, но и упорядочения выдачи пайков, равно как и увеличения их норм.
Поддержание правопорядка в городе осложнялось наличием здесь значительного числа «уголовного элемента». Его не удалось, как планировалось, полностью выселить летом 1941 года, а потом это сделать было еще труднее вследствие блокирования Ленинграда. Регистрация, учет и задержание рецидивистов и уголовников проводились плохо. Из 268 преступников, которых должны были задержать в 1942 году, были арестованы шесть человек. «Относительная “вольница” в круглосуточных передвижениях по городу, бесконтрольном проживании в нем, уклонении от повинностей находившихся там беженцев, одиночных военнослужащих, подростков, прикомандированных лиц» – таковы были, по мнению изучавшего деятельность спецорганов во время блокады историка В.А. Иванова, приметы города в те дни, когда там было введено осадное положение{360}.
Слабая работа по выявлению «уголовного элемента» отмечалась и до войны, а во время осады Ленинграда говорить о полноценном контроле за ними еще труднее. Одна из причин – истощенность милиционеров. «За последнее время в связи с плохим питанием мы в городе не имеем охраны. Я ходил по району в час ночи, абсолютно никого нет. Можно делать что угодно. Я разговаривал с начальником отделения милиции, и он говорит, [что] уходит милиционер на пост и говорит: пошлите за мной, боюсь свалиться», – рассказывал один из присутствовавших на совещании в обкоме ВКП(б) в январе 1942 года. Член военного совета Ленинградского фронта А.А. Кузнецов назвал это «враньем»: «Все они на котловом питании, 3 раза в день получают пищу и обязаны работать»{361}. Известно, однако, что во время блокады от голода умер 651 милиционер{362}.
О малочисленности милиционеров говорили и другие блокадники. «Милиционеры встречались очень редко, особенно в декабре и в январе… Чаще к милиционерам обращались по вопросам нарушения светомаскировки кем-то из соседей, при утере продовольственных карточек, при возникновении каких-либо подозрений на спекуляцию», – рассказывал В.Г. Даев{363}.
Следует иметь в виду, что милиционеры, как и прочие, находившиеся на котловом питании, должны были поддерживать свои семьи. Само это «питание», скажем прямо, в «смертное время» являлось весьма скудным. Об изможденных, голодных милиционерах очевидцы блокады вспоминали не раз. «Человек упал на панели – мне не дотащить», – сообщал один из милиционеров работникам «скорой помощи» в декабре 1941 года. Вера Михайловна Инбер записала в дневнике 3 января 1942 года: «Связистка-студентка подняла на улице милиционера, упавшего от голода. Кроме того, у него были украдены хлебные карточки». Писатель В. Кочетов, редко бывавший в городе, встретив на улице милиционера, сразу отметил: «В глазах у него тоже был голод»{364}.
Это не проходило без последствий. Несмотря на запреты посещать рынки «без служебной надобности», некоторые милиционеры задерживались здесь во время облав. Сотрудники милиции были замечены в перепродаже изъятых у спекулянтов товаров, а один случай, правда, единственный, являлся и вовсе беспрецедентным: по наводке стража порядка группа «ремесленников» обворовывала чужие квартиры{365}. Чаще, однако, довольствовались тем малым, что удавалось получить «по договоренности» с правонарушителями. «В СССР нет другого такого города, где бы милиция и частные граждане так понимали друг друга, как в Ленинграде!» – это патетическое восклицание А.А. Фадеева, приехавшего в Ленинград в 1942 году, у тех, кто был знаком с истинным положением дел, могло вызвать лишь горькую усмешку{366}. Упреки по этому поводу могут показаться и уместными, если не знать, что во время блокады стремились, выражаясь канцелярским языком, использовать свое служебное положение тысячи людей, не одни только милиционеры. Пекари, дворники, продавцы, повара, врачи, воспитатели, шоферы – все они хотели выжить, все мечтали, чтобы остались живы их дети и родители. «Сейчас надо иметь знакомство в столовых, тогда еще можно кое-как спастись. Если этого нет, то – безусловная смерть… Знакомая девчонка на раздаче куда-то исчезла, вероятно, проворовалась и ее сняли с работы. Это очень обидно, через нее можно было получить лишние порции, хоть и дряни из дуранды» – сколько таких признаний встречаем в блокадных дневниках и письмах{367}.
В страшные дни первой зимы милиционеры делали всё, что могли, прилагали немало усилий для того, чтобы город не оказался в трясине преступности. Не их вина, что сделать большего они не были способны. Милиционеры, часто сами изможденные, поднимали на улицах обессиленных людей, помогали им дойти до дома, защищали от грабителей, выявляли спекулянтов и воров, наживавшихся на бедах людей. Да, они иногда спорили, кто должен был идти поднимать лежавшего человека, да, помогали не только из сострадания, но опасаясь быть наказанным за бездействие, – но ведь спасали.
В начале 1942 года состав милиционеров обновили, пополнив их ряды более крепкими людьми. Об этом была осведомлена даже германская служба безопасности (СД), в справке которой отмечалось: «Так как служащие милиции вследствие голода и холода в большинстве ослабли настолько, что стали пренебрегать своей службой, то в последние зимние месяцы их стали подменять служащими милиции из Москвы, которые приняли политический надзор с большой активностью»{368}. В целом же какого-то существенного пополнения корпуса охраны правопорядка не произошло (да и невозможно было это сделать), работа его улучшилась лишь после нормализации обстановки в городе в середине 1942 года.
Широко развившееся в городе воровство являлось и следствием слабой работы милиции, и было в значительной мере обусловлено голодным блокадным бытом. Самым страшным по своим последствиям являлось воровство продуктов и карточек. Особенно оно усилилось в конце ноября – декабре 1941 года. Чаще всего кражи происходили во время давки (у трамваев, поездов, магазинов), когда люди, желавшие быстрее пройти внутрь, на миг утрачивали бдительность. А.А. Грязнов рассказывал, как 30 ноября 1941 года, при попытке протиснуться в магазин, его сдавили двое человек: «Один попытался вытащить кошелек, другой – портсигар». У его брата Ф.А. Грязнова украли продукты в переполненном вагоне трамвая. О диковинном случае сообщала Л.В. Шапорина в дневниковой записи 14 декабря 1941 года: «Женщина с двумя детьми выходила из трамвая. Ей надо было снять ребенка с площадки, и она попросила какую-то женщину подержать кастрюльку. Пока она снимала ребенка, та пустилась бежать с обедом, ее не догнали»{369}.
Воровали продукты и товары в общежитиях, где их было легче обнаружить, во время пожаров, когда не удавалось за всем уследить, и, конечно, на огородах, разведенных в городе летом 1942 года – там, по словам И.Д. Зеленской, «происходили бесчисленные кражи»{370}. Огромный размах приобрели кражи в квартирах. Сотни из них являлись «выморочными», там не осталось в живых ни одной семьи. Из тысяч квартир выехали эвакуированные, передав ключи в домоуправления либо соседям, что считалось более надежным отчасти из-за опасений потерять прописку. Многие квартиры не опечатывались, хотя, конечно, и это не спасло бы их от разграбления. «Свои или чужие соседи… взламывают двери квартир, нагло грабят все ценное… Редкая квартира уцелела от этой участи», – записывал в дневник 22 марта 1942 года З.С. Лившиц. Его слова подтверждает Э.Г. Левина, отметившая в дневнике 4 марта 1942 года: «После смерти к одиноким прибегают соседи, ищут карточки, вещи, годные для обмена на продукты». Мебель ломали на дрова, книгами отапливали печи и, возможно, часть их продавали – они пользовались спросом в блокадном Ленинграде. «Книги и рукописи сожгли, вещи разворовали, мебель тоже ушла, даже рояль вытащили» – такой предстала перед А.Н. Болдыревым одна из квартир, имущество которой его послали описывать{371}.
Еще чаще виновниками ограбления квартир считали дворников и управдомов, которые должны были осматривать «выморочные» и «эвакуированные» квартиры и опечатывать их. «Я посмотрел цифры за 4-й квартал 1942 г. и сделал анализ. Оказывается, 25% преступников, расхищавших имущество в бесхозных квартирах, были работниками домохозяйства», – сообщал начальник управления милиции Ленинграда Е.С. Грушко; можно только предположить, как происходили грабежи ранее, в «смертное время». Красноречивым комментарием к этим словам служат записи В.Г. Левиной: «Наша тетка, потерявшая площадь в нашей квартире и поселившаяся временно у нашей дворничихи, увидела у нее наши вещи»{372}. Вероятно, ограбления совершались при коллективном сговоре всех тех, кто обязан был описывать чужое имущество, в ряде случаев чужими вещами оплачивалось и молчание соседей.
Уникальную историю о том, как «преступницей» стала женщина, попавшая под обстрел, рассказал Е.С. Грушко. Это единственный случай, но даже при всей его необычности здесь отчетливо проступают приметы той неразберихи, в которой осуществлялась прописка и выписка из Ленинграда, – неразберихи, служившей источником для незаконного обогащения. Это яркая иллюстрация того, как «налажена» была работа домоуправлений и милиции в самые тяжелые блокадные дни: «Мне надо было дать санкцию на арест одной женщины, простой, малограмотной рабочей, совершившей самую обыкновенную кражу – кражу небольшого количества на хлебозаводе, пробравшись туда… Раньше, чем дать разрешение на арест этой гражданки, я пригласил ее побеседовать и выяснил, что у нее было 2 детей, муж… В начале войны муж был взят в армию, она оставалась с детьми, в период затруднений их поддерживала, но однажды потеряла на улице сознание и была отправлена в больницу, затем ее оттуда переправили еще в 3 больницы. В начале 1943 г. немного окрепшей она вышла из больницы. Никаких документов, паспорта при ней не оказалось. Ей в больнице дали справку, что она – такая-то лечилась в больнице в течение такого-то времени от дистрофии. С этой справкой она пришла в дом, где она когда-то проживала, узнала, что дети померли. В доме вместе с тем зафиксировано, что она тоже умерла. Комната, в которой она проживала, занята другими жильцами. Управхоз (это было в Дзержинском районе) отказался разговаривать с ней, так как имел сведения, что гражданка, за которую она себя выдает, уже умерла, и не оказал ей никакого содействия. Она долгое время скиталась, наконец, устроилась грузчицей в “Ленпогрузе”. Милиция преследует за прием на работу беспаспортных, у нее же не было паспорта или других соответствующих документов, кроме справки, которая не являлась настоящим документом, поэтому после непродолжительной работы ее уволили, предложив принести паспорт. Она, не зная, куда обратиться, как добиться паспорта, не могла его получить, скрывалась от милиции по всяким необитаемым домам и квартирам, добывала пропитание путем попрошайничества и небольших краж. В результате она попала ко мне. Я выдал ей продовольственную карточку, потребовал предоставить жилищную площадь. Когда я дал приказание отпустить ее на свободу, устроить на работу, выдать продовольственную карточку, предоставить ей взамен ее бывшей площади другую или же возвратить прежнюю, то эта гражданка обиделась, полагая, что я издеваюсь над ней»{373}.
В годы блокады выявились и другие формы обворовывания граждан, может быть, не столь жестокие и дерзкие, но все же нанесшие им урон. Прежде всего это мошеннические манипуляции со вкладами горожан в сберкассах. Наиболее распространенные виды финансовых злоупотреблений перечислены в справке заведующего отделом кадров Ленинградского ГК ВКП(б), составленной в сентябре 1942 года. Среди них «получение денег сотрудниками сберкасс по вкладам эвакуировавшихся и умерших граждан, присвоение денег от вкладов, вносимых гражданами, не проводя их по установленной отчетности, подмена облигаций, хранящихся в сберкассе, на которые пали выигрыши, прямое хищение денег из сумм, получаемых для подкрепления наличности». В справке приведен и ряд фактов, показывающих технику мошенничеств:
«В сберкассе № 2 (Володарский район) контролер… присвоила 10 920 руб. (в основном, в мае 1942 г.). Контролер получала деньги по вкладам, находившимся без движения на протяжении 1,5—2 лет, и по вкладам умерших граждан (которых специально выявляла). На лицевом счете подделывала подпись, а на расходном ордере проставляла выдуманный номер паспорта. Деньги получала из аванса, оставляемого кассиром, которого сама отсылала.
В сберкассе № 54 (Октябрьского района) контролер… присвоила 3884 руб. (в мае 1942 г.) по вкладам эвакуировавшихся граждан. Принимая заявления о переводе вклада в другую местность и сберкассу, [она] заявления уничтожала, а по книжке получала деньги, выписывая фальшивые ордера»{374}.
Имелись и случаи присвоения денежных средств ленинградцев работниками почты. Выяснив, что адресат, на имя которого пришел перевод, умер, был эвакуирован или находился в армии, они оставляли себе его деньги. Если деньги пересылались с фронта, то их суммы уменьшались в квитанциях, которые переписывали заново{375}.
Воровство не приобрело бы таких размеров, если бы не изменились человеческие представления о том, что можно и чего нельзя делать во время катастрофы. Многие понимали, что придерживаться принятых и усвоенных в прошлом нравственных навыков не удастся, но размывание моральных ценностей не происходило внезапно и бесповоротно. Совершая поступок, который прежде считался безнравственным, человек уверял себя, что он делает это для других, а не для своего спасения, что он если и украл что-то, то немного, что он обокрал людей, которые живут намного лучше и для которых пропажа какой-нибудь вещи – неощутимая потеря. Позднее, когда голод стал нестерпимым, в блокадных дневниках при описании аморальных поступков вместо нравственных переживаний отмечен миг насыщения, миг радостный, поглощающий все мысли человека. Один из блокадников рассказывал, как его жена получила по карточке родственника крупу. Очевидно, произошло это в последний день декады (запись в дневнике помечена 1 февраля 1942 года), после чего продукты, не выкупленные за это время, считались «пропавшими». Родственник, вероятно, не знал, что ему «повезло с крупой», и этим воспользовались: «Решили ее украсть. Сделали кашу и с сахарком съели. Удивительно хорошо себя почувствовали. Вот теперь мы научились ценить пшенную кашу». В это же время (январь 1942 года) проверяющего ясли решили «умаслить», накормив обедом из продуктов, предназначенных для детей. «Ох, как это приятно! Зарядка на весь день» – и ничего, кроме этого, ни раскаяния, ни оправданий{376}.
Сейчас всё можно, сейчас время другое – этот ответ слышали часто, когда пытались урезонить тех, кто без брезгливости решался на любой шаг, чтобы выжить. И.Д. Зеленская рассказывала, как поймали человека, укравшего чужую собаку и содравшего с нее шкуру. Ему пытались предъявить свои права на нее, но безуспешно: «Вцепился в свою добычу и после всякого вранья просто заявил, что он собаку не отдаст». Когда один из присутствовавших «интеллигентно» ему заявил: «…”Ведь вы же чужую собаку стащили, так же не делают”, тот ответил: “Теперь всё можно”».
Конечно, такую безоглядность и цинизм мы не всегда встретим, но тот же ответ давали себе и люди честные, порядочные, помогавшие другим, не дошедшие до последней стадии нравственного распада. «Из комнаты общежития… исчезли мое осеннее пальто и сапоги. На ногах еще что-то осталось, а на плечи одеть было нечего. В шкафу висели какие-то пальто уехавших студентов. Взяла одно из них» – это одна из записей блокадницы, студентки ЛГУ.
«Что это было? Воровство?» – спрашивает она себя. Нет, никакого стыда она не испытывает. «Почему? Из-за полной безысходности? Или потому, что правильные оценки отошли от бытовых мелочей, поднялись на другие уровни. Наверное, в обычных условиях и экстремальных ситуациях один и тот же поступок оценивается по-разному, не с юридической, а с нравственной стороны»{377}. Этот поступок все же беспокоит ее. Она перебирает доводы, приводит оправдания – но ответ все тот же.
Этот феномен блокадного сознания попыталась осмыслить Л.Я. Гинзбург. Говоря об инерции нравственных представлений и оценок, она отмечала в «дистрофические времена» одно характерное явление: «Люди, интеллигенты в особенности, стали делать вещи, которых они прежде не делали, – выпрашивать, утаивать, просить, таскать из стола в столовой кусочек хлеба или конфету. Но система этических представлений оставалась у них прежняя. Побуждения, приводившие его к подобным поступкам, всякий раз представлялись ему… таким стихийно-глубоким проявлением инстинкта жизни, что он не хотел, не считал нужным с ними бороться… Он ощущал этот поступок как временный и случайный. Поступок не имел отношения к его пониманию жизни…»{378} Это очень точное наблюдение. В блокадных документах их авторы часто не щадят себя, но рядом с самообличительными записями соседствуют такие, где их облик (нередко безо всякой рисовки) соответствует тем нравственным представлениям, которые приняты в цивилизованном обществе. Блокадная этика более гибка. Здесь нет застывших, канонических норм. Воровать нельзя – но вот рядом погибающий ребенок и его еще можно спасти, если понести на рынок вещи уехавших соседей. Что нравственнее – спасти его или сохранить свою репутацию? Это вопрос риторический – во времена катастроф выбор всегда делается в пользу тех, кто нуждается в поддержке.
Одним из самых отвратительных видов преступности в осажденном Ленинграде являлось мародерство. Снимали одежду, обувь, бывало, раздевали до нижнего белья. Обворовывали мертвых на улицах и площадях, в моргах, на эвакопунктах, на кладбищах. Мародеры действовали быстро, опасаясь, что либо мертвых сразу уберут, либо кто-то опередит их. Е. Козлова вспоминала, как сняли шапку с мужчины, лежавшего на тротуаре всего несколько часов, в других случаях время грабежа было еще короче. Иногда раздевали постепенно – проходившие мимо люди замечали, что сначала снимали валенки и пальто, спустя какое-то время – платье или юбку. Если валенки не удавалось снять с трупа, то могли и отпилить ноги{379}.
Заметим, что в момент ограбления не все жертвы мародеров являлись мертвыми. Они могли находиться и в голодном обмороке либо пытались лежа переждать, пока пройдет слабость. Мародеров это не останавливало, а сопротивляться изможденный человек не мог. В ряде случаев даже нарочно подталкивали людей, чтобы они упали, – с лежавшими на снегу легче было управиться.
Иногда успевали снять одежду и с погибших во время обстрела, причем за 1—2 часа, если машина МПВО запаздывала. «Случалось, из-под земли или обломков высовывается рука, на ней браслет, кольца или часы. И раньше, чем человек увидит свет, эти вещи… сняты с его руки», – отмечал В.В. Бианки. Грабили погибших не только в «смертное время», но и позднее, и столь же быстро. Л.В. Шапорина вспоминала, как зашла в кинотеатр «Спартак» позвонить по телефону 1 ноября 1942 года: «Через 10 минут возвращаюсь и вижу женщину, лежащую на ступенях без сознания. Сняты туфли и украден мешок с карточками, висевший на груди под платьем»{380}.
Пожалуй, самым страшным и омерзительным преступлением в городе считали людоедство. Слухи о нем впервые широко распространились по Ленинграду в январе 1942 года (молва, как обычно, и преувеличила их), но само это явление возникло раньше. Первые случаи умерщвления людей с целью поедания трупного мяса официально отмечены в третьей декаде ноября 1941 года. Сначала их было немного. В сводке Управления НКВД по Ленинграду и Ленинградской области (УНКВД ЛО) 3 декабря 1941 года приводились подробности девяти преступлений, в сводке 24 декабря 1941 года – тринадцати. В 1942 году за употребление в пищу трупов были задержаны: в январе – 366 человек, в феврале – 612, в марте – 399, в апреле – 300, в мае – 326. С лета 1942 года наблюдается быстрое и неуклонное снижение числа лиц, обвиненных в каннибализме, – в июле таковых оказалось 15 человек. В последней четверти 1942 года за месяц задерживали одного-двух каннибалов, к весне 1943 года случаи людоедства перестали отмечаться{381}.
Принимать эти данные УНКВД ЛО, конечно, надо с поправками. Л.В. Шапорина записала в дневнике 15 января 1943 года рассказ табельщицы Мариинской больницы: «…”Что вы удивляетесь, сейчас людоедство развито как никогда, нам чуть ли не каждый день доставляют найденные части человеческих тел. Вот смотрите”. И она стала перелистывать свой регистрационный журнал. На каждой странице по одному, по два раза стояло: части человеческих тел»{382}.
В том, что официальные данные, возможно, не совсем точно отражали реальность, ничего удивительного нет, – за всем проследить было невозможно. Заметим, что жертвами каннибалов нередко являлись их родители и дети – они не ожидали нападения и не были готовы дать быстрый отпор. Обилие свидетельств блокадников, отмечавших разнообразные следы «работы» людоедов, заставляет предположить, что масштабы преступлений были все-таки более широкими, чем это отразилось в сводках. В подавляющем большинстве случаев каннибализм, начиная с конца декабря 1941 года, не сопровождался умерщвлениями – мертвые лежали всюду. В основном поедали трупное мясо, найденное на улицах, в домах и на кладбищах. Обычно отделяли так называемые «мягкие части» – груди, ягодицы, из внутренностей – сердце и печень. Чаще искали детские трупики. «В морге детей сперва не прятали, но их по ночам почти всех растаскивали. Люди подходили к машинам и выпрашивали детские трупики. Теперь их запирают», – рассказывал шофер, перевозивший мертвые тела{383}. Детей заманивали и в квартиры с целью умерщвления и последующего поедания. Пользовались их доверчивостью и наивностью, искали тех, кто просил милостыню у булочных, звали «попить молока» или в гости на игры. С жертвой не церемонились. Одна из таких страшных сцен тоже описана в дневнике Л.В. Шапориной. Пригласили к себе домой где-то побиравшуюся девочку-подростка, обещали подкормить. Роли распределили заранее: мать должна будет умерщвлять девочку, а ее дочь – играть на баяне и петь веселые песни, чтобы заглушить крики жертвы. Окровавленной девочке удалось вырваться из комнаты, за ней по коридору на глазах изумленных соседей бежала женщина, пытавшаяся ее настигнуть, а в пустой комнате с распахнутой дверью ее дочь продолжала играть на баяне и радостно петь…{384}








