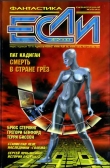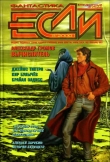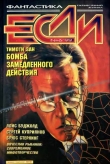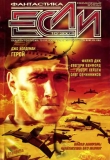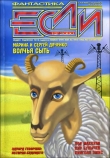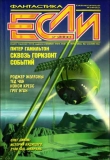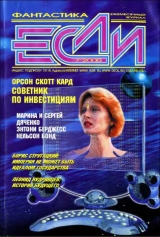
Текст книги "Журнал «Если», 2000 № 07"
Автор книги: Сергей Лукьяненко
Соавторы: Марина и Сергей Дяченко,Аркадий и Борис Стругацкие,Орсон Скотт Кард,Энтони Берджесс,Леонид Кудрявцев,Дмитрий Володихин,Владимир Михайлов,Владимир Гаков,Виталий Каплан,Сергей Кудрявцев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Редакция журнала была немногочисленной, и люди подобрались очень хорошие, с которыми хотелось дружить и работать. В отличие от райкома, где нравы требовали, мягко выражаясь, постоянно наблюдать друг за другом, не прощая ни малейших отклонений от принятых норм поведения. Мне хотелось работать так, как работали ребята в журнале: свободно, без формальностей и чинопочитания.
И однажды я сказал, как бы между прочим:
– Если у вас когда-нибудь освободится местечко – я бы с радостью…
Я был уверен, что такое вряд ли случится: из подобных редакций люди по доброй воле не уходят.
Время шло, я продолжал работать в райкоме. Ко мне уже относились серьезно, первый секретарь считал, что мне пора «расти». Его друг, возглавлявший Лиепайский горком партии, спросил, не хочу ли я пойти к нему третьим секретарем. Раньше я согласился бы, не задумываясь: продвигаться по службе мне казалось совершенно естественным. Но теперь я сказал лишь, что подумаю…
И вдруг мне позвонили из журнала:
– Есть место.
Я бросился к секретарю.
Он пытался меня отговорить. Однако ему было известно, что я пишу, да и почувствовал: на этот раз я настроен решительно. И он сдался.
– Ладно. Проводим как следует.
Проводили. На память вручили папку с серебряной плакеткой, с соответственной надписью.
Так закончилась моя райкомовская жизнь. Продолжалась она пять лет. Чему-то научила, но во многом разочаровала.
Но только ли меня? Мать, вернувшись после семнадцати лет отсутствия, и многие-многие ее товарищи – не узнали партии, в которой были восстановлены. В ее времена все были на «ты» даже с первым секретарем. Звали друг друга по имени. Все было, по ее словам, проще и свободнее. Теперь партийный аппарат сделался первостатейно бюрократическим. Секретаря именовали только по имени-отчеству. Никакого панибратства.
Мать не осудила меня за то, что я сошел с этой линии жизни.
Ранний палеозой
Новая жизнь приняла меня не сразу.
В Риге у меня жилья не было, и на работу в редакцию я ездил из Елгавы на электричке. Приезжал – таково было расписание поездов – рано, за полчаса до начала официального рабочего дня. В редакции таким образом появлялся первым. Мне сразу же сказали, что это не обязательно: народ наш собирался не раньше двенадцати дня, так что утром делать было почти нечего. Но я еще долго упрямо продолжал являться рано поутру. Дело в том, что я еще не мог представить, что если работа начинается в девять, то прийти можно и к двенадцати. В райкоме опоздание на пять минут являлось уже ЧП. Об армии и не говорю.
Точно так же далеко не сразу стало обычным, что можно спорить с любым журнальным начальством: с ответственным секретарем, заместителем редактора и даже с самим главным. И никогда спор не прерывался классическим: «Я начальник – ты дурак».
Помимо фельетонов, основанных на конкретных материалах, я писал сверхкороткие, на полстранички, рассказики, более похожие на анекдоты – только не услышанные, а придуманные опять-таки на основе реальных фактов нашей тогдашней жизни. Рассказы эти пошли неплохо; кроме нашего журнала их печатал «Крокодил», журналы других республик, переводили и публиковали в подобных же журналах стран соцлагеря, включали в сборники – рижские и московские.
Жил я почти целиком в мире латышского языка, и проблем с ним у меня оставалось все меньше, стало казаться даже, что он у меня с детства. Сложнее всего было с произношением: латышская фонетика местами представляет для русскоязычного немалые сложности. Мне говорили, что акцент у меня сохранялся, но какой-то неопределенный – не русский, не немецкий, никакой. Потом, узнав, что корни мои – в Латгалии, стали объяснять его именно этим обстоятельством: в Латгалии, где веками сосуществовали латышский, латгальский, русский, польский, еврейский языки, произношение у разных людей действительно сильно отличалось от нормы… Вскоре я поймал себя на том, что и мысли стал формулировать на латышском и даже сны стали сниться… Но я так и не стал писать по-латышски. Обработку чужих материалов делал, позже приходилось писать статьи, рецензии, но рассказы писал только на русском – из уважения к обоим языкам: латышским я уже владел свободно, но говорить и читать свободно – еще не значит владеть в совершенстве.
Интересно: обходясь без родного языка, я никогда не чувствовал себя чем-то обделенным, ущербным. Потому, может быть, что в свободное время не только писал, но и читал по-русски – этого, видимо, хватало.
Понемногу я привык к редакционной «свободе нравов». Но все же продолжал приезжать раньше остальных, и потому меня стали считать трудоголиком (хотя такого слова тогда еще не знали). И когда в редакции начались перестановки, они коснулись и меня. Перестановки были связаны с событием трагическим: скоропостижно умер наш главный редактор – прекрасный человек, работать с которым было одно удовольствие. Мы горевали, конечно. Но и сразу же стали пытаться решить возникшую проблему. Мы не хотели, чтобы ЦК прислал к нам нового главного: от того, кто сидит в этом кресле, зависит и моральная обстановка в редакции, да и сама работа. Мы послали в ЦК одного из наших ребят, и ему удалось втолковать там, что журнал отлично обойдется своими силами. В конце концов, нам поверили. Мы выдвинули своего кандидата; им оказался не заместитель главного, как можно было ожидать, но ответственный секретарь. ЦК с нами согласился. Когда с редакторским постом утряслось, ответственным секретарем назначили меня.
Я не стал отказываться. Из большой и светлой общей комнаты пришлось переселиться в тесную каморку, где помещался ответственный секретарь и тут же – машинистка, единственная женщина в нашей конторе. В этом секретарском кабинетике я и начал вскоре писать первый свой фантастический рассказ. Но об этом – в свой черед.
Работа в журнале меня удовлетворяла. Хотя иногда мне казалось, что кое-что можно было бы делать иначе. Ставить вопросы более значительные. И критиковать острее. Я понимал, конечно, что возможности сатиры в наших тогдашних условиях были весьма ограничены. Совсем по Крылову: «Суди, дружок, не выше сапога…» Разносные фельетоны – на уровне управдома, никак не выше. В редакции на эти темы никогда не говорили, понимая, что именно таковы условия жизни; рамки были установлены не нами, и мы старались в них вмещаться.
Я проработал в этом журнале пять лет. И не помню, чтобы там когда-либо возникали разговоры, которые можно было счесть антирусскими или антисоветскими. Не думаю, что ребятам все нравилось; даже мне, со всем моим воспитанием, чем дальше, тем большее было не по вкусу. Не зря же я тогда пристрастился к слушанию «голосов», которые, как их ни глушили, всегда можно было, проявив терпение и находчивость, отыскать в эфире. Просто жизнь приучила их к терпеливости – до первой реальной возможности, которую они и использовали, отделившись. Их стремления мне понятны; но, откровенно говоря, не думаю, что перспективы наших прибалтийских соседей радужны. Они перестали быть Западом для России, и стали тем, чем, собственно, всегда и являлись: дальним Востоком для Западной Европы.
Но как бы там ни было, жили мы тогда не грустно. Ежегодно устраивали конференции, посвященные юмору и сатире; в них участвовали три прибалтийских журнала и белорусский «Вожык». Конференция проводилась по очереди в Латвии, Литве и Эстонии. День уходил на обсуждения, премирование лучших карикатур и прочую «теорию», потом начиналась практика – на целую неделю. Пили и гуляли, каждая редакция, когда приходила ее очередь, старалась придумать что-нибудь похлестче. Осталась в памяти одна их таких конференций, в Эстонии. Отработав день в Таллине, погрузились в автобус и поехали в Пярну. Там нас посадили на рыбачьи шаланды и повезли на Кихну – маленький островок, на котором жили рыбаки. Мы должны были выступить перед населением, но перед этим было угощение на лоне природы: бочка пива, литров на двести, и здоровенные тазы со свежекопчеными угрями. Мы пили и ели, и жалко было, что на всю жизнь не наешься. Это, однако, оказалось лишь началом: когда мы направились в Дом культуры, где и надо было выступать, то обнаружили, что попасть туда не так-то просто: дом взяли в кольцо рыбаки, у каждого была бутылка в руке, другие – в оттопыренных карманах, и чтобы пройти за оцепление, надо было всерьез приложиться к бутылке, симуляция пресекалась. В результате выступавшие оказались в хорошем градусе – но и зрители им не уступали. Так прошла ночь, утром тронулись в обратный путь, и хозяева занялись всеобщей опохмелкой. На эти конференции приезжали и москвичи – никто не отказывался от приглашения. Это считалось балтийской экзотикой.
Вообще, прибалты многим отличаются от славян – но только не отношением к ней, проклятой: в выпивке никогда не уступали. Скорее, наоборот. Однако на работу это у них влияло как-то меньше, чем у нас.
Между тем начались шестидесятые годы, тогда никто не знал, что они впоследствии станут особой эпохой. Я работал по-прежнему в журнале, в отпуск ездил чаще всего в Москву, к маме. Мать получила в Москве комнату, дали ей и пенсию; как и многие вернувшиеся, она рассчитывала на другое: на возвращение к активной жизни и работе. Но уступать вернувшимся места никто не собирался, и вообще они, как бы законсервированные в лагерях, сохранившие (во всяком случае, большинство их) свои взгляды и представления о стране и жизни, вернулись, по сути дела, совсем в другую страну: иными стали не только времена, но и нравы. Они, конечно, переживали это – одни сильнее, другие слабее, сумев где-то пристроиться. Мы с мамой много говорили о жизни, о политике, о партии. Вспоминать о лагерном прошлом она не хотела. Там, в ее комнате, я написал многие из своих рассказиков.
В Риге я сделался постоянным посетителем Союза писателей, его русской секции, куда носил свои опусы на обсуждение. Но там не очень хотели этим заниматься: по мнению наших тогдашних мэтров (а мы, все еще молодые, считали таковым каждого члена Союза писателей), юмор был все-таки не совсем литературой или, во всяком случае, не «настоящей» литературой. Я обижался, ссылался на Марка Твена, на О'Генри, на Ильфа и Петрова (Зощенко был еще не в чести). Мне глубокомысленно отвечали: «Ну, так то Ильф и Петров»…
Я чувствовал, что мое желание заниматься сатирой усыхает на глазах.
Тем не менее на Четвертое Всесоюзное совещание молодых писателей я был приглашен именно как сатирик. Благодарить за это я должен редакцию «Крокодила». Именно при этом журнале несколько раньше возник Всесоюзный семинар молодых юмористов и сатириков, и я был включен в его состав. Среди участников семинара были люди, чьи имена сейчас хорошо известны: Аркадий Арканов, Григорий Горин, Марк Розовский, тогда, кажется, еще не помышлявший о режиссерской карьере. Нас учили (или пытались учить) тогдашние мастера жанра – Виктор Ардов, именовавший себя «Старшиной цеха сатириков», фельетонист Григорий Рыклин, Дыховичный, Слободской, Эмиль Кроткий…
Под руки, как патриарха, к нам выводили Давида Заславского, короля политического фельетона. Уже можно было говорить о Михаиле Кольцове, расстрелянном в 1937-м. Шли последние годы хрущевской оттепели, но мы не предчувствовали перемен к худшему. И устраивали овацию, когда Эмиль Кроткий читал свою эпиграмму:
Бойтесь кричащих «Сатиру – долой!»:
Мусор всегда недоволен метлой.
На это совещание я приехал уже со своей первой книгой.
Но это не был сборник сатиры и юмора. Хотя по объему мною было написано уже достаточно, чтобы собрать книжку, я на это так и не решился ни тогда, ни когда-либо потом. И правильно сделал.
(Хотя потом сатирические интонации будут присутствовать в моих книгах. Но то, как они проявлялись в тогдашних моих рассказах и фельетонах, меня, как я, всерьез задумавшись, понял, не устраивало.)
Поздний палеозой
Книжка, которую я привез на совещание в Москву, была фантастической повестью и называлась «Особая необходимость».
История ее возникновения кажется мне забавной. В ней странным образом соединились случайности и закономерности.
Впоследствии мне не раз приходилось, встречаясь с читателями, слышать вопрос: «Почему вы пишете фантастику, а не что-нибудь другое?» Сперва я старался ответить членораздельно. Потом стал сердиться и отвечать так: «Вы ведь не спрашиваете у поэта, почему он пишет стихи, а не очерки?»
К закономерностям я отношу то, о чем, собственно, уже сказал выше. Любовь к чтению фантастики. Интерес к освоению космоса. И даже романтический склад характера: не будучи романтиком, человек вряд ли станет фантазировать в таких масштабах. Закономерны также: возникновение в то время новой волны русской фантастики – «Туманность Андромеды» Ефремова и первые вещи Стругацких. Немалое впечатление произвел и первый (насколько помню), вышедший в издательстве «Иностранная литература» в 1960 году, сборник американских фантастических рассказов в русском переводе. Он помог раскрепощению мысли, переходу от фантастики близкого прицела к мышлению космическому – без ограничений в пространстве и времени (хотя многим авторам моего поколения переход этот дался нелегко, внутренний цензор сидел в нас слишком глубоко, пресекая многие мысли, все еще по привычке казавшиеся еретическими). Конечно, немалое влияние оказала и сама реальность – начало практического освоения космоса: и первый спутник, и еще более – полет Гагарина.
Все это, вероятно, так или иначе привело бы меня к фантастике. Но, быть может, значительно позже. И вот тут начали срабатывать случайности.
Первая из них, хотя и не решающая, заключалась в том, что в редакции «Дадзиса» был еще один серьезный любитель фантастической литературы. Он никогда не пытался писать фантастику, но был страстным читателем и строгим ценителем. Мы с ним постоянно разговаривали о фантастике – как и о современной физике и астрономии. Без этих разговоров я вряд ли набрался бы храбрости, чтобы попробовать свои силы в этом жанре. Вообще, решусь сказать, латышам в массе не свойственно романтическое мышление, история учила их другому; может быть, именно поэтому в Латвии так и не возникло сколько-нибудь серьезной национальной фантастики. Но этот мой друг и не был латышом, его звали Исаак Лившиц, в редакции он был Айк. Позже он стал прообразом одного из героев единственного моего нефантастического романа «Один на дороге». Снимаю шляпу перед его памятью.
Второй случайностью оказалось неожиданное обращение ко мне одного из рижских русских писателей, того, на которого была возложена подготовка очередного номера альманаха «Парус». Об этом издании я уже упоминал. Оно, как выражались некогда, влачило жалкое существование. Заполнялось произведениями русских авторов, живших в Латвии. Не могу сказать, что там не встречалось заметных имен; упомяну хотя бы Николая Задорнова (в наши дни известность его сына, сатирика, далеко превзошла отцовскую; но во всяком случае он был серьезным писателем, его исторические романы на дальневосточные темы читались с интересом). Но я, откровенно говоря, не помню, была ли хоть одна его вещь опубликована в «Парусе»: они выходили в столичных журналах, гораздо более оперативных, чем неповоротливый альманах. Жил в Риге и Дмитрий Нагишкин, автор известного тогда романа «Сердце Бонивура». Остальные же писатели были, как говорится, широко известны в весьма узком кругу. «Парусу» грозило закрытие: читателя он не привлекал, хотя из полугодичного сделался ежеквартальным, похудев вдвое. И вот, в поисках средств сделать его популярным, писатель этот обратился ко мне:
– Володя, ты же любишь фантастику. Почему бы тебе не написать фантастический рассказ?
Похоже, это был тот самый толчок, которого мне не хватало для того, чтобы прыгнуть в холодную воду. Быть может, я его даже подсознательно ждал. И согласился.
А вечером, поразмыслив, пожалел о своем решении. Я понял: для того, чтобы написать фантастический рассказ, у меня не было совершенно ничего – кроме желания. Не было чего-либо, похожего на замысел. Не мелькало ни единой фантастической идеи. Словом, все стояло на абсолютном нуле. Правда, имелось еще немалое честолюбие. И, пожалуй, непонятно откуда взявшаяся подсознательная уверенность: у меня что-нибудь да получится. А кроме того – азарт. Такой, наверное, возникает у блефующего игрока в покер.
И я принялся за работу, поставив своей целью написать рассказ страничек на тридцать. Замахнуться на большее у меня не достало смелости.
Наверное, легко объяснимо то, что я, еще в пятом классе начавший мечтать о космических полетах, в своем первом фантастическом опусе отправил героев именно в такой полет. Вероятно, то был путь наименьшего сопротивления. Я утешал себя тем, что в ранних книгах мастеров – и Лема, и Стругацких, в «Астронавтах» и «Стране багровых туч» – герои тоже летели к планетам и тоже в пределах Солнечной системы. Творил я главным образом в своем секретарском закутке, задерживаясь по вечерам. Писал от руки на оборотной стороне больших листов с журнальной версткой.
Работая, я понемногу начал понимать, что не способен составлять планы, заранее представлять, что именно я хочу создать. Заканчивая очередную страницу, я не знал, что случится на следующей. Содержание возникало как бы само собой. Иногда, написав несколько страниц, я вдруг понимал (как будто кто-то подсказывал в этот миг), что проскочил тот перекресток, где нужно было свернуть, чтобы действие продолжалось по нарастающей, а не начинало замедляться, потихоньку спускаясь вниз. Лишние страницы летели в корзину, я возвращался назад и двигался в новом направлении.
Поначалу я считал это своим недостатком и упрямо составлял планы – но все они с завидной последовательностью не выполнялись. Пришлось признать, что только так я и могу писать: импровизируя. Возможно, думал я, так и должна возникать фантастика: писатели, которых я знал, были реалистами, бытописателями и искренне удивлялись тому, что книгу можно выдумать, сочинить с начала до конца. Их сюжеты приходили из жизни, у них работала в первую очередь наблюдательность, а не фантазия. Однако же, думал я, не зря ведь в России в былые времена писатель назывался сочинителем…
Так я работаю и по сей день: более или менее точно знаю, что хочу сказать следующей книгой, но представление о том, как я это сделаю, в какие образы и сцены преобразуется мысль, остается самым туманным, а часто такого представления и вовсе не бывает. Но если написалось начало (пусть оно потом даже окажется лишним), текст начнет развиваться как бы сам собой, словно программа саморазвития заложена в него изначально, как в семечко – программа дерева. И тут, наверное, основным правилом автора, как и врача, должно быть: «Не навреди». Если же последуешь за планом, пришедшим от рассудка, а не от подсознательного ощущения, пойдешь «наперекор стихиям», то младенец родится, чего доброго, с деформированными членами и долго не проживет.
Теперь уже я не пытаюсь быть умнее природы и подчас с интересом слежу, куда повернет текст, что выкинут персонажи. Иначе писать просто не умею.
Но вернусь к первой повести. Написав запланированные тридцать страниц, я решил, что, пожалуй, придется расширить рамки до пятидесяти. Когда написал пятьдесят, понял, что все только началось. Пусть оно пишется, как хочет, а там видно будет. В общем, вместо задуманного рассказа получилась повесть на девять листов. Но годилось это куда-нибудь или нет, мне было совершенно непонятно. Требовалось постороннее авторитетное мнение.
Я перепечатал текст на старой, со сбитым шрифтом машинке, купленной еще в райкомовские времена в елгавской комиссионке, и вручил его Айку. Он прочитал – и передал рукопись своей жене Нине. Это было не просто так: она работала в редакции современной художественной литературы Латгосиздата (впоследствии это издательство стало называться «Лиесма»), и произведения всех русских авторов проходили через ее руки. Нина была известна строгостью суждений, и ее мнения я ожидал со страхом.
Вердикт был таким: у меня, похоже, есть способности. Но лучше бы показать Юре. Юрий Абызов – литературовед, критик и переводчик – был у нас наибольшим авторитетом по части словесности. Он прочел рукопись. И когда мы после этого встретились в компании, подошел ко мне, бросил рукопись на стол и заявил:
– Как это написано?! Это же не язык. Это воляпюк какой-то! Примитив!
Прискорбно, но он был прав. Сказалась неразработанность руки, предпочитающей выписывать привычные, знакомые слова, не поспевающей за мгновенно проносящимися мыслями и совершенно не намеренной участвовать в поисках чего-то, не столь заезженного.
Впору было бросить рукопись в корзину и забыть. Но я заупрямился. Тогда я еще не знал, что первые варианты лучше всего не показывать вообще никому, но дать отлежаться и потом прочитать как бы со стороны, «через плечо», как это называется (когда кто-то читает твой текст, а ты заглядываешь туда же над его плечом, он воспринимается совершенно иначе: видишь его как бы чужими глазами, и все огрехи сразу же начинают просто-таки криком заявлять о себе). Потом переписать, сделать второй вариант, который во многом будет противоположен первому; пишущий все может извлечь только из самого себя, и учиться ему приходится прежде всего на своих ошибках.
И снова взялся за работу.
Переделанный вариант я вручил заказчику, и рукописи альманаха отправились в издательство. К той же Нине.
А вскоре меня пригласил к себе заведующий редакцией и сказал:
– Положение такое. Если это идет в «Парусе», тираж будет пятьсот экземпляров. Но если ты заберешь оттуда и подашь заявку, издадим отдельной книжкой, и тираж будет девяносто тысяч.
Стыдно признаться, но мысли о солидарности с русскими коллегами в тот миг у меня даже не возникло. Я ведь о книжке даже и не мечтал, а тут издательство само предлагает. Конечно, я согласился.
Уже не помню, каким именно словом охарактеризовал мой поступок коллега из русской секции. Кажется, «ренегат», но не уверен. Могу только поручиться, что слово было далеко не похвальным. Я понимал, что заслужил его. Как понимал и другое: если бы такое предложение сделали ему, он тоже не раздумывал бы ни секунды.
Но на этом история с «Особой необходимостью» не завершилась. Вмешательство случайностей продолжалось.
Рукопись находилась в издательстве, а я продолжал работать в редакции, когда у нас там появились очередные гости из Москвы. К нам москвичи вообще заглядывали часто. Большинство их никак не было связано ни с юмором, ни с сатирой; просто у нашего журнала была добрая слава – многие в Москве знали, что гостей мы принимаем хорошо: напоим, накормим и развлечем по мере возможности. Нам нравилось быть гостеприимными.
На этот раз нас навестили два человека, собиравшиеся в соавторстве написать книжку о работе латвийских таможенников. Ребята просили посоветовать, с кем надо разговаривать и куда ехать. Одного из них звали Володя Зыслин, он работал в журнале «Вокруг Света», а точнее – в начавшем недавно выходить приложении к журналу, называвшемся «Искатель». Тогда это было единственное периодическое издание, регулярно публиковавшее фантастику.
Мы поболтали в редакции, а к вечеру всей компанией двинулись в ресторан. Расставаться никому не хотелось, и кто-то из москвичей, когда ресторан стали закрывать, предложил продолжить вечер у них в гостинице.
Так и сделали. Когда темы для разговора вроде бы иссякли, Володин спутник предложил сыграть в очко – для развлечения. У нас в редакции любимой игрой были вообще-то шахматы (из восьми человек двое были кандидатами в мастера, один имел первую категорию и еще один играл в такую же силу, хотя официальной аттестации не имел), а также «новус», или канадский бильярд, в который играют на квадратном полированном столе не шарами, а шайбами. В карты в журнале не играли, но предложение приняли. Наверное, из всех пятерых или шестерых у меня голова оставалась самой ясной – так или иначе, когда игра закончилась, оказалось, что я выиграл у обоих гостей около пятисот с лишним рублей – новых, 1961 года, дорогих. Они сказали, что рассчитаются, хотя и не сразу, и мы пошли по домам.
Назавтра москвичи появились в редакции; лица их были полезного для глаз зеленого цвета. Мы-то успели уже несколько поправиться. Тут же принялись лечить и их. А я, чтобы улучшить настроение гостей, сказал:
– Вы, конечно, понимаете, ребята: это все было в шутку…
Они воскресли прямо на глазах. Но Володя стал искать возможность отблагодарить меня за спасение своей чести.
Не знаю, что он придумал бы, если б не Айк. Он сказал Зыслину по секрету, что у меня написана фантастическая повесть, но сам я стесняюсь показывать ее москвичам. Володя потребовал, чтобы я дал ему экземпляр. Я так и сделал, однако без надежды на успех.
На следующий день он сказал мне, что прочитал и ему понравилось, но тут же предупредил, что окончательное решение принадлежит не ему:
– Что давать, а что – нет, решает у нас Лида Чешкова, у нее вся журнальная проза. А Лиде, – продолжал Володя, – фантастика уже надоела – завалили рукописями. Так что за успех не ручаюсь.
Я, впрочем, и не очень рассчитывал. Но когда через какое-то время Зыслин мне сообщил, что Лиде в общем понравилось и надо приехать, чтобы поработать с редактором, я собирался недолго.
Лида оказалась прелестной девушкой, в которую трудно было не влюбиться. Редактор расправился со мною, как повар с картошкой; я только глядел ему в рот. И повесть пошла. А вскоре ее запустили в производство и в Латгосиздате – после того, как была получена внутренняя рецензия. Написал ее Аркадий Натанович, а послали рукопись ему по моей просьбе. Рецензия была от руки, занимала полстранички, и вывод был одобрительным.
Вообще, бывая в Москве в те времена, я не стремился познакомиться с известными тогда фантастами: я всегда чисто подсознательно избегал вертеться вокруг людей известных, это свойство сохранилось и сейчас. Но было одно исключение: Аркадий Натанович. Видеть и слушать его для меня каждый раз было радостью, его эрудиция потрясала. А других знакомств в те дни в Москве я не завел. Однажды А. Н. привел меня на семинар, который он вел, и представил встретившемуся по дороге человеку, чуть ли не с ног до головы опутанному бинтами, с ногой в гипсе; передвигался он с помощью костыля и палки. То был Север Гансовский; сдружились мы с ним значительно позже – к сожалению, уже немного времени оставалось до его смерти. С его сестрой я познакомился раньше, в Риге; она была женой Валентина Пикуля, у которого я изредка бывал.
Сейчас я удивляюсь: почему во время наездов в Москву у меня не возникало чувства оторванности от центра русской фантастики, желания находиться поближе к нему? Ведь такое чувство было бы для провинциала естественным. Вероятно, срабатывал своего рода инстинкт самосохранения. Я уже знал за собой слабость, свойственную, впрочем, не только мне: легко подчиняться влиянию языково-стилистической манеры авторов, которые мне нравились. Я всячески старался избежать такого подчинения; в частности, собираясь начать какую-то новую вещь, заблаговременно переставал читать книги таких писателей. А будь у меня возможность общаться с ними лично, в том числе и с лучшими из наших фантастов, освободиться от их влияния было бы куда труднее. Не уверен, конечно, что и так это удавалось всегда; но все же в отдалении от них было намного легче говорить своим голосом.
…Пока книжка выходила, я, воодушевленный успехом, принялся за рассказы. Правда, наступил вынужденный перерыв: пришлось полежать в больнице с инсультом. Но мне и тут повезло: я попал в отделение, где врачом, среди прочих, был мой хороший приятель. Впрочем, моих коллег по редакции, вскоре пришедших узнать, как дела, доктор не обнадежил: сказал, что им, похоже, надо скидываться на веночек. Я этого не знал и стал благополучно выздоравливать. Потом он признался мне, что поначалу заподозрил аневризму сосуда – а это означало, что, не успев зажить, он прорвется снова (именно так умер мой сосед по палате, восемнадцатилетний грузчик, с виду здоровый, как молодой бычок). В конце концов мы с доктором согласились на версии, что то был результат осложнения после гриппа. С той поры я продолжаю работать без такого рода приключений (тьфу, тьфу, тьфу и стучу по дереву). Эта хвороба меня настигла, когда я сделал очередной шаг в карьере: был назначен в журнале заместителем главного. Ситуация повторилась, с той только приятной разницей, что наш главный, живой и здоровый, был переведен на пост главного редактора журнала «Звайгзне». Произошла очередная передвижка: заместитель стал наконец главным, а меня посадили на его место. Было и еще приятное: пока я лежал в больнице, ребята (во главе с тем же Айком, нашим, кроме прочего, секретарем парторганизации) ходили в ЦК и выбили для меня комнату. Так что отпала надобность ездить ночевать в Елгаву.
Освободившееся время пошло на литературу. Я написал несколько рассказов, из которых со временем составились сборники «Черные журавли», «Люди и корабли», «Исток». В республике я стал как бы монополистом на фантастику. А написанную в ту же пору повесть «Спутник «Шаг вперед» я предложил «Искателю», как до того и рассказ «Черные журавли», и эти вещи тоже были там опубликованы. (Позже я эту повесть расширил, и она вышла книжкой под названием «Люди Приземелья». Эту книжку я не люблю, да и многие говорят, что журнальный вариант был лучше.)
Дела шли как будто бы наилучшим образом. Но я чувствовал все большую неудовлетворенность.
Началось это вскоре после того, как я стал заместителем главного. То есть почувствовал себя руководителем. Мне стало казаться, что мой шеф слишком уж перестраховывается, не позволяет нам даже того, что казалось мне в тех условиях возможным. Во времена Хрущева трудно было заранее сказать, к чему может привести тот или иной шаг: к одобрению или полному разгрому. Я считал, что нужно рисковать, и ставил в номер материалы поострее. Никто не возражал, но когда приходила верстка, я с изумлением видел, что на этом месте стоит совершенно другой текст – безопасный. Замену делал главный – ни слова не говоря мне, наверное, чтобы не ранить моего самолюбия. Но это было полбеды, а вторая половина заключалась в том, что материалы для замены он брал из своего стола, куда попадали главным образом статьи слабые, над которыми в лучшем случае надо было еще работать. Раз, другой, третий – и я начал всерьез думать о том, не пора ли искать новую работу.
Подвернулось неплохое вроде бы предложение. Собкор «Комсомолки» уходил главным редактором в «Советскую молодежь» и принялся сватать меня на освобождавшееся место. Почему – не знаю: с комсомолом у меня особой дружбы не водилось. Все же предложение показалось мне заманчивым, и я поехал в Москву представляться. Там посомневались – мне было уже почти тридцать четыре года, многовато вроде бы, – но решили попробовать. Договорились, что я, не уходя пока из журнала, начну работать и для них.