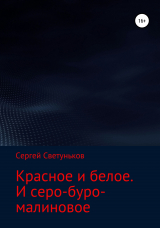
Текст книги "Красное и белое. И серо-буро-малиновое"
Автор книги: Сергей Светуньков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Утром, когда Живоглоцкий ещё нежился в постели, ему в номер принесли кофе со сливками, круассан с яблочным повидлом, сливочное масло и свежие газеты. Живголоцкий понял, что возглавлять революцию куда как выгоднее, чем быть её простым исполнителем. А ещё он со всей очевидностью понял, что не зря пострадал от царского режима и не зря мучился в нечеловеческих условиях в далёкой сибирской ссылке десять лет. Теперь он осознал, что все его «страдания» воздались ему сторицей. И против имени «Лев» он тоже не возражал – мало ли что будет с революцией дальше? А так и имя чужое, и фамилия не по паспорту.
После завтрака Живоглоцкий решил прогуляться по городу, но выйдя из номера, он вдруг увидел у своих дверей двух солдат винтовками и с красными бантами на груди. Он испугался, что его арестовали:
– А что… это вы тут… делаете? – Промяукал, а не прорычал Лев.
– По решению Головотяпского совета рабочих депутатов… – начали отвечать солдаты, и душа у Живоглоцкого ушла даже не в пятки, а выползла за их пределы, – Вам, товарищ Живоглоцкий, приставлена персональная охрана из солдат революционного Загрязнушкинского полка! Для того чтобы защитить Вас от контрреволюции.
Из всей большевистской ячейки, которая пыталась совершить июльский переворот, Алик Железин был менее всего причастен к этому событию. Поэтому, когда Зойка Три Стакана и Камень скрывались в шалаше в Отливе, Алик продолжал свою скромную работу в Совете и в Исполкоме Глуповского совета. Поскольку Алик координировал организацию работы Совета, то в его подчинении оказались все секретарши и помощники депутатов. Железин, кроме того, контролировал кухню и уборщиц, словом – взял на себя всю черновую работу по функционированию Совета и его исполнительного комитета. Кроме того, он руководил спаренынм выпуском газеты «Известия народных депутатов – Глуповская правда». Важных решений он не принимал, но всё контролировал. И надо сказать о том, что это у него получилось очень хорошо. Железин лично себе и другим руководителям обеспечил вполне комфортные условия жизни, но, как ни странно, ни копейки себе не припрятал. В этом смысле он был кристально честен.
В ситуации, когда Живоглоцкий вдруг оказался председателем Совета, Железин не растерялся, а тут же велел секретаршам распечатать несколько проектов постановлений исполкома по этому поводу, а сам исполком, в очередной раз удивившись своевременности проектов, без возражений утвердил их.
Сами постановления определяли, что:
1) товарищу Живоглоцкому как председателю исполкома из фондов гостиницы «Аврора» выделяется лучший номер для проживания. Расходы отнести за счёт средств Совета;
2) для обеспечения жизни и здоровья товарища Живоглоцкого обязать Загрязнушкинский запасной полк организовать из числа военнослужащих этого полка круглосуточную охрану товарища Живоглоцкого. Расходы по охране отнести за счёт средств полка;
3) поставить товарища Живоглоцкого на круглосуточное довольствие по усиленному пайку как пострадавшего при царском режиме и установить ежемесячную оплату его непосильного труда в размере, соответствующего оплате труда Председателя Совета рабочих депутатов. Расходы отнести за счёт средств Совета;
4) установить товарищу Живоглоцкому ненормативный режим труда. Расходы труда отнести за счёт самого товарища Живоглоцкого.
Примерно неделю товарищи депутаты носили Живоглоцкого на руках, поскольку стоило ему только крикнуть «Товарищи», как у депутатов срабатывал условный рефлекс и они тут же хватали его на руки и выносили вон. А у него в голове давно уже сложилась программная речь, которую он никак не мог изложить депутатам. Постепенно Живоглоцкий понял, в чём дело, и как-то утром, оказавшись на трибуне Совета, не гаркнул как обычно, а спокойным голосом произнёс:
– Товарищи!
Зал затих, а не оброс бурными овациями, как обычно. Живоглоцкий радостно продолжал:
– Товарищи депутаты. Революция дала нам свободу. Революция дала нам относительное равенство. Но абсолютного равенства мы не достигли. Когда наступит абсолютное равенство и царство свободы?
Он бросил долгий ожидающий взгляд в зал. Никто на этот вопрос ему не ответил. Тогда Живоглоцкий, не дождавшись ответа и укоризненно покачав головой, продолжил, подняв вверх указательный палец правой руки:
– Когда, товарищи, наступит коммунизм!
Зал ахнул: и как это депутатам в голову раньше такая простая мысль не пришла?
– Точно! Правильно! Верно! – Раздались выкрики с мест.
– А можем ли мы, товарищи, уже завтра объявить у нас с Головотяпии и вообще в России и во всём мире коммунизм?
Зал вновь замер от неожиданности и наморщил лоб в поисках ответа на этот вопрос. Живоглоцкий, выдержал паузу, и продолжил:
– Не можем. Потому, что перед коммунизмом стоит вначале социализм.
– Верно! Точно! Правильно! – Отвечал зал с облегчением.
– А можем ли мы завтра объявить у нас в Глупове, в Головотяпии и во всей России социализм?
Тут вдруг проснулись меньшевики и закричали:
– Нет, не можем! У нас и капитализма нет! Нам сначала, как учил Маркс, надо войти в капитализм и пройти его, а уж потом и социализм наступит.
Зал согласился с меньшевиками – что тут попишешь? Раз какой-то Маркс сказал, значит, так тому и быть. Интеллигенции виднее.
Но Живоглоцкий криво усмехнулся и укоризненно покачал головой:
– Некоторые товарищи тут считают, что нельзя, что нам надо вначале объявить капитализм, а уж потом приступить к социализму. И это на первый взгляд полностью соответствует доктрине Маркса с его дружбаном Энгельсом. Но это, товарищи, схоластический взгляд на марксизм!
В зале никто не знал, что такое «схоластический взгляд», кроме некоторых меньшевиков и двух эсеров. И вновь все депутаты прониклись к Живоглоцкому особым уважением, переглядываясь, в восхищении качая головами и причмокивая языками.
Живоглоцкий продолжил:
– А настоящий революционный взгляд на марксизм показывает нам, что мы, революционеры можем всё. Вот тут некоторые меньшевики заявили, что мы не можем перешагнуть сразу из сего дня в социализм, потому что нет у нас капитализма (Выкрики из зала: «Не можем!»).
Живоглоцкий скривил рожу и, передразнивая меньшевиков, повторил:
– Не можем, не можем, не можем. Можем! А мы и не будем перешагивать! Мы подойдём к делу творчески. Итак, товарищи, прошу внимания.
Депутаты затаили дыхание, понимая, что сейчас произойдёт что-то историческое. Живоглоцкий услышал, что все перестали дышать, а потому стоял на трибуне и делал вид, что что-то ищет в своих бумажках – как великий артист он держал паузу. На самом деле у него в руках были многочисленные восторженные письма глуповских гимназисток и женщин в возрасте, которые после опубликования портретов Живоглоцкого в местных газетах, были в него отчаянно и поголовно влюблены и предлагали Живоглоцкому в письменном виде свою любовь до гроба. Одна даже предлагала любовь и за гробом.
Во время этой паузы, которую так эффектно держал Лев, от недостатка кислорода скончался один меньшевик и два беспартийных депутата.
Живоглоцкий полистал письма от дамочек, полюбовался на нарисованные на полях, закапанных слезами писем, сердечки, ромашки и амуры, после чего обратился в зал, наклонившись вперёд и протянув правую руку к депутатам:
– Властью, данной мне Глуповским советом рабочих депутатов, объявляю КАПИТАЛИЗМ в отдельно взятой Головотяпии.
И, торжествующе посмотрев в сторону фракции меньшевиков, сказал им:
– Ну что? Съели?! – И показал им язык.
Зал с облегчением вздохнул воздух – всего-то и делов, капитализм какой-то.
Тучи сгущаются над буржуинами
После того, как Зойка Три Стакана, Камень и Кузькин прибыли в Отлив, в Глупове большевики как-то сами собой «рассосались» и ушли на второй план, хотя Железин и выпускал за счёт средств Совета «Глуповскую правду». В основном он перепечатывал наименее острые статьи из «Правды», которую издавали большевики в Петрограде. Острые полемические статьи в газету писал Закусарин, который сдружился с Железиным и даже научил того писать передовицы. Закусарин же приносил из Отлива маленькие статейки Зойки Три Стакана, которые она писала «по пьяни», поскольку на трезвую голову она ладно писать не могла – слова не складывались. Эти статьи шли на первую страницу.
Закусарин, как основной автор «Головотяпской правды» на страницах газеты смело клеймил позором с марксистских позиций местных молочниц, недоливающих в крынки молока, империалистов и буржуинов всего мира, а также непреодолимую тягу головотяпов к самогону. Его речь, составленная правильно, и содержащая в себе красивые словосочетания (студент, всё-таки!), всегда украшала любые митинги и Николая всегда приглашали на все митинги.
Жизнь Железина протекала спокойно – он, как член исполкома, получал хорошую зарплату в Совете; ходил на все митинги, но не выступал на них, поскольку голос у него был тихий, да и говорил он по-русски с сильным армянским акцентом. На митингах он всегда взбирался на трибуну и стоял непременно сзади и сбоку – так, чтобы не выпячиваться, но так, чтобы его видели. Народ, собиравшийся на митингах, постепенно запомнил его лицо и на улицах уже узнавал его, здороваясь. Поскольку он был секретарём партийной ячейки, оставшимся у власти, то к нему шли солдаты, бежавшие с фронта, или молодые крестьяне, покинувшие деревни, и просили его принять их в большевики. Он никому не отказывал и записывал в партию всех желающих, для чего использовал уже новую амбарную книгу. При этом он беседовал с каждым из вступающих в большевики и со многими завязывал дружеские отношения, угощая чаем с сушками.
Если к приезду Зойки Три Стакана он был первым большевиком, но не единственным, поскольку после создания ячейки по всей Головотяпии отыскались ещё семнадцать большевиков-одиночек, то к началу осени большевиков оказалось уже 171 человек, а это – существенный рост.
Правда, маргинальная молодёжь и дезертиры с фронта записывались не только в большевики, но и в другие партии. Особо много молодёжи из деревень и сёл вступало в эсеры – последние призывали немедленно всю землю отдать крестьянам. Меньшевики говорили о необходимости постепенных действий в земельном вопросе, а большевики (из-за отсутствия Зойки Три Стакана) по этому поводу молчали или говорили что-то невнятное о том, что мы, мол партия рабочих, поэтому интересы рабочих и защищаем. В эсеры записалось уже двести человек и всего их на Головотяпии было 234 человека, а меньшевиков – 183.
Жизнь Зойки Три Стакана, Камня и Кузькина текла мирно и сладко тягуче. Стояло тёплое лето, денег, взятых из кассы Совета, хватало на беззаботную жизнь, Кузькин с приятелем на эти деньги доставали самогон и еду, на ночь устраивали политические сходки с отдельными жителями деревни, где, как всегда, стоял вопрос «что делать?» Выпив третий стакан за здоровье всех присутствовавших, Зойка Три Стакана обычно втягивалась в политические дискуссии с местными крестьянами и редко кому удавалось её переубедить – она говорила коротко и просто, хотя и привирая некоторые слова:
– Пролетарии, то бишь рабочие, уже ничего не теряют… Кроме портков… Поэтому – они носители революции, а крестьяне, хоть и имеют кое-что типа охи да омута… Ах ты чёрт, – сохи да хомута, но трудятся на бар. До сих пор. А почему у них земля? Отцы и деды эту землю потом проливали. И что? Почему помещик ничего не делает и всё имеет, а вы все делаете и ничего не умеете? Доколе? Кто виноват? Что делать? Отдать фабрики рабочим, а землю крестьянам, да ещё войну прекратить! Слышь, мужики, ведь германцы в шинелях – те же крестьяне и рабочие, такие же обманутые, как и вы. Увидят, что мы бросили воевать, сами перестанут стрелять, более того – скинут своих помещиков и фабрикантов. И всё заберут себе. Так и произойдёт мировая революция, и все будем жить хорошо! Богатых не будет. При социализме. А потом и вовсе будет всё общее – ка-му-ни-зьм.
Такие беседы жителям деревни Отлив были по нутру, тем более что при этом их задарма поили и давали закусывать. Так шли дни и вечера, ночи – и снова дни, вечера и ночи… Утра в этом цикле не было, поскольку подпольщики ложились спать уже перед рассветом, а просыпались только к обеду. Не изменилась ситуация и в сентябре. Правда, уже стало сложнее матросу Камню, проснувшись, нырять в речку Грязнушку для того, чтобы снять ночное похмелье после политических дебатов – вода стала холодной.
Приходивший раз в неделю из Глупова Н.Н.Закусарин рассказывал подпольщикам о том, что происходило в городе, но Зойка Три Стакана в последнее время слушала его всё более и более рассеяно и думала только о том, что Камень, очевидно, охладевал к ней.
Действительно, Камень любил в Зойке Три Стакана дикую буйность, непредсказуемость, лихость. А здесь, в Отливе в шалаше всё было как-то буднично и предсказуемо. Зойка Три Стакана была страшно некрасивой бабой – невысокая ростом, с узенькими плечами и большой головой, кривыми ногами и большим ртом, который открывался параллельно губам, как у щелкунчика. Неистовство в политической жизни переходило у неё и в неистовство в постели – Камень каждый раз втягивался ею в какой-то магический шабаш и восторгался этим. Здесь в деревне, не смотря на постоянные пьянки, бесшабашная энергия Зойки Три Стакана куда-то подевалась. И в целях конспирации она стала одеваться в простую женскую одежду, как все окружающие её крестьянки, и в поведении её, и в её голосе появились простые бабские нотки. Словом, перед матросом Камнем вместо Зойки Три Стакана постепенно появлялась простая крестьянская баба – Зойка. Чувства Камня стали ослабевать, и он всё чаще стал заглядываться на деревенских баб, и даже стал смачно шлёпать их по упругим задам, демонстрируя свои вполне дружелюбные намерения.
Однажды утром появился Закусарин и пересказал новости политической жизни. Он сообщил о том, что Живоглоцкий объявил капитализм и вот-вот объявит социализм, а там и до коммунизма рукой подать. Будучи ещё молодым человеком, Николай Закусарин отчаянно волновался и переживал по поводу того, что большевики не заметили капитализма и именно Живоглоцкий, а не они, провозгласил капитализм.
– Социализм сразу не объявить, – в сомнении качая головой, заявила Зойка Три Стакана. – Надо вначале устроить диктатуру пролетариата, а уж потом объявлять социализм. Так нас Маркс учит. Что ещё нового?
Закусарин рассказал, что раненые солдаты в госпитале стали открыто роптать на Лизку Ани-Анимикусову, поскольку утра стали холодными и им, видишь ли, зябко; Совет заседает не регулярно, поскольку в основном носит Живоглоцкого на руках; мука из госзапасов исчезла, и в булочных наблюдается отсутствие хлеба. В очередях, которые глуповские бабы занимают с утра, ругают «на чём свет стоит» Временный комитет, Глуповский совет и Хренского, который стал во главе Временного комитета. Дело в том, что Ани-Анимикусов приболел подагрическими болями и отправился вместе с женой в своё имение Болотно-Торфяное, в котором бил горячий источник целебной воды и целебных грязей. Ежедневно князя погружали в грязи, потом омывали целебной водой и тем самым снимали болезненные ощущения. Князь попросился у Комитета в отставку, но её с благодарностью и слезами на глазах не приняли, а дали только отпуск. Поскольку наиболее бравый вид из оставшихся министров имел только Хренский, а Митрофанушка отправился за барином в усадьбу на грязи, то Хренский и был избран Временным председателем Временного комитета и министром по внутренним делам.
По этому поводу жизнь в Глупове оживилась, Хренский устраивал митинги, на которых выступал с пламенными речами – они занимали всё его свободное время, и управление в Глупове осуществлялось как-то само собой – без указаний и распоряжений. Правда, при отправлении на германский фронт очередного поезда с глуповскими призывниками произошёл казус – новобранцы не хотели ехать и отчаянно пытались сбежать. Тогда Хренский собрал митинг, на котором призывал солдат отдать за Отечество последнюю каплю крови и воевать до победы. Тут кто-то из призывников закричал:
– Айда с нами, ты, Хренский! Кровь за отечество сдавать!
И тут же солдатами Хренский был стянут с трибуны и запихнут в вагон поезда, уезжающего на германский фронт. Хренский отчаянно сопротивлялся, визжал и кусался, но крепкие мозолистые крестьянские руки безжалостно подавляли все его попытки вырваться на свободу. Так бы он и уехал на фронт, где сгинул бы навсегда для Истории, но один из солдат, поведя носом, заметил:
– Да отпустите его, братцы! Он же от страха обделался!
И действительно, Хренский обделался. Одно дело – кричать на митингах о войне до последней капли крови, не щадя живота своего, и посылать других на фронт, а другое дело – проливать свои капли крови и не щадить живота своего. Хренского выбросили из вагона, уже набиравшего скорость поезда, и вдогонку выбросили ему пачку листовок Временного комитета, в которых давались уезжающим на фронт наставления о том, как бить германцев:
– На! Подотрись своими листовками! Засранец!
Правда, в местных буржуазных газетах со слов самого Хренского всё было подано иначе. Он, мол, сел в теплушку с солдатами, чтобы подбодрить их в дороге. А подбодрив их до нужного уровня, он незаметно на ходу сошёл с поезда, а воодушевлённые им солдаты с песнями поехали далее защищать «Родину мать – наше Отечество».
Рост числа записавшихся в большевики был значительным. Их уже было по всей Головотяпии 666 человек – больше чем эсеров и меньшевиков.
Послушав это всё, Зойка Три Стакана поняла: надо действовать! И действительно, Камень на вечерние диспуты с самогоном уже не появлялся и ночью в шалаш воровато не прокрадывался, как это бывало в последнее время. Более того, он вообще трое суток пропадал неизвестно где.
Отпустив Закусарина в Глупов со строгим наказом без неё социализм не объявлять, Зойка Три Стакана сидела возле шалаша и ждала возвращения Камня, выдумывая для него самые страшные ругательства и проклятия, какие только существовали в русском языке. Камень так и не появился.
Ранним утром следующего дня у шалаша появился деревенский сосед по фамилии Рябинин, длинный и худющий сорокалетний середняк, который, присев рядом с Зойкой Три Стакана на пенёк и, поковыряв для приличия некоторое время палкой в траве, поднял голову, посмотрел Зойке Три Стакана в глаза и с кривой ухмылкой произнёс:
– Слышь? Камень-то послезавтра к Таньке Сохатой сватов засылать будет, – и, помолчав, добавил, – родители-то согласны.
Зойка Три Стакана быстро взглянула на него, и спросила:
– С чего бы это – согласны?
– Как с чего – денег кучу отвалил, да и сам – мужик крепкий, к крестьянскому делу спор. Чем не жених!? Грит к своей – к тебе то есть, – не вернусь, надоела!
Тут Зойка Три Стакана поняла, куда так быстро исчезли деньги, которые они прихватили из кассы Совета, когда отправлялась в подполье – пошли на подарки молодухе и её родителям! Зампред исполкома, называется!
– Спасибо, сосед, – поблагодарила она собеседника, просто и как-то очень по-женски сердечно без ожидавшихся соседом истерик и воплей.
Рябинин растрогался от такого проявления бабского горя, и, расчувствовавшись, тепло попрощался с Зойкой, и отправился домой, качая головой, осуждая про себя поведение Камня.
Звериным женским чутьём Зойка Три Стакана поняла, что устраивать скандалы, рвать волосы у соперницы, отнимать украденные деньги – значит окончательно порвать с Камнем. А его она любила, сильно и страстно. Единственный способ вернуть его – это вернуть себя, бросить эту сельскую идиллию с шалашом и с соловьями по утрам, с песнями и кострами, и вновь ругаться, бороться, отчаянно бороться, бороться со всеми, хоть с самим чёртом.
Она поднялась с пенька и, расправив плечи, тяжёлой походкой направилась мимо шалаша в избу. Зайдя в комнату, в которой её соратники по подпольной работе опохмелялись после вчерашнего теоретического диспута, она, ни на кого не глядя, заявила:
– Завтра в четверг идём в город – революцию делать!
– А почему не сегодня? – Спросил Кузькин, который пил вместе со всеми, но пьянел меньше всех – всё же закалка, сапожник. Он уже опохмелился и был готов к активным действиям.
– Сегодня ещё рано, – ответила Зойка Три Стакана.
Ей ведь надо было расставить юбку – лето в деревне на здоровых харчах, да на свежем воздухе превратили её в довольно пышную бабу, а являться в город надо было именно так, как она его покинула, как её все запомнили, а не в простой женской одежде.
– А почему не послезавтра? – спросил Рябинин, который зашёл в избу по-соседски и только-только пригубил четверть стакана самогона.
– Послезавтра будет поздно! – Зойка Три Стакана вспомнила, что Камень будет засылать сватов именно послезавтра и добавила жёстким, не терпящим возражение голосом. – В четверг, и больше никогда!
Пока Зойка Три Стакана приводила в порядок свою революционную одежду, её соратник Кузькин собирал с собой провизию – в городе было голодно. Молва о том, что Зойка Три Стакана с собутыльниками собирается идти делать революцию, разнеслась по всей деревне. К вечеру она докатилась и до Камня, который любезничал с Танькой Сохатой на сеновале.
– Ничё! Перебесится, уймётся! А нам и тут хорошо, правда, Тань?
– Правда, котик! – Прижавшись к мощному торсу Камня промурчала Таня, чей муж погиб в первые же дни войны, и которая очень соскучилась по грубой мужской ласке за прошедшие вдовьи годы. Вот, наконец, и ей выпал кусочек простого женского счастья от обильного пирога жизни, который судьба проносила, было, мимо. Котик довольно потянулся и прижал Таню к груди так, что у неё затрещали все кости.
– Ах!
На следующее утро 20 октября с первыми петухами Зойка Три Стакана вышла из шалаша в кожаной тужурке, мужских шароварах и сапогах – юбку ушить она не успела, поэтому быстренько укоротила штаны Кузькина. Деревенские мужики, оповещённые о великом исходе, удивлённо спросили её, глядя на штаны:
– Ты чё? Зойк? В мужское вырядилась. Шла бы в бабском…
– В бабском пусть теперь Хренский бегает! – Отвечала им Зойка Три Стакана, потуже затягивая ремень на штанах.
За пол часа, с сопровождающим её Кузькиным и любопытствующими деревенскими мужиками и бабами, она дошла до железнодорожной станции, взяла штурмом паровоз, одиноко стоящий на станции, и к началу девятого часа утра была уже в Глупове.
К этому моменту на вокзале Глупова стоял воинский эшелон с частью, направлявшейся на германский фронт. Точнее – с частью, категорически не желающей ехать на фронт. Солдаты, вооружённые винтовками и пулемётами, арестовали своих офицеров и выбрали солдатский комитет, который не подчинялся никому, разве что Глуповскому совету, да и то – с оговорками. Солдаты регулярно отцепляли паровоз, который по распоряжению Временного комитета и с согласия городского Совета должен был отвезти их на войну. Машинистов при этом довольно изрядно били. Поэтому, завидев в то октябрьское утро приближающийся к станции на всех парах паровоз со стороны деревни Отлив, они решили, что их в очередной раз хотят обманом отправить на фронт. Как только паровоз остановился возле первой теплушки, море штыков окружило его, а машинист зарылся в уголь.
Зойка Три Стакана выглянула из кабины, и, увидев грозную толпу солдат, готовых её растерзать, не испугалась, а напротив, почувствовала давно забытый прилив сил и во весь голос закричала в толпу:
– Доколе?!
Солдаты, собиравшиеся нанизать её на сотни штыков и разрезать на тысячи кусков, опешили. Зойка Три Стакана, воспользовавшись паузой, взобралась при помощи Кузькина на крышу паровоза и стала обращаться не только к тем, кто был непосредственно у паровоза, а ко всем, кто её слышал. А слышно её было далеко.
– Доколе, я вас спрашиваю, мы будем терпеть это унижение? Нас посылают на бойню, на германский фронт. А зачем? Чтобы убивать таких же крестьян и рабочих как мы? Затем, чтобы дворяне, помещики и купцы богатели и жирели на нашей крови? Для этого? Доколе, я вас спрашиваю?
– Верно, – загудели солдаты, – доколе?
– Не допустим! Мы, большевики, против этого! Долой войну! Вся власть народу! Да здравствует революция! Ура! – Закричала Зойка Три Стакана, и вся солдатская масса закричала «ура» вместе с ней.
– Товарищи! Есть ли у вас солдатский комитет? – обратилась она к солдатам.
– Есть, есть, вот они. – К Зойке Три Стакана вышли пятеро членов солдатского комитета.
Зойка Три Стакана ловко соскочила с паровоза, поздоровалась с товарищами из комитета за руку, и представилась:
– Зойка Три Стакана, большевик, нахожусь в подполье, скрываюсь от преследований Временного комитета за мою революционную деятельность. Надо, товарищи, брать власть в свои руки.
Солдатский комитет не возражал. Надо брать – так надо! Только вот неувязочка – что-то не верится, что ты, женщина в самом соку, можешь взять власть в свои не очень хрупкие, но всё же женские руки. И этот с распухшей мордой рядом с тобой – как-то вы не очень похожи на подпольщиков…
Тут самое время сказать о том, что поскольку в городском Совете депутатов Железин занимался оргвопросами, то он по должности часто бывал на вокзале. Там он всеми силами пытался отправить солдат на фронт, поскольку солдаты разбойничали в городе, но делал он это так незаметно, что и подумать никто не мог о том, что паровозные бригады внезапно появлялись у воинского эшелона именно по его наущению. В это знаменательное для Глупова утро Железин оказался на вокзале якобы с очередной ревизией угольных запасов и присутствовал при триумфальном возвращении Зойки Три Стакана. Подождав некоторое время в толпе за спинами солдат – чем всё это закончится, и не будут ли солдаты бить Зойку Три Стакана, – он появился перед её глазами в самый нужный момент, когда решалось, что нужно брать власть в свои руки:
– Здравствуйте, Зойка Три Стакана! Глуповский городской Совет ждёт Вас! Соскучились даже… – Мягким голосом с кавказским акцентом обратился он к ней, просочившись сквозь солдатскую массу.
– Аааа! Алик Железин! Дай я тебя обниму, старый друг! – Зойка Три Стакана обняла Железина и смачно три раза его поцеловала.
– Это, товарищи, – обращаясь к солдатскому комитету, и держа Железина за плечо, как бы боясь, что он убежит, сказала Зойка Три Стакана, – старый глуповский большевик, член городского Совета товарищ Железин.
– Знаем, знаем, – ответили солдаты, и легитимность атаманства Зойки Три Стакана была подтверждена.
Зайдя в здание вокзала, Зойка Три Стакана, солдатский комитет, Кузькин и Железин, остановившись у стойки вокзального буфета, провели первое совещание, на котором решили создать Временный революционный комитет (ВРК) в составе всех присутствующих. Железин вёл протокол. Откуда-то, но зная Кузькина, можно догадаться – откуда, появился самогон. Но Зойка Три Стакана, обведя всех присутствующих взором, полным огня, сказала, обняв рукой бутыль:
– Щас не время. Революция нам этого не простит! – И отодвинула самогон в сторону. Железин в ходе последовавшего за этим совещания незаметно припрятал бутыль самогона за пазуху.
Никто из присутствовавших не знал, как брать власть в свои руки, и все предлагали самые разные решения. Наконец, порешили, что все вместе в сопровождении солдат отправятся в здание Городского Совета и сначала наведут порядок там. Так и сделали. По дороге глуповцы по одному и семьями примыкали к шествию – все понимали, что вот-вот произойдёт что-то важное, историческое, но что именно, не знали, а поучаствовать и поглазеть очень хотелось. Впереди, красная от волнения и интенсивного движения, шла Зойка Три Стакана. За ней – члены ВРК, а далее – все остальные. Издалека лиц было не разглядеть и красная физиономия Зойки многими воспринималась как красное знамя, завёрнутое в кожаную куртку.
Бывшие матросы, а ныне глуповские мещане, обзавелись за месяцы отсутствия Зойки Три Стакана и Камня семьями и торговыми лавками, возле которых проводили всё время, сплёвывая лузгу от семечек на дорогу и ни о чем не жалея. Завидев своего атамана, они побросали открытыми свои лавки, и как были – в поддевках и косоворотках, ринулись к Зойке Три Стакана. Бросив на них косой взгляд, Зойка Три Стакана спросила:
– Чё без формы? Али пропили?
– Так ведь и мы тоже, Зой, подпольной жизнью жили… Вот и переоделись для антуражу.
В сопровождении солдат, бывших матросов и толпы глуповцев Зойка Три Стакана появилась перед дверями городского Совета.
Железин, на всякий случай, остался на вокзале дописывать протокол заседания ВРК, поскольку конец авантюры по очередному взятию власти был ему не ясен, и он предпочитал немного погодить.
Толпа вдавила Зойку Три Стакана в здание и выплеснулась обратно на площадь перед балконом, задрав головы вверх и устремив все взоры на балкон здания Совета, ожидая первых результатов. Зойка Три Стакана прошлась уверенным шагом по коридору здания, вызывая изумление у советских работников, и вошла в приёмную кабинета председателя исполкома.
Когда Зойка Три Стакана открыла дверь в кабинет, в котором провела всего только одну ночь, решительность её была слегка поколеблена – в кресле председателя восседал Лев. Лев Живоглоцкий.








