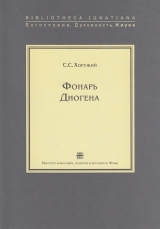
Текст книги "Фонарь Диогена"
Автор книги: Сергей Хоружий
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Самое известнейшее о Кьеркегоре – это тот факт, что в молодости он по неведомым никому причинам разорвал помолвку с невестой, которую горячо любил, и это событие разрыва стало ключевым и для его жизни, и для его философии. Факт этот неоспорим, но при всей уникальной сосредоточенности философа на себе и только лишь на одном себе, невеста, Регина Ольсен, – все же не единственный другой человек, который прочно присутствует в его внутренней реальности и в ней занимает важное место. Второй другой человек в этой внутренней реальности – отец, Михаэль Педерсен Кьеркегор (1756–1838). По сути, связь с отцом была даже глубже и тесней, нежели связь с невестой. Жизнь Регины, особенно внутреннюю, он не так уж знал и не слишком вдумывался в нее. В своих взглядах на женщину, женскую природу, он был бы сегодня заклеймен как явный «сексист» и male chauvinist: он был против эмансипации, считал женщину носительницей сугубо чувственного, но не духовного начала и уже в первой своей большой книге писал, что «женщина вынашивает детей, мужчина – идеи… женщина должна получать идеи из вторых рук»[237]237
S. Kierkegaard. Entweder – Oder. Jakob Hegner Verlag, Köln, Olten, 1968. S. 888.
[Закрыть]. Поэтому культ Регины у Кьеркегора не означал еще никакого влияния Регины на его внутренний мир. Однако с отцом было совершенно иначе. Сын не только воспринимал его воспитующее влияние, но больше того, все крупные события отцовской жизни глубоко им переживались, осмысливались – и с тем делались событиями собственной его биографии.
Первое из таких событий относилось к детству отца: он рос в бедности, пас овец и однажды, лет в 10–12, измучившись и отчаявшись, забрался на вершину холма и с этой вершины проклял Бога. Довольно вскоре, однако, он уехал в столицу к родственнику-купцу и быстро сам стал весьма успешным купцом, торговцем шерстью и трикотажем; успешным настолько, что уже в сорок лет, задолго до рождения сына-философа, решил отойти от дел, имея капитал в ценных бумагах и шесть доходных домов в Копенгагене. Деловой успех свой он считал милостью Божией, и сочетание этой великой милости с его собственным проклятием Богу питали в нем острое чувство греха и вины пред Богом. Это же чувство усиливалось и каким-то еще большим прегрешением, суть которого, однако, осталась неизвестна. Около 1835 г., будучи под хмельком, отец рассказал сыну об этом своем грехе, и такое известие стало для сына, как тот пишет, крайне драматичным переживанием. Дневник Кьеркегора возвращается к этому событию не раз. В чем был грех, неизвестно, но биографы предполагают тут нечто из сексуальной области, например, венерическую болезнь. Наконец, то ли в связи с этим греховным событием, то ли независимо от него, но у отца, а чрез него и у сына, складывается мрачное убеждение, что их род проклят Богом и должен исчезнуть, и все потомство отца должно рано умереть. – В итоге, от отца к сыну переходила, передавалась сгущенная атмосфера греха, вины, проклятия, обреченности, отчаяния. Мотивы глубокой греховности человека, его вины перед Богом вообще очень свойственны лютеранской религиозности; но здесь они были крайне гипертрофированы, и именно в таком гипертрофированном виде мы их обнаруживаем в трудах Кьеркегора. Но тема отца не ограничивается у философа этим мрачным вкладом. Ключевое свойство натуры Кьеркегора – необычайная развитость внутренней реальности, активная и возбужденная внутренняя жизнь – при крайне малой активности внешней жизни. И на поверку, эта ключевая черта – тоже от отца. В детстве, когда он просил отца пойти с ним погулять, отец брал его за руку и водил по комнате, при этом описывая, будто бы они гуляют там, куда хотел пойти сын, по улицам или у моря. И он описывал с такой яркостью, детальностью, что превосходил жизнь; мальчик за полчаса получал столько впечатлений и уставал так, словно гулял по городу целый день. По свидетельству самого философа, он сумел перенять от отца это искусство. А мы скажем, что такая воображаемая прогулка стала прообразом, парадигмой способа жизни Кьеркегора, его жизнетворчества. Внутренняя активность, яркая жизнь творческой фантазии с успехом у него заменили внешнюю активность, и его внутренний мир стал полноценным и полномерным миром его действия, развертывания его жизненных стратегий. Только стоит оговорить, что характер Кьеркегора был весьма двойственным. Да, он всегда отличался крайней интровертностью, интроспекцией, углубленностью в себя; но при этом, он был и вполне экстраверт, ему была присуща обращенность к обществу, полемичность, иногда даже агрессивность. В молодости он нередко блистал в компаниях, был центром внимания, зажигательным остроумцем и рассказчиком. Но в любой момент подобные сцены могли резко оборваться, смениться возвратом в себя.
Таковы исходные свойства, исходные капиталы, полученные философом от отца – на жизнь. Перейдем же наконец к его жизни. В жизни внешней мы не увидим ничего необычайного или выдающегося. После школы в 1830 г. Кьеркегор поступил в университет обучаться теологии, но главными интересами его тогда были литература и философия, а главными увлечениями – театр и музыка, опера; на первом же месте – одна конкретная опера, «Дон Жуан» Моцарта. В его поведении тогда определенно преобладала экстравертная стихия, и он вел жизнь легкую и рассеянную, жизнь вечного студента, хорошо обеспеченного и не утруждающего себя науками. На языке его будущей философии, то была «эстетическая стадия жизни», которую он поздней досконально проанализировал и раскритиковал. Студентом он был целых десять лет, но к концу этого десятилетия уже начались важные события, обозначившие переход к совсем другим стадиям. Как мы говорили, он узнает нечто дурное об отце, какой-то его тяжкий грех, решает, что их род проклят, и переживает всё это как «великое землетрясение», по его словам. В 1838 г. следует смерть отца, вновь сильнейшее потрясение. Меж тем, он начинает писать, в том же 1838 г. выпустив небольшую книжку с критикой романа другого великого копенгагенца, Г. Х. Андерсена (который в ответ изобразил философа в виде попугая в сказке «Калоши счастья»). И наконец, с 1837 г. развиваются его отношения с Региной Ольсен, дочкой крупного чиновника в Министерстве финансов. Он всерьез ей увлекся с первой же встречи, однако вторая встреча и завязывание отношений последовали лишь через долгое время, в начале 1839 г. В 1840 г. он закончил университет, сдав богословский экзамен, дающий право на должность священника, и в том же году, 10 сентября обручился с Региной, которой было тогда 17 лет. К Регине он питал чувство подлинное и сильное; но тем не менее после помолвки тут же был охвачен сомнениями. В Дневнике он писал поздней, что весь период помолвки «страдал неописуемо».
29 сентября следующего, 1841 г. он защитил успешно магистерскую диссертацию «О понятии иронии, с постоянным обращением к Сократу»; и почти тут же следом, 11 октября, окончательно разорвал с Региной (кольцо ей он возвратил еще раньше, в августе). Это и было Великое Событие, что стало истоком бурного, напряженного творческого процесса, породившего всю философию Кьеркегора, не иссякавшего до самой его кончины. Согласно Дневнику, после События он «провел ночь, рыдая в постели». Порвав с невестой, он тем не менее сохранил к ней самое глубокое чувство; иных любовных увлечений у него больше не было до конца дней. Регина – хотя она и вышла позднее замуж, стала Региной Шлегель – никогда не ушла из его внутреннего мира, и, кажется, у него сложилась своеобразно-трогательная модель творчества – или жизнетворчества – в постоянной обращенности к ней, в объяснении с ней, оправдании перед ней… «В каком-то смысле все книги Кьеркегора были одним длинным письмом к Регине Ольсен»[238]238
В. В. Бибихин. Кьеркегор и Гоголь // Мир Кьеркегора. Русские и датские интерпретации творчества Серена Кьеркегора. М., 1994. С. 87.
[Закрыть], – написал Владимир Бибихин. О роли События достаточно говорит единственный факт: после кончины философом оставлено было следующее письмо:
Та неназванная, чье имя некогда будет названо, – кому посвящен весь мой труд – бывшая некогда моей невестой фру Регина Шлегель.
Эта типично романтическая модель жизнетворчества, «модель с фигурою Музы», привычна и характерна в поэзии, однако необычна и редка в философии. Само же Событие, неточный акт кьеркегоровского опыта жизнетворчества, – по-кьеркегоровски уникально, вне всех моделей и типов. Вовсе не для сравнения, а лишь для понимания духа эпохи, помогающего отличить уникальное от типического, напомним тут одну русскую историю, что разыгралась чуть раньше. Около 1835 г. завязываются отношения Николая Станкевича с Любовью Бакуниной (одною из сестер будущего великого бунтаря), становящиеся глубокими и взаимными. В 1837 г., после обоюдных признаний, в обоих дворянских семействах уверенно ожидали заключения счастливого брака. Но тут, как пишет Михаил Гершензон, «начинается мучительный самоанализ, приводящий его [Станкевича] к заключению, что он принял фантазию за действительное чувство. Изнуренный нравственно и физически, не решаясь открыто порвать (этого не позволяла и болезненность Бакуниной), он решается отложить развязку на долгий срок и осенью 1837 г. уезжает за границу»[239]239
М. О. Гершензон. История Молодой России. М.-Пг., 1923. С. 195.
[Закрыть]. Станкевич направляется в Берлин изучать философию.
Весьма вскоре после разрыва с Региной Кьеркегор уезжает – также в Берлин. Он слушает там лекции Шеллинга; после недолгого восторга, свои впечатления от них он передает так (Дневник, запись от 27 февр. 1842 г.): «Учение Шеллинга о потенциях выдает крайнюю импотенцию… Я думаю, что абсолютно поглупею, если еще буду его слушать»[240]240
Заметим попутно, что эта запись – аргумент против версии (которую отстаивает, к примеру, Шестов) об импотенции самого Кьеркегора: автор здесь явно не считает, что он сам страдает тем же, чем Шеллинг, и едва ли человек, у которого импотенция – его собственная проблема, острил бы так.
[Закрыть]. В марте 1842 г. философ возвращается в Копенгаген, где усиленно продолжает писать первый свой крупный труд «Или – или», из всех его текстов – самый знаменитый, самый романтически-возбужденный, жанрово пестрый, импрессионистический и эксцентрический. Здесь начинается его игра масок: две части книги, представляющие две разные жизненные установки, «эстетическую» и «этическую», представляют их от лица разных персон, А. и В.; «издатель» же и автор предисловия – третий персонаж, Виктор Эремита, то бишь Отшельник-Победитель. Завершив труд (около 1000 страниц), философ немедля публикует его: «Или – или» выходит в свет в феврале 1843 г. тиражом 525 экземпляров.
Вскоре, в апреле, Кьеркегор на Пасху встретил в церкви Регину. Она приветливо кивнула ему – и это было огромным потрясением для героя, который после разрыва прилагал постоянные усилия, «изображал негодяя», чтобы у Регины умерла бы привязанность к нему. «Она все еще не верит, что я ее обманул, она верит в меня!» (Дневник). Это также крупнейшее событие его психодрамы. Оно меняет ее психологический фон, где вспыхивают огни надежды, – и герой остро ощутил, что он должен срочно найти ответ на новую ситуацию. Кивок девушки породил особый феномен, который биографы называют «берлинским летом». Философ вновь поспешил в Берлин; и там, в лихорадочном писаньи, по преимуществу, в жанре психологической прозы, он пытается осмыслить свою историю, найти ключ к ней, психологический, философский… И ему действительно удается найти ключ – только он оказался не психологическим и не философским, а религиозным, выводящим в пространства, лежащие дальше, за пределами эстетического и этического опыта, продуманного в «Или – или».
Первый плод «берлинского лета» – новелла «Виновен? Не виновен?», по содержанию и психологической канве наиболее близкая к реальным событиям. Затем следуют главные плоды. У повести «Повторение. Опыт экспериментальной психологии» первоначально предполагался автор с самым прозрачным именем Victorinus Constantinus de bona speranza, которое одно уже несло в себе целый положительный сценарий: как постоянство и надежда ведут к победе. Однако ни риторические формулы, ни эмоциональный подъем, разумеется, еще не давали искомого ключа. Ключ крылся в единственном вопросе: Каковы могут быть основания для надежды? – и именно этот вопрос неотступно занимал мысль философа берлинским летом. Два главных понятия оказываются в центре его напряженной рефлексии: повторение и вера. Словом повторение (понимая под ним никак не эмпирический повтор, а скорей род трансцензуса и некую полемическую ревизию гегелевского синтеза) он обозначает предмет надежды: благое разрешение своей истории, своей психодрамы и драмы духа – в их внутреннем, смысловом измерении. Тут можно увидеть и перекличку с будущим ницшевским «возвращением того же» – еще одним «возвратом билета» Гегелю с его ready-made синтезом. Этот концепт развертывается в повести, причем в сюжетном плане благим разрешением истории оказывалось… самоубийство молодого героя – хэппи-энд, конечно, своеобразный, но и логичный по-своему, ибо таким путем обретались конец отчаяния и конец разрыва. Однако, когда этот финал уже был написан, автора достигло в июле известие о новой помолвке Регины – и он, уничтожив старый, дал вещи новый финал, бесхитростно открывающийся фразою: Она вышла замуж! На повести же он выставил имя уже без особо светлых обертонов, но с явным акцентом на повторении: Константин Констанциус.
О вере размышляет последнее творение необычайного лета, «Страх и трепет», – признанный шедевр Кьеркегора, исполненный в жанре «диалектической лирики» и рисующий образ библейского Авраама как «рыцаря веры», Troens Ridder. Здесь как будто нет связи с личной историей – но только на поверхностный взгляд. Взгляд самого автора прямо противоположен: «“Страх и трепет” воспроизводил мою собственную жизнь», – напишет он поздней в Дневнике. Связь личной драмы Кьеркегора с проблемой веры в основе абсолютно проста. Он сам, по собственной воле разрушил то, в чем для него состояла главная жизненная важность и ценность, – и жизненною необходимостью стало восстановление разрушенного. Но разрушение было непоправимо, необратимо, и потому восстановление было невозможно для человека, своими силами он его заведомо не мог достичь. Оставался только один последний шанс: если бы человек имел веру, то по вере его, Бог мог бы для него свершить невозможное. Больше того, имей он веру прежде, он и не оказался бы разрушителем: разрушение произошло оттого, что он считал невозможным удержать, сохранить самое ценное для себя, поскольку сохранение облекалось в форму брака. Нам несущественно сейчас, отчего эта форма ему представлялась невозможной; но существенно, что и тут при наличии веры невозможное могло бы оказаться возможным. Он сам это заявляет в дневниковой записи 17 мая 1843 г., сделанной на гребне надежд и раскрывающей многие важные моменты его отношений с его единственною любовью. Среди прочего, там сказано с предельной ясностью: «Если бы у меня была вера, я бы остался с Региной».
Не зря все и всегда цитируют эту запись: она связывает воедино два лица Кьеркегора (который не раз и по разным случаям себя называл двуликим Янусом): лирического героя, всю жизнь переживавшего разрыв с невестой, и христианского мыслителя, посвятившего все усилия одной теме – задаче обретения веры. Притом, два лица связаны не по Гегелю, не диалектическим единством, а именно по Кьеркегору, экзистенциальным тождеством: «обладание верой» тождественно – избежим неуместной игры слов! – «возможности союза с Региной». – Итак, ключ найден, и этот ключ – вера: вера как возможность, могущая спасти из самых страшных бездн. Теперь самое важное – убедиться, что такая вера – да, бывает, может быть, она мыслима для человека! И Кьеркегор находит самый лучший, самый сильный пример события подобной несокрушимой веры: событие жертвоприношения Авраама. «Рыцарь веры» для него и вестник надежды, живой обнадеживающий пример: как нашел в себе веру Авраам, так может найти ее и другой. Рассказчику истории Авраама он дает имя Иоанн де Силенцио, «от Молчания»: один из главных мотивов истории – молчание Авраама, который никому не может открыть о посланном испытании Божием. (Позднее этот мотив необходимого умолчания развернется в один из главных топосов диалектики веры, с классическими кьеркегоровскими темами «косвенного сообщения», инкогнито и проч. Очевидны глубоко личные его корни: неспособность прямого высказывания о существенном, глубинном была у него самой прочной чертой характера.) Берлинское лето было на этом завершено, оставив множество нитей, ведущих к будущим книгам и событиям жизни. «Страх и трепет» и «Повторение» вышли в свет в один день, 16 октября 1843 г.
Затем философ вновь возвращается в Копенгаген. Следующим летом под именем «Стража Копенгагенского», Вигилиуса Хауфниенсиса, он выпускает в свет «Понятие страха»; одновременно с ним, в том же июне 1844 г., публикуются «Философские крохи» под именем Иоанна Климакуса (Лествичника). Последний псевдоним, в отличие от всех прочих, есть имя исторического лица, великого подвижника 7 в., впервые детально описавшего Лествицу духовного восхождения в христианстве; но очередная эксцентричность датчанина в том, что он нацело игнорирует реального носителя имени, отбирая у него имя и вкладывая в это имя свой смысл. Имя он увидел в учебнике, готовясь к богословскому экзамену, и оно привлекло его своей выразительностью: он сразу же связал с ним образ дерзновенного мыслителя, уверенно восходящего к вершине познания (поэтому он, в частности, наделял им Гегеля). В итоге, Лествичник в дальнейшем окажется у него выразителем «не-христианских» позиций, в пику ему для защиты истинного христианства введен будет «Анти-Лествичник» – и, если не догадаться вовремя о полном отчуждении имени от его настоящего владельца, выходит абсолютная дичь…
«Философские крохи» точно названы автором. От всех предыдущих текстов они отличаются не основной проблематикой (которая во всем корпусе Кьеркегора одна и та же), но более философичным подходом к ней: здесь впервые на первом плане классические философские задачи, такие как конституция когнитивного акта, анализ базовых метафизических категорий и отношений – истина, бытие, становление, возможность и действительность, вера и разум… Но все классические решения автором в корне отвергаются – к чему с необходимостью толкает его занятая однажды и навсегда антиметафизическая позиция примата отдельного, единичного над всеобщим, причем единичного человека, в уникальной фактичности, сингулярности (как будут говорить позднее) его внутренней реальности. Построить же цельный философский дискурс, воплощающий подобную позицию, – задача таких масштабов, что для нее выпущенный небольшой текст – если и не крохи, то не более чем заявка, проект. Именно так и аттестует его в конце сам автор – при этом добавив скромно: «Этот проект идет, бесспорно, дальше сократовского, что обнаруживается в каждом пункте»[241]241
S. Kierkegaard. Philosophische Brosamen. Abschließende unwissenschaftliche Nachschrift. Jakob HegnerVerlag, Köln u. Olten, 1968. S. 129.
[Закрыть].
Итак, «Крохи» предполагали продолжение, которое и появилось на свет 28 февраля 1846 г. как «Заключительное ненаучное послесловие», под именем того же Иоанна Климакуса. По объему оно превосходило сами «Крохи» в 6 раз. По стилю же, оно выносимо с большим трудом: это самый сложно-сочиненный и сложноподчиненный текст Кьеркегора, самый многословный, витиеватый и перегруженный, чередующий десятки страниц пустых глаголаний ни о чем с плотными блоками насыщенного, точно выстроенного философского рассуждения. Аналогичные неровности и дефекты письма не раз замечались и критиковались уже в «Или – или»; в «Послесловии» эти качества достигли новых высот[242]242
По поводу «Или – или» писали так: «Книга весьма выиграла бы, если бы из нее удалить многие места, которые не просто плохо написаны, но часто служат примером – притом, утомительным примером – словопрения ради словопрения». W. Lowrie. Translator's Preface // S. Kierkegaard. Either – Or. Vol. II. Princeton University Press, 1974. P. X. Стоит привести и такую оценку: «Странно, что Кьеркегор, чей артистизм в обращении со словом ставит его в первый ряд мастеров датской прозы, – тот же самый Кьеркегор, который по временам выдает потрясающе скверные фразы, такие, что все датские филологи и лингвисты их не в силах уразуметь». Н.А. Johnson. Foreword // S. Kierkegaard. Either – Or. Vol. I. Princeton University Press, 1971. P. VII. А в случае «Послесловия», практически все его переводчики, все издатели не могут удержаться от жалоб не только уже на стиль, но и на само содержание книги.
[Закрыть]. Но главное, разумеется, не в этом – главное в том, что задача, поставленная «Крохами», здесь, в целом, выполнена. В книге построен достаточно развернутый философский дискурс на новых принципах и понятиях – экзистенциальный дискурс; причем, в отличие от предшествующих опытов, этот дискурс охватывает не избранные разделы, а всю почти базовую проблематику философского разума, предъявляя всюду собственную позицию. Но сложное, обширное построение рождает и множество сомнений, вопросов, среди которых два весьма кардинальных: Насколько оно полно, верно исполняет задания, которые себе ставила мысль философа? или точней – исполняет единственное Задание, заданное Великим Событием на всю философию Кьеркегора и всю жизнь? и другой вопрос: является ли оно, как желал философ, вполне новым и самостоятельным, чуждым всякой зависимости от старой спекулятивной метафизики и, прежде всего, от Гегеля, от его Системы, отношения с которой были главной и болезненной философской проблемой Кьеркегора? Первый из этих вопросов настойчиво задавал себе сам философ – и, как ясно говорят дальнейшие тексты, ответил на него отрицательно: он решил, что «Послесловие» плохо соответствует его религиозным установкам, оттого дальнейшие тексты и оказались нужны. Ставил ли он себе и второй вопрос, мы не знаем, но здесь ответ и еще ясней. Кьеркегор никогда не избавился от крайне существенной, многосторонней зависимости от Гегеля.
Следующие философско-теологические труды, считая по ускоренному течению времени в мире Кьеркегора, возникают весьма нескоро и обладают заметными отличиями. В 1847 – 48 гг. его основные сочинения, выходящие в свет, – иного, нового для него рода: это христианские проповеди, которые он выпускает уже под собственным именем, без псевдонимов. Первый их томик, «Назидательные речи», был написан еще до «берлинского лета» и выпущен в том же памятном 1843 г. Теперь за ним следуют «Деяния любви» (1847) и «Христианские речи» (1848). Задание его жизнетворчества отнюдь не меняется, с Великого События и до конца он твердо знает, что задание человека – стать самим собой, собой – в полноте своей личности и идентичности, и знает столь же твердо, что человек становится самим собой – исключительно в вере, в состоянии веры. Но с течением жизни, исполнение Задания человека начинает рисоваться ему иначе, на первый план выдвигаются другие грани и другие труды. Парадигма Пути, с его сменяющимися этапами, близка была взглядам и жизнечувствию мыслителя. Один из опытов в прозе, написанных «берлинским летом», носил название «Стадии на жизненном пути»: он выделял три стадии, эстетическую, этическую и религиозную, каждой из них посвящая небольшую новеллу (стадии религиозной отвечает упоминавшаяся выше новелла «Виновен? Не виновен?»). Эту схему трех стадий мы найдем и в других вещах Кьеркегора; и вновь заметим, что она приложима и к его собственному жизненному пути. В ранних текстах его, начиная с «Или – или», где эстетическая часть по объему превышает этическую, эстетическая стихия развернута в большом богатстве и с большим увлечением, но затем ее роль чрезвычайно убывает. Несколько упрощая ради краткости, можно сказать, что в трудах Кьеркегора мы наблюдаем постепенный переход движущей интриги с отношения между эстетическим и этическим на отношение между этическим и религиозным.
Именно этот переход, сдвиг к прямому примату религиозного видения и выражает суть стадии жизнетворчества, наступающей после выпуска «Послесловия». Ее новые черты – отнюдь не только в чтении и публикации проповедей; Кьеркегор пересматривает многие элементы своей жизненной стратегии. Прежде всего, резко сокращается такой ее постоянный элемент как активное общение и вращение в городской среде. Невзирая на все смятенья и драмы в глубинах внутренней реальности, магистр Кьеркегор из года в год совершал регулярный променад по улицам Копенгагена, то и дело останавливаясь и завязывая сократические диалоги с согражданами; он был заметною публичной фигурой, живо участвующей в жизни города. Без сомнения, это служило уравновешивающим и оздоровляющим дополнением к непрестанной уединенной работе его одинокой мысли. Возможно, на новой стадии он нашел бы нужным по доброй воле умерить эту сторону своей жизни; но вышло так, что он практически отказался от нее вследствие некой неприятной истории. В результате запутанной цепи обстоятельств, в 1846 г. против него развязал грубую кампанию журнальчик «Корсар», специализировавшийся на сплетнях и нападках на известных в городе лиц. Из номера в номер в «Корсаре» шли карикатуры на него, разнузданно-издевательски высмеивались его наружность, манеры, черты характера – и эта кампания возымела шумный успех; прохожие останавливались и глазели на него, а мальчишки улюлюкали и вопили ему вслед: Или-или!Конечно, кампания в свой черед утихла, и многие не увидели бы в ней ничего серьезного; однако на Кьеркегора она подействовала крайне болезненно. «Конфликт с “Корсаром” изменил весь его образ жизни»[243]243
R. Grimsley. Kierkegaard. A biographical introduction. L., 1973. P. 81.
[Закрыть]. Философ оборвал почти все свои городские контакты, и в его отношении к современному ему обществу необычайно усилились ноты осуждения и отчуждения.
Дальнейшие изменения затронули его игры идентичности, игры масок. В «Послесловии» такая игра для него еще нужна и вполне серьезна: в особом приложении (на 60 страниц!) к одной из глав он устраивает оригинальнейший театр своих масок, где под началом последней, Климакуса, все они выясняют взаимные отношения. И это не просто игра, следующая эстетике романтизма; здесь ставятся и реальные философские вопросы, которые могут, по его классификации, быть вопросами не только эстетического, но также и этического сознания. Введение авторских масок может выступать как способ саморефлексии и самооценки, как герменевтический прием, дающий возможность отстраненного компаративного анализа различных продуктов своего творческого самовыражения. И в этом разделе «Послесловия» Кьеркегор активно использует такую возможность. Сам он указывает и еще один побудительный мотив своей псевдонимности, уже психологического характера: он связывает ее с преследовавшим его состоянием «меланхолии», подавленности, тревожного беспокойства (Tungsind, трудно передаваемый термин), рождавшим желание уйти от себя, выйти из постылой оболочки своего обычного Я. «Много лет моя меланхолия мешала моей реальной близости с самим собой… Отчасти именно от этого я избавляюсь с помощью псевдонимов. Человек, у которого дома нехорошо, старается выходить из дому как можно чаще, он хотел бы вообще избавиться от своего дома» (Дневник, 1847). Это состояние он отождествлял с состоянием уныния (лат. acedia), о котором говорит аскетическое учение о страстях, и в «Или – или» анализировал его роль в структуре сознания. При разборе «Или – или» мы вернемся еще к нему.
Но при всем том, в свой поздний период Кьеркегор все больше отходит от установки конструирования авторских личностей, усугубляющей расщепление внутренней реальности, и во всех его авторских и жизненных стратегиях проступает и берет постепенно верх тяготение к собиранию этой реальности, к единству. Один из первых жестов такого собирания себя – «Первое и последнее объяснение», которым философ заканчивает «Ненаучное послесловие». Здесь он впервые открыто признает себя автором («как выражаются, автором») всех своих псевдонимных произведений, которые и перечисляет полным списком, с указанием всех псевдонимов. Но это еще очень амбивалентный жест, поскольку все объяснение обосновывает необходимость игры масок, и его аргументы – характерные аргументы эстетического сознания. Позднее отход станет более определенным: хотя оба поздние философские труда Кьеркегора, «Болезнь к смерти» и «Упражнение в христианстве» выпущены под псевдонимом Анти-Климакус, в качестве издателя в них уже указан сам Кьеркегор; появление же псевдонима, как он пояснял, в известной степени вынуждено, поскольку эти труды полемизируют с позициями «Послесловия» и его автора Климакуса. В предисловии к «Болезни к смерти» он говорит о «вычурном обличье» этого трактата; он явно движется к преодолению тех барьеров, что всегда преграждали ему возможность открытого письма, «прямого сообщения» себя. Окончательная позиция мыслителя отчетливо выражена в эссе «Точка зрения на мою писательскую деятельность», которое писалось, в основном, в 1848 г. и было частично опубликовано в 1851 г. под названием «О моей писательской деятельности». Здесь он разделяет свои сочинения на эстетические и религиозные, относя к первым те, что были написаны до «Послесловия», ко вторым – «Послесловие» и последующие тексты. В качестве внешнего признака, различающего две эти группы, он указывает, что религиозные тексты несут его имя[244]244
Здесь он, впрочем, забыл, что выставил свое имя (как издателя) уже и на «Философских крохах».
[Закрыть]. И наконец, тексты последнего года жизни, ярая публицистика (речь о ней впереди) – уже попросту предел открытой и резкой прямоты.
Демонтаж конструкций авторской личности явился одним из следствий нового события в области, самой важной для философа, – его внутренней реальности. В Страстную Среду перед Пасхой 1848 г., он пережил некое духовное потрясение, которое вызвало следующую запись в Дневнике (ее не без основания сопоставляют с «Мемориалом» Паскаля): «Все существо мое изменилось. Моя скрытность и замкнутость сломлены – я должен говорить. Боже Великий, ниспошли благодать!» Для его философии содержание записи никак не означает резкого переворота или поворота: уже в «Или – или» он квалифицировал скрытность и замкнутость как самые характерные установки эстетического сознания, которые на стадии этической должны преодолеваться в открытость. Смысл записи иной: это признание в том, что, независимо от их философской оценки, Кьеркегор до момента потрясения не мог преодолеть у себя этих свойств; однако теперь преодоление совершилось. Только совершилось ли? Всего через пять дней, в Светлый Понедельник, следует запись: «Нет-нет, мою самозамкнутость нельзя переломить, по крайней мере, сейчас нельзя. Мысль об ее преодолении занимает меня так сильно, так постоянно, что она от этого только делается прочнее». Одновременное присутствие противоположных стихий, полюсов (притом, без всякого гегелевского синтеза, опосредования, как и до́лжно по его философии) всегда остается самой характерной чертой его внутренней реальности, определением его способа существования, как мы ниже покажем. И все же взгляд на его последние годы – их оставалось уже немного, увы, – позволяет согласиться с тем, что в этот период во всех измерениях биографии мыслителя действительно происходит некий перелом к открытости – так что из философской установки она становится целью и принципом целостной жизненной стратегии. Стоит лишь подчеркнуть, что эта установка открытости отнюдь не противоречит основной и фундаментальной установке обращенности внутрь. Она только раскрывает эту последнюю: открытость – определенное состояние и качество внутренней реальности человека, достижимое лишь путем тщательной работы с ней, кропотливого преобразования ее. Чтобы суметь открыть себя – надо углубиться в себя.
Превращение открытости в актуальное задание антропологической стратегии, осмысливаясь, приводит и к новым философским следствиям. Когда открытость не декларируют и восхваляют, а всерьез пытаются идти к ней, человек тут же сталкивается с самыми серьезными трудностями, препятствиями в ее достижении – и должен начать пристально разбираться с этими препятствиями. Сходным образом строится путь аскетической практики, что описал преп. Иоанн Лествичник, подлинный Климакус: став на этот путь восхождения, подвижник обнаруживает препятствия в продвижении по нему – страсти; и главной его проблемой, главной работой на ранних ступенях Лествицы восхождения становится борьба с ними – знаменитая «невидимая брань» аскета, детально их разбирающая и находящая способы преодоления их. Кьеркегор же в 1849 г. выпускает «Болезнь к смерти», небольшого объема трактат, написанный отменно – насыщенно, плотно, сжато, с упругим движением мысли, постоянно держащей свой предмет в фокусе зрения. Этот предмет трактата – отчаяние, которое и есть для автора «болезнь к смерти», в противоположность болезни Лазаря, что была «не к смерти, а к славе Божией» (Ин 11,4). Болезнь эта к смерти (духовной) именно потому, что она препятствует выходу, размыканию человека в открытость. Философ находит у нее обширный набор форм, видов, анализирует и классифицирует их – именно по характеру и мере их вредности для исполнения Задания человека. Mutatis mutandis, такая его работа – точная параллель аналитике страстей в аскетике. «Болезнь к смерти» правильно будет определить как опыт аскетической теологии; и Кьеркегор, выступая систематизатором препятствий на пути восхождения, следует по стопам классика аскезы, преподобного Иоанна Лествичника, Климакуса. И поистине дьявольская ирония в том, что именно этот свой трактат он подписывает псевдонимом Анти-Климакус! Однако вряд ли «датский Сократ» был большим невеждой в истории, чем большинство его коллег, пастырей Лютеранской церкви. Поэтому дьявольская ирония – пожалуй, больше не в его адрес, а в адрес самой Христианской Церкви, Запад и Восток которой, исповедуя одну веру, так чудесно знали друг друга…








