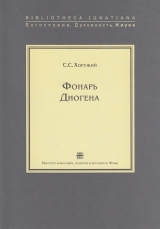
Текст книги "Фонарь Диогена"
Автор книги: Сергей Хоружий
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Переходя к свойству гносеологичности, мы констатируем для начала, что, как и положено по школьным представлениям о «субъективизме» и «объективизме», когнитивная парадигма у субъективиста Фихте и объективиста Гегеля имеет прямо противоположную природу. Выше мы бегло описали когнитивную перспективу у Фихте, найдя ее полностью интериоризованной, вобранной без остатка внутрь Я. У Гегеля мы не описывали ее, однако подчеркнули полную сущностную производность, несамостоятельность всех индивидуальных формаций по отношению к формациям – носителям всеобщности: народу, государству и, в первую очередь, самому полагающему Первопринципу, Абсолютному Духу. И отсюда ясно уже, что когнитивная перспектива здесь полностью экстериоризована (объективирована): познает не индивид, а нем и чрез него – высшая инстанция, наделившая его сущностью. Но эта картина требует немедленного углубления. Обсуждая свойство индивидуированности, мы заметили, что в системах спекулятивного монизма их Верховное Начало (Абсолютное Я, Абсолютный Дух) – есть также не что иное как «абсолютный мыследействующий агент», который и должен занимать положение в фокусе когнитивной перспективы. Соответственно, субъективистская когнитивная парадигма Фихте конституируется Абсолютным Я; и, на поверку, когнитивные парадигмы спекулятивных монистов Фихте и Гегеля, в главном и существенном, совпадают. В обоих случаях познает абсолютный мыследействующий агент – и лишь описание этого познания строится в одном случае в субъективистском, интериоризованном дискурсе, тогда как в другом – в объективистском, экстериоризованном.
Подобная версия когнитивной парадигмы имеет небезразличные для нас особенности. Прежде всего, она до известной степени выводится из антропологии, и с тем отдаляется от конкретной базы антропологического опыта, становясь отвлеченно-спекулятивной и, если угодно, в некой мере мистифицированной. С другой стороны, в ней обретает усиленную, яркую форму один аспект когнитивной парадигмы, которого до сих пор у нас не было причины касаться: связь между познанием и властью. В когнитивной перспективе, полагаемой абсолютным агентом, познание связано, как мы говорили, не просто с познающей, а с абсолютно полагающей способностью. Но такое познание есть прямо и непосредственно – власть, господство! Здесь перед нами открывается один характерный элемент, мотив идейной атмосферы послекантовского немецкого идеализма: пафос познания, присущий всей новоевропейской культуре, принимая гипертрофированную форму пафоса абсолютного познания, становится одновременно пафосом абсолютного полагания, пафосом господства – так что этот последний может и выйти на первый план, заслонив собой остальное.
Тема «знание и власть» приобретает здесь специфические оттенки. Поскольку в последний период она сделалась популярной до избитости, мы не станем глубже в нее входить, напомнив лишь, что в классической метафизике она возникала уже у Декарта, где трактовалась в достаточно уравновешенной форме: как указывает Картезий, познание окружающего мира дает и власть над ним, которая заключается в способности и возможности изменять мир, обустраивая его к своему благу и удобству Ф. Бэкон, автор самой максимы «Знание есть власть», дополняет тезис и социально-политическим содержанием. Но в послекантовском немецком идеализме, переводясь в дискурс абсолютного, тема заостряется еще более и рискует принять опасную, тоталитарную форму: Абсолютное знание как абсолютная власть. Эту тенденцию немецкой мысли улавливали и отмечали в русской религиозной философии, именуя ее «уклоном в человекобожие», «теургическим и демиургическим соблазном» и подобными звучными именами.
Здесь, т. о., рассмотрение свойства гносеологичности вплотную смыкается с обсуждением секуляризованности, последней из «пяти черт». В данной теме послекантовские системы не принесли принципиально нового – прежде всего, потому что в сущностном отношении нечего уже было приносить: как мы объясняли в кантовском разделе, у Канта секуляризованность философии уже достигает полноты, поскольку отношение человека к Богу здесь лишено самостоятельного онтологического содержания и редуцировано к служебной функции. Поскольку, однако, у продолжателей Канта характер религиозности был явно отличным от кантовского пиетизма, то в своем внешнем выражении секуляризованность принимает у них более наглядный и резкий вид. В каждой из систем Фихте, Шеллинга, Гегеля мы найдем однотипные имманентистские тезисы, тяготеющие отчетливо к пантеизму, – тезисы такого рода: «Природа Бога должна раскрыться во всецелом развитии Идеи»[230]230
G. W. F. Hegel. Philosophie der Religion. S. 277.
[Закрыть] или же «Бог необходимо должен себя открыть»[231]231
F. W. J. Schelling. Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit. Düsseldorf, Verlag L. Schwann, 1950. S. 42.
[Закрыть]. Это же тяготение, несомненно, проявляется и во введении quasi-божественных мега-концептов; но, вместе с тем, оно никогда не достигает полной определенности и окончательности. Фихте отнюдь не лицемерил, когда активно отвергал обвинения в атеизме: обсуждаемые нами мыслители действительно никак не считали себя безрелигиозными мыслителями или хотя бы отвергающими христианское учение о Боге. Но сохранять подобное убеждение они себе помогали тем, что избегали доводить религиозный дискурс своих систем до окончательной отрефлектированности и последней определенности. А с чисто философской точки зрения, отсутствие данных свойств делает этот дискурс относительно малоценным.
Легко согласиться, что этот обзор подтверждает вывод, которым мы его заранее предварили. Система из «пяти портретных черт» адекватно выражала основу, идейный каркас антропологического содержания классической метафизики в эпоху от Декарта до Канта. Но в послекантовских системах спекулятивного монизма главную роль в этом содержании начали играть новые особенности, которые мы выделили при разборе учений Фихте и Гегеля и которые, как мы видим теперь, лишь косвенно и частично отразились в «пяти чертах». Перечислим снова эти особенности – и мы увидим причину.
1) Первый и решающий фактор – сам тип системы, тип философского дискурса: спекулятивный монизм, верховный полагающий принцип которого – мега-концепт с ускользающим онтологическим и антропологическим содержанием: Абсолютное Я, Абсолютный Дух. В развертывании такой системы выявляется взаимное несоответствие антропологического и спекулятивного дискурсов (или лучше точней, дискурса спекулятивного монизма), антропологического и спекулятивного опыта, антропологической и спекулятивной ориентации умозрения. Несоответствие порождает новые радикальные формы антиантропологичности.
2) Структурный антиантропологизм, внесенный уже Кантом и еще углубившийся у его продолжателей. Главное его проявление – расчленение человека и его разнесение по спекулятивным структурам в соответствии с чуждой ему спекулятивной логикой: исчезание человека, влекущее невозможность ответить на вопрос: Что такое человек?
3) Объективный антиантропологизм. Парадоксальным образом, за счет несомненной, хотя и неопределенной, дистанции между человеком и Абсолютным Я, его элементы присутствуют и у Фихте, так что его пределы не ограничиваются Гегелем и инициированным им руслом. Главное его проявление – производность человека, лишение его самостояния и самоценности. Главное же следствие – принципиальное отрицание антропологической ориентации в философии: ибо здесь человек – не столько отсутствующий (как при структурном антиантропологизме), сколько не первичный и не существенный предмет, ложный предмет для философии. Кант, трансцендентально расчленив человека, сделав его отсутствующим, вместе с тем еще признавал, что «все поле философии можно считать антропологией», ибо все ключевые ее вопросы сводятся к одному: Что такое человек? – и человек у Канта, в своем отсутствии, еще мог трактоваться, используя формулу Фуко, как «главное событие, которое распределено по всей видимой поверхности знания». У Гегеля же – прямая противоположность. Вопрос: Что такое человек? должен быть здесь развенчан как незначащий или отброшен как ложный, в свете производности человека.
Достаточно ясно, отчего эти новые особенности не укладываются в каркас из «пяти портретных черт». Включая отдельные элементы антиантропологичности, эти черты, в целом, были все же еще характеристиками человека и вкупе очерчивали, намечали некоторый облик, «портрет», пускай и с кубистической рассеченностью (дуалистичностью). Однако все новые особенности антиантропологичны в корне. Они по самой природе не являются «чертами человека», но вместо этого выражают поворот философии от человека и уход от него. Этот общий поворот и уход многообразен, многоаспектен. В качестве иллюстрации мы в заключение приведем важный пример, показывающий, как антиантропологическая тенденция рождала коренное непонимание целой существенной сферы антропологических явлений – сферы практик себя.
У каждого из великих философов классического немецкого идеализма есть небольшая, но экспрессивно, ярко трактуемая тема: апология страстей человека. У всех она раскрывается сходным образом: философ замечает силу и мощь страсти, аккумулированную в ней высокую энергию – оценивает ее как положительное, плодотворное явление, с которым связана жизненная сила человека, его способность к великим достижениям, – и выступает в ее защиту от обвинений религии и морали. «Без страсти ничто великое не было осуществлено и не может быть осуществлено. Лишь мертвая… ханжеская мораль ополчается на саму форму страсти как таковой»[232]232
G. W. F. Hegel. Enzyklopadie der philosophischen Wissenschaften. § 474.
[Закрыть]. То же, с малыми вариациями, у Шеллинга: «Страсти, с которыми воюет наша негативная мораль, суть силы, каждая из которых имеет общий корень с соответствующей ей добродетелью… Тем, что вы искоренили страсти, вы украли у добродетели самый стержень ее приложения, ее материю»[233]233
F. W. J. Schelling. Uber das Wesen deutscher Wissenschaft. Цит. по: H. Fuhrmans. Zur Einffflirung // F.W.J. Schelling. Op. cit. S. XLIII.
[Закрыть]. Без труда подобные суждения можно отыскать и у Фихте. Помимо ханжеской «негативной морали», эти мыслители не видят решительно никаких причин, которые могли бы вызвать негативное отношение к страстям, стремление к их преодолению и борьбе с ними. Меж тем, такие причины выступают немедленно, едва человек сменит антиантропологическую ориентацию своего умственного зрения на антропологическую, на обращенность к внутренней реальности. Если не отрицать самоценность внутреннего мира, внутренней жизни человека, нельзя не увидеть, что есть обширная сфера самореализации человека, сфера антропологических стратегий и практик, где в центре – специальная культивация внутренней реальности, формирование ее определенных установок, конфигураций. И для всех подобных стратегий, страсти – т. е. наведенные состояния внутренней реальности, которые всецело захватывают человека и порабощают его, – служат заведомым препятствием и требуют устранения. – Таков антропологический корень негативного отношения к страстям, возникающего с необходимостью во всех традициях и школах духовной жизни, всех практиках себя. Даже для античной, греко-римской традиции мысли, к которой возводила себя и с которой стремилась воссоединиться новоевропейская метафизика, этот корень был достаточно понятен и зрим, а установка устранения страстей усиленно, с пафосом утверждалась, например, в стоицизме. Но для зрения философов классического немецкого идеализма, доходившего до предела в культе спекулятивного разума и проведении антиантропологических принципов, корень этот оказался полностью недоступен.
В свете всего сказанного, смысл нового этапа европейской антропологии можно резюмировать весьма просто. «В тяжбе борющихся качеств» победила антиантропологическая тенденция, и антиантропология получила преобладание над антропологией. Очевидно, что дальнейшее развитие философии в этом русле уже не могло быть «развитием классической модели человека», поскольку дискурс не оставлял больше места для антропологически ориентированной мысли. Заимствуя сегодняшний стиль броских слоганов, можно, если угодно, сказать, что в классическом немецком идеализме продемонстрирован был пролог будущих великих событий мировой философии: у Канта – смерть Бога (в его редукции религии к этике), у Гегеля – смерть Человека (в его превращении Человека в продукт Духа).
Философия же оказалась в очередной бифуркации. Появление великой Системы не могло не восприниматься как очередной триумф мысли, и 19 в. своей большей частью проходит под знаком полного влияния идей классического немецкого идеализма. Но русло, которое им было инициировано, несло антиантропологичность в самом своем основоустройстве, и в аспекте антропологии, оно могло быть лишь руслом дальнейшего кризиса классической модели и дальнейшего упадка мысли о человеке: руслом забвения человека, аналогичного забвению бытия. Действительное же развитие антропологической мысли могло происходить лишь вне данного русла, в споре с ним, в установке антропологического протеста. Протестное сознание созревало не сразу, создание новых идей и принципов, потребных для успешного спора, шло весьма постепенно – и лишь к концу 19 в. спекулятивная метафизика с ее антиантропологизмом начала определенно ощущаться как требующая преодоления.
Но весь этот длительный процесс намного опередил Кьеркегор. Удивительным образом, в его текстах, созданных совсем вскоре за появлением гегелевской Системы, в пору ее максимальной популярности и влияния, можно уже найти почти все главные аргументы нашей критики в ее адрес – критики с позиций антропологически ориентированной мысли.
Часть II. И вновь пытаться отыскать
7. Беглец в оковах
Переход к очередному разделу нашего критического обозрения требует и очередной перестройки зрения. Чтобы верно увидеть и понять, что же начало далее происходить с классической антропологической моделью, стоит взглянуть на движение европейской мысли еще с одной стороны (впрочем, весьма простой и для наших рассуждений не новой). Эпистемологическая и антропологическая установка, мощно заявленная Ренессансом и уверенно реализованная в метафизике Декартом, утверждала обращенность человека к мирозданию и миропознанию, обращенность вовне, к Природе (что не исключало и обращенности к человеку, но предполагало объективированное отношение к нему как к части Природы). Эта установка существенно расходилась с той, что отвечала предшествующей эпохе, ибо последняя еще сохраняла изначально присущий христианству духовный и ценностный примат внутренней реальности человека, т. е. обращенность внутрь. Чтобы совершить этот кардинальный поворот или даже переворот ориентации человека, тем, кто его впервые осуществил, требовались весьма незаурядные качества и мысли, и творческой личности: не просто убежденность в своих идеях, но полная захваченность ими и полная уверенность в своей миссии утверждать, нести их, равно как неиссякаемая энергия в этой миссии. Подобными качествами Декарт как философ обладал сполна – недаром мы позволили себе назвать его харизматиком, пускай «тихим». И цель, захватившая его, вполне может пониматься как указанная смена вектора, смена ориентации. Картезий горит страстью сделать человека разумным и эффективным агентом действований вовне, в бесконечном и бесконечно раскрывающемся мироздании: так, чтобы человек его понимал, постигал и (пере)устраивал, и в этом понимающем (пере) устроительстве соответствовал ему так, что был бы его – не Alter Ego, а первым и единственным Эго; однако имеющим и помнящим также и собственную пользу Страсть Декарта, проект Декарта – Человек как эгоистическое Эго мироздания. В этом проекте Декарт совпал со своей эпохой, которая еще с Ренессанса и Предренессанса усиленно стремилась сменить вектор, отбросить христианский примат обращенности внутрь – в пользу обращенности вовне, к Природе, бесконечному миру И, совпав с эпохой, доставив именно то, чего она искала и требовала, он стал одним из столпов Новоевропейского миросозерцания.
Кьеркегора разделяют с Декартом приблизительно двести лет. В середине 19 столетия Ренессансно-Декартов импульс обращенности вовне еще отнюдь не иссяк. Маятник продолжал двигаться в ту же сторону, и в системе Гегеля Новоевропейское миросозерцание только что достигло апофеоза. И однако истовая убежденность, всецело захватившая Кьеркегора, – это убежденность в том, что обращенность вовне – неверная, пустая стратегия, и вектор необходимо снова сменить, сменить в обратную сторону, к резкой обращенности внутрь. (Образцом этой неверной стратегии для него служит спекулятивная философия, метафизика Всеобщего, а высшей точкой ее, крайним пределом – система Гегеля). Внутрь – к внутреннему миру, внутренней реальности человека, Inderlighed: это слово – как боевой клич Кьеркегора, оно звучит у него повсюду и без конца. «Внутренняя история – единственная подлинная история»[234]234
S. Kierkegaard. Either – Or. Vol. II. Princeton University Press, 1974. P. 137.
[Закрыть], – заявляет первый же его большой текст, «Или – или». С неменьшей решимостью, неуклонностью, энергией, чем Декарт, Кьеркегор утверждает эту новую смену вектора, ведущую и к новому образу человека. В пику вовсе не только Гегелю, но и всему Новоевропейскому миросозерцанию, в пику проекту Декарта: Человек – Эго мироздания, Кьеркегор утверждает свой новый и совсем не новый проект: Человек – Эго (собственной) внутренней реальности. В этом проекте философ уже отнюдь не совпал со своей эпохой. Маятник продолжал еще двигаться в иную сторону, и датский мыслитель стал «забытым мыслителем» (штамп, без конца прилагавшийся к нему в пору его переоткрытия, в начале 20 в.). Но через несколько поколений обратное движение, исподволь набрав силу, стало победившей тенденцией – и «забытый мыслитель» посмертно получил все заслуженные хвалы и награды. Он, однако, не стал одним из столпов некоего очередного господствующего миросозерцания. Смена вектора, которую он инициировал, вела, в частности, к тому, что само время миросозерцании, «время картины мира» уходило, кончалось. Времена наступавшие отвечали иной фактуре человеческого существования, иному мироощущению, которые больше не принимали устойчивых и безусловных, цельных и завершенных форм, строясь в элементе разорванности, дисгармонии, ненадежности. Способствовать пришествию подобных времен – особая и никак уже не Декартова роль. «Входя в новый мир, мы видим Кьеркегора и Ницше как буревестников перед непогодой… Они знают сами, что они – знаки в море; по ним можно ориентироваться, но только если держаться от них на расстоянии»[235]235
К. Jaspers. Kierkegaard // Id. Rechenschaft und Ausblick. München, R. Pieper Verlag, 1951.
[Закрыть].
Особая роль требовала и особых предпосылок. Чтобы так неутомимо и страстно, с постоянством, прошедшим через всю творческую жизнь, утверждать, проповедовать, доказывать, что смысл и назначение существования человека – единственно и исключительно в погружении в свою внутреннюю реальность, – несомненно, требовалось и самому обладать не совсем заурядной внутреннею реальностью. Но сказать лишь это о внутренней реальности Кьеркегора – очень мало сказать. Мы будем ближе к истине, выразившись гораздо сильней: уникальная, фантастическая фактура внутренней реальности и есть то, что породило феномен Кьеркегора. В первую очередь, к ней весьма подойдет словцо сегодняшней поп-культуры: драйв. Всю внутреннюю стихию этого немыслимого анахорета-фланера, молчальника-болтуна пронизывает невероятный, неукротимый драйв – письма, творчества, а за этими формами какой-то еще более глубинный и властный драйв; драйв, до последнего дня не дающий остановиться в письме, творчестве, выстраивании все новых миров мысли, и через всё это – в напряженном исполнении некой Главной Задачи. Атмосфера этой стихии с ее ирреальной интенсивностью, горячечной возбужденностью, истовым стремлением к какой-то непонятной цели, как будто не отдаленной, но в то же время не осязаемой, недоступной здравому смыслу и даже философскому разуму, – сродни уже не Декарту, а Достоевскому Это атмосферное сходство столь велико, что, открыв его, всерьез начинаешь удивляться, отчего у Кьеркегора не было эпилепсии[236]236
Ср. суждение Бахтина о Кьеркегоре: «Близость его к Достоевскому изумительная» (из записей В.Д. Дувакина). С середины прошлого века, подобные суждения – общее место.
[Закрыть]. (Родство двух фигур далеко не ограничивается психологической атмосферой, но затрагивает сам жизненный нерв, затрагивает суть их «непонятной цели», выводящую к христианству и Христу. Но об этом – ниже.) Все способно поразить в этом невообразимом внутреннем универсуме – его необъятность и многомерность, причудливость его конфигураций, странность его механики и устройства, наконец, его жадность, втягивающая ненасытно в него, помимо философской и религиозной сферы, еще и все многообразие явлений художественно-эстетической реальности, театр, литературу, поэзию, музыку, – так что все эти миры, жанры, дискурсы сочетаются и переплетаются в нем в высшей степени прихотливо и запутанно.
Хотя наши задачи совсем не в биографическом плане, и нас занимает прежде всего антропология Кьеркегора, но все эти свойства творческой личности для нас важны. По Кьеркегору, как мы сказали, Человек – Эго собственной внутренней реальности; и, по крайней мере, для него лично этот тезис бесспорно справедлив. Все творчество датского философа – прямая проекция, развертка его внутренней реальности, с подлинным верная экстериоризация ее – со всеми ее специфическими и эксцентрическими свойствами. Ergo, панорама этого творчества несет все вышеописанные качества – огромную интенсивность, продуктивность (корпус основных текстов Кьеркегора, созданный всего за несколько лет, в несколько раз обширней аналогичного корпуса Декарта) – полифоничность, полидискурсность (здесь, наряду с философией и теологией, также эстетика, психологическая проза, христианская проповедь, полемика, эссе о музыке и театре и др.) – прихотливейшую запутанность и сложность (прежде всего, в строении философского дискурса, вызывающе импрессионистическом и антисистематичном, где в каждом очередном тексте – новый набор понятий и новые концептуальные схемы, решающие наново ту же ключевую проблему; и все эти наборы и схемы налагаются и переплетаются меж собой в бесконечном кружении…) Last but not least, тексты Кьеркегора отличаются и еще одной совсем особой чертой: они все подписаны разными «говорящими» псевдонимами, так что для каждого из них сконструирована своя авторская личность (причем философ однажды обнародовал строгое указание, чтобы при всех ссылках эти тексты упоминались как принадлежащие не магистру Кьеркегору, а надлежащему Имяреку). Тем самым, ансамбль текстов вводит и ансамбль лиц, порождая вопрос об отношениях этих лиц и превращаясь в диалогическое и полилогическое сообщество. Это сообщество – наиболее полный образ внутренней реальности своего творца, демонстрирующий какие-то его непростые игры идентичности. Наконец, еще элемент авторских игр – непременные подзаголовки вещей, указывающие их жанр, часто неожиданные или странно громоздкие: так, если «Или – или» несет подзаголовок «Фрагмент жизни», то «Ненаучное послесловие» – «Мимически-патетически-диалектический сборник», а «Понятие страха» – «Простецкое психологически-указующее рассуждение в связи с догматической проблемой первородного греха». И, без сомнения, вся эта диалогичность и полилогичность, все эти авторские игры – или комплексы? – существенны для верного прочтения текстов, внося в любую проблему изучения Кьеркегора особый герменевтический аспект.
Пред нами – явно более головокружительный автор, чем все, появлявшиеся прежде. Поэтому реконструкцию антропологии Кьеркегора нам придется начать с весьма дальних подступов – с простой дескрипции корпуса его творчества и биографических обстоятельств, необходимых для понимания этого корпуса. Биография в данном случае важна особо: для мыслителя, целиком обращенного к «внутренней реальности», собственная жизнь и личность не могли не служить ближайшим и главным материалом мысли.








