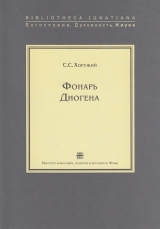
Текст книги "Фонарь Диогена"
Автор книги: Сергей Хоружий
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Прочность положения, занятого субъектом и индивидумом в европейской философии, во всем европейском способе мышления, поддерживалась их исторической укорененностью. С самого начала мы представляли мысль Декарта стоящей в магистральном русле европейской философии, к главным чертам которого мы относили тенденцию к индивидуации. Не будет лишним добавить, что эта мысль наследует и ряду других существенных линий в европейской философии, культуре, духовности. Держась ближе к теме о человеке, укажем прежде всего, что Человек Картезия продолжает и выражает антропологические интуиции Ренессанса. Верность Декарта духу и принципам ренессансного миросозерцания несомненна, его текст явственно доносит даже характерный творческий темперамент, который историки культуры привыкли связывать с Ренессансом: темперамент, где соединяются страсть к познанию и абсолютная уверенность в уже открывшейся, уже обладаемой истине, уверенность в своей правоте и неукротимый напор победительного продвижения мысли, и безграничная энтузиастическая вера в человека, а значит – и в себя (или, возможно, в себя, а значит – и в человека). То, как говорит он о своих открытиях, не раз вызывает в памяти слова Бруно: «от этих истин расширяется грудь и сильней бьется сердце!» – и эта явная близость тем значимей, что личные темпераменты неистового ноланца и осторожного, интравертного француза полностью противоположны.
Мысль Ренессанса была более идеологией, нежели философией, ренессансная антропология была декларативна и эклектична. Тем не менее, здесь ясно заявлялись главные установки, и из них выступал как будто довольно определенный образ человека. В нем были хрестоматийные ренессансные мотивы утверждения могущества и «достоинства человека» (по формуле Пико), был пафос безграничных возможностей творческого развертывания человека в познании безграничного мироздания. На языке наших «портретных черт» это значило, что здесь выдвигались, прежде всего, секуляризованность и примат когнитивной функции; конечно, присутствовала тенденция и к индивидуации, ярко выраженная в культе сильной творческой личности. Однако мы не найдем здесь дуалистичности, рассеченности человека; напротив, верным будет сказать, что в ренессансном видении человек представал единством, гармонической цельностью. Установкой Ренессанса был подлинный антропологизм, а не анти-антропологизм; антропология Ренессанса утверждала цельную, холистическую, секуляризованную индивидуальность, безгранично реализующую себя в творческом миропознании. Но эта антропология, повторим, была не столько философской концепцией, сколько красивой заявкой; и как таковая, она видела и учитывала отнюдь не все внутренние связи и следствия утверждаемых ею принципов. Поэтому мысль Декарта, соединявшая верность духу и направлению Ренессанса с философской проработанностью и глубиной, неизбежно должна была внести в эту антропологию некоторые коррекции. Когнитивный Первоакт Декарта показал, что пределом индивидуации и «подлежащим» активности познания служит не гармонический и утопический цельный человек, а «мыслящее», которое было тут же превращено в субстанцию и субъекта и усмотрено как полностью чуждое, иноприродное всему прочему в человеке, «протяженному». В итоге, единство и цельность человека оказались несовместимы с определяющими чертами миропознающей секуляризованной индивидуальности, и эта индивидуальность была конституирована как декартов индивид, дихотомически рассеченный и антропологически неполный. В этом и состояла декартова философская коррекция: холистический секуляризм Ренессанса в антропологии Декарт перевел в русло антропологии дуалистической. Это же можно сказать и так: ренессансную веру в человека Декарт скорректировал до веры в субъекта; и при такой коррекции антропологизм Ренессанса перешел в анти-антропологизм Нового Времени.
Отчасти сходной представляется и роль Декарта по отношению к другой линии в европейской мысли о человеке. Мы говорим о древней линии дуалистической антропологии, орфической, платонической, неоплатонической, преобладавшей в античности и сохранившей немалое влияние в христианскую эпоху. Соотношение Декарта с этою линией затрагивалось нами не раз и в разных аспектах; сейчас мы хотим лишь резюмировать его общий характер. Справедливо считать, что антропология или анти-антропология Декарта наследует и этой линии, которую мы также характеризовали как анти-антропологию. Но, как и в отношениях с ренессансной традицией, Декарт здесь снова – и продолжатель, и преобразователь. Суть трансформации, совершенной им, мы уже выяснили выше: если прежние дуалистические доктрины сосредоточивались на онтологической проблематике и носили религиозный, а часто и спиритуалистический характер, то Картезий переводит эту старинную, онтологически и спиритуалистски ориентированную анти-антропологию в гносеологизированное и секуляризованное русло, тем самым сообщая ей – опять-таки дух Нового Времени.
Вкупе, эти замечания ретроспективного характера позволяют уже с полным правом повторить нашу оценку места и роли антиантропологической концепции Декарта: Человек Картезия может рассматриваться как итог и синтез предшествующей европейской мысли о человеке, надолго ставший господствующей моделью для мысли последующей. Или то же, короче: Человек Картезия – не кто иной как Классический Европейский Человек. Нам предстоит проследить его судьбу, и ближайшая крупная страница в ней —
5. Кантовы антропотопики
В формировании концепции человека, отвечающей последним столетиям европейской истории, центральную роль без колебаний отводят Канту. Это справедливо, но вместе с тем и парадоксально. Справедливость непосредственно очевидна: не только в чистой философии, но и во всем мировоззрении Нового Времени, идеи и представления, связанные с человеком, в большинстве своем или принадлежат Канту, или восходят к нему, или же получили у него свое зрелое оформление. (Понятно, что наше утверждение первопроходческой и основоположной роли Декарта не противоречит этому, однако вносит уточнение: общие контуры и установки европейской антропологической модели относятся именно к тому, что у Канта лишь «получило зрелое оформление», до этого уже появившись у Картезия). Парадоксальность же становится очевидна из нашего анализа антропологических структур европейской мысли. В Разделе 3 мы нашли, что антропологии Декарта присуща определяющая черта, которую мы назвали «антиантропологичностью», передав ее суть как «отсутствие человека в качестве некоторого целостного единства». Сейчас пора описать точней, что же мы понимаем под «антиантропологичностью». Что, в самом деле, означает «отсутствие человека как целостного единства»? Философия, в которой присутствует «человек как целостное единство», не заимствует его готовым откуда-либо, она должна сначала сама же создать его. В свою очередь, это означает, что философия должна тематизировать «человека как целостное единство»: дать философскую постановку проблемы полного антропологического описания, представив некие критерии цельности и полноты философской дескрипции человека. При этом, необходимо концептуализовать полномерность, полносоставность человека, а также полноту его охвата в философском дискурсе, т. е. представленность в нем всех основных измерений природы и активности человека. Если подобная тематизация налицо – и только в этом случае! – мы скажем, что философский дискурс конституируется как «философия человека». (Мы оставляем пока в стороне термин «философская антропология», нагруженный долгой историей трактовок и попыток реализации; ниже, при обсуждении мысли Шелера, мы вернемся к нему За термином же «антропология» сохраним обычный широкий, размытый смысл всякого антропологического дискурса, речи о человеке). Если же в речи о человеке нет тематизации человека-в-целом, с предикатами и критериями единства, цельности, полноты, и напротив, присутствуют лакуны или иные факторы, исключающие полноту антропологической дескрипции, так что, в этом смысле, человек-в-целом изгоняется из дискурса, уничтожается, – мы говорим, что данной речи о человеке, данному опыту антропологии в той или иной мере присуще качество антиантропологичности. Стоит здесь подчеркнуть, что «философия человека», как мы определили ее, отнюдь не объявляет априорно человека цельностью и единством, но объявляет его целостность философской проблемой, априори допуская возможность любых решений. Напротив, антиантропологические концепции, согласно нашему определению, строят свой дискурс, априорно исключая конституцию человека как целостного, несводимого единства. И как можно удостовериться, этому определенно удовлетворяют все основные опыты антропологии в европейской мысли, от Платона и до Фуко. Возвращаясь же к антропологии Канта, можно сказать, что парадоксальность ее центральной позиции в новоевропейских антропологических воззрениях заключается именно в ее антиантропологичности, которая сравнительно с учением Декарта еще углубляется и усугубляется. Как мы далее убедимся, в ней действительно нет самой темы о человеке-в-целом. Под антропологическим углом зрения, философия Канта начинается с исследования некоторой выделенной (именно, когнитивной) сферы антропологической реальности, которая рассматривается в качестве главной; затем данное исследование дополняется аналогичными исследованиями некоторых других измерений этой реальности. Тем самым, как речь о человеке, эта философия строится не в логике постановки и последовательного раскрытия проблемы человека, но скорей в логике поочередного рассмотрения отдельных сфер и постепенного накапливания антропологического материала – так сказать, собирания досье на человека. Касательно же всей совокупности полученного материала Кант не ставит вопроса – и сами мы также не можем заключить, оставаясь в рамках его дискурса, – не содержит ли эта совокупность принципиальных упущений, зияний в философском образе человека: ибо внутренние критерии законченности и полноты философской дескрипции человека не установлены. Специально же антропологическое сочинение Канта, «Антропология в прагматическом отношении» (1798), отделяется им от метафизики и строится в ином дискурсе, эмпирико-описательного характера. Отчасти (но лишь отчасти) эти особенности кантовской мысли о человеке имеет в виду Хайдеггер, когда он в книге «Кант и проблема метафизики» акцентирует «эмпирический характер антропологии Канта».
Здесь также выступает один момент, крайне характерный для мысли Канта и важный для общей оценки его антропологии. Дело в том, что трудно найти философа, который более Канта заботился бы о полноте охвата философского предмета, представленности всех его составляющих и сторон; однако при этом, все до последней детали – предмет, полнота, составляющие предмета, способ их представления… – рассматривается в рамках кантова трансцендентального метода. Предмет получает место в сетке дисциплин, крупную структуру которой образуют Metaphysica generalis (она же онтология и она же трансцендентальная философия) и Metaphysica specialis, куда входят теология, космология, психология. В соответствии с этим местом, для него выстраивается исчерпывающая систематика, включающая и его составляющие, и стороны, и отношения, и проекции; иногда она даже представляется в форме таблицы. Полнота здесь никак не оставляет желать лучшего; и есть всего лишь одна малая заковыка. Она в том, что когда перед глазами нормального, в особенности же, русского человека возникает большая, на страницу «Критики практического разума», «Таблица категорий свободы» с графами по «количеству» и «качеству», «отношению» и «модальности», – вопрос у него встает о совсем иной полноте: полный ли автор идиот или еще есть надежда? Человек Канта – то самое существо, что являлось в кошмарах героям русской литературы: существо, которое «хочет по табличке», осуществляет свою свободу (??) по табличке – и собственно, целиком из табличек и состоит. Выраженный в литературе ужас перед таким существом имеет прямое отношение к вопросу о «полноте антропологической дескрипции». То, что питает этот ужас, применительно к философии Канта можно передать так: кантова систематика антропологических понятий может быть полной в некоем своем формальном смысле, может включать реальные характеристики человека и его ситуации, но при этом действительный человек может нисколько не отражаться, не помещаться в ней. Самое важное в нем окажется не в клетках таблиц, а где-то между ними, и в этом, более существенном смысле, антропологическая дескрипция здесь может быть не только не точна, но вопиюще искажена. Сегодня многое из того, что герои литературы прошлого лишь чувствовали, нашло положительное, концептуальное выражение, и мы прочно знаем, что описанная ситуация – не простая возможность: доподлинно, в антропологической реальности, в действиях и поступках человека куда влиятельнее и глубже совершенно другие силы, принципы, связи, нежели те, что стоят у Канта в его таблицах, образуя топики и типики. Человек в самом деле не в их клетках, а между ними, и кантовы сети не улавливают его, они притащили мертвеца. И то, что подобная глубоко антиантропологичная антропология оказалась в центре, в основе классической европейской модели говорит многое о европейской антропологической мысли: мы можем заключить, что качество антиантропологичности присуще всему ее главному руслу и всему пути.
По поводу же антиантропологичности системы Канта надо сделать существенное уточнение. У Канта отнюдь нет утверждения, что его трансцендентальная аналитика, будь то в «Критике чистого разума», «Критике практического разума» или какой-либо совокупности текстов, доставляет полную трансцендентальную систематику человека как такового, подобно обычным предметам трансцендентальной философии. Человек как таковой не объявляется предметом в орбите трансцендентального метода, его статус в философии Канта сложнее и уникальней, но вместе с тем, и двусмысленней. Как хорошо известно, в конце «Критики чистого разума» сформулированы знаменитые три вопроса (1. Что я могу знать? 2. Что я должен делать? 3. В чем у меня потребность надеяться?), в которых «соединяются все интересы как спекулятивного, так и практического разума». Столь же известно, что во «Введении к Лекциям по логике» три вопроса дополняются четвертым, и весь список получает истолкование несколько иного рода, ориентированное именно к антропологии: «Поле философии… может быть сведено к следующим вопросам: 1. Что я могу знать? 2. Что я должен делать? 3. В чем у меня потребность надеяться? 4. Что такое человек?.. В основе, все это можно причислять (rechnen) к антропологии, поскольку три первых вопроса сводятся к последнему»[112]112
I. Kant. Einleitung zu Logikvorlesung. Цит. по: М. Heidegger. Kant und das Problem der Metaphysik. Fr. a. M., 1965. S. 187–188.
[Закрыть]. Данные слова Канта указывают определенный способ прочтения его философии – или иначе говоря, они представляют собой метавысказывание: тезис о том, что по отношению к его системе философии, над ней, существует мета-уровень, или мета-дискурс, в рамках которого вся эта система представляется некоторым новым и притом единым образом; и этот мета-дискурс есть «антропология», представляемая как раскрытие вопроса «Что такое человек?» Тем самым, этот мета-тезис Канта является и указанием на то, каково истинное отношение его системы к антропологии. Разумеется, многие ее категории несут антропологический смысл, и в ней есть уровень непосредственного антропологического содержания, к которому и относились все наши суждения. Но истинное ее антропологическое содержание раскрывается лишь путем особого прочтения или дешифровки всей системы в целом как антропологии, или иными словами, путем надстраивания мета-дискурса; и это истинное содержание может, вообще говоря, оказаться весьма отличным от непосредственного. Человек как таковой, как предмет вопроса «Что такое человек?» выступает, таким образом, как не столько предмет, сколько «мета-предмет», не столько содержимое, сколько искомое трансцендентальной философии; и в свете этого, наши выводы об антиантропологичности последней могут быть и не вполне справедливы.
С другой стороны, не менее важно то, что антропологический мета-дискурс к трансцендентальной философии отнюдь не был выстроен; Кант лишь заявил о его возможности. Дальнейшая европейская философия не заинтересовалась этим заявлением и не делала попыток реализовать его; вместо этого, она приняла в качестве своей антропологической базы именно «непосредственную» антропологию Канта с ее антиантропологизмом. (Единственным исключением, уже в наше время, явился Хайдеггер, и о его рецепции кантовской антропологии у нас еще будет речь). Соответственно, и для нас нет иного выбора, как в дальнейшем обсуждении всюду иметь в виду лишь «непосредственную» антропологию Канта: единственную реально наличную.
* * *
В исходных установках своего философствования, отправных темах своей мысли Кант легко может показаться не столь радикален и решителен, как Декарт. Картезий сразу и напрямик входит в предмет и проблему – проблему, которую он видит главной и коренной; и движется к решению исключительно путем прямых личных отношений с предметом, не допуская между ним и собою никаких внешних инстанций, будь то свидетельства традиции, каноны дисциплины или любые другие направляющие указания. Из всей предшествующей философии для него заслуживают упоминания разве Платон и Аристотель, и то лишь ради заявления, что у них также почерпнуть нечего. Что же до Канта, то, по словам Хайдеггера, он отправлялся от «школьного понятия метафизики» своего времени – понятия, которое «можно передать дефиницией Баумгартена: Metaphysica est scientia prima cognitionis humanae principia continens. Метафизика – наука, содержащая первые принципы человеческого познания»[113]113
М. Heidegger. Kant und das Problem der Metaphysik. 3 Aufl. Fr. a. M., 1965. S. 15.
[Закрыть]. Он был тесно связан с этою школьной метафизикой, представленной ныне полузабытыми именами: детально в ней разбирался, писал о ней и явно не стал бы отрицать, что немецкая школьная философия и была исходной почвой для его мысли. В противоположность Декарту, здесь перед нами как будто не предметное, а «дисциплинарное» мышление, мышление школьно-схоластического типа, занятое не столько реальностью как таковой, сколько ее вмещением в дисциплинарные рамки и правила, дефиниции и классификации.
Как привычно в философии, истина отстоит далеко от первого впечатления. Действительная картина общего и различного, совпадений и расхождений у двух мыслителей гораздо глубже и поучительней. Прежде всего, на самом общем уровне, их объединяет эпоха (которую они же и создавали): и это уже немало. По убеждению человека Нового Времени и Просвещения, мироздание и человек были разумны и адекватны друг другу: человек наделен разумом, т. е. познающим началом, мироздание – разумным, т. е. познаваемым устройством, и таким образом, вся картина реальности естественно и необходимо представлялась в ключе познания. Способность познания оказывалась в кардинальнейшей роли, на нее возлагались все надежды, и ею определялись целиком и сущность, и ситуация, и миссия человека. И не будет ошибкой сказать, что центральной проблемой, занимавшей мысль Декарта и мысль Канта, была одна и та же проблема: а именно, проблема человеческого познания. Оба мыслителя – в том же русле когнитивно ориентированного философствования, начало которому положил Декарт и к которому, как видно из дефиниции Баумгартена (1743), принадлежала и предкантовская немецкая философия. Но далее следуют достаточно капитальные различия. Проблема познания изначально видится Кантом совершенно иначе: многоаспектней и глубже; и за счет этого, она оказывается у него не только когнитивной проблемой как таковой, но одновременно – проблемой онтологии, проблемой трансцендирования, а также, как мы увидим, и «дисциплинарной» проблемой, проблемой оснований и границ метафизики (откуда и связи со школьной философией предстают в новом свете).
В постановке Канта, средоточием проблемы выступает вопрос, занимавший очень малое место у Декарта: вопрос об основаниях познания, в свою очередь, сразу выводящий к вопросу об основаниях познающего разума. Для Декарта философское исследование когнитивной способности, по последнему счету, функционально. Мы ясно прослеживаем у него прагматическое отношение к акту и процессу познания: они должны приносить полезные плоды и для этого их данные должны обладать ясностью и отчетливостью, достоверностью и безошибочностью – возможность чего должны, очевидно, обеспечивать некие основания и предпосылки, которые, в силу данной цепочки причин, также следует выяснить. Но у Канта, для его философского сознания, вопрос об основаниях – не в конце цепочки причин, а напротив, в самом начале. Это – коренной вопрос, который должен быть задан о каждом предмете мысли и в свете которого предмет собственно и становится философским предметом; именно в ответе на этот вопрос развертывается философское продумывание предмета. У Канта он облекается в форму вопроса о внутренней возможности предмета; и в кантовском вопрошании: «Как возможно…?», обращаемом к любому явлению и предмету, сразу распознается известная с древности реакция аутентично философского сознания: θαυμάζειν, философское удивление.
Чтобы держаться ближе к терминологии и схеме, уже принятым выше, при обсуждении учения Декарта, мы можем говорить, что ядро и основу критической философии Канта также составляет «конституция когнитивного акта»; но сейчас к этой формуле нужно существенное уточнение. С выдвижением в центр вопроса об основаниях познания, проблемой становится конституция такого когнитивного акта, в котором познание, как говорит Кант, «занимается не предметами, а способом нашего познания предметов»[114]114
I. Kant. Kritik der reinen Vernunft. Hamburg, 1993. S. 74.
[Закрыть]. Это особый род познания: познание, обращающееся на собственные основания, конституирующее и исследующее их посредством специфической активности, которая есть одновременно и постигающее всматривание в них и образование-выстраивание их (Bildung). В разных своих аспектах, оно обозначается целым рядом терминов: познание трансцендентальное, априорное, априорно-синтетическое, онтологическое, чистое; познание бытийного устройства (Seinsverfassung) сущего и т. д. Эти термины отнюдь не синонимы, но все они характеризуют род и способ познания, отчетливо не идентифицированный докантовской философией и принципиально отличный, по Канту, от обычного «познания, занимающегося предметами» и обозначаемого как опытное, эмпирическое, онтическое познание, познание сущего и т. д. При этом, по своему исходному смыслу, чистое познание, представляя основания познания как такового, должно служить фундирующим горизонтом для эмпирического познания – что, очевидно, должна обеспечивать его конституция. Нам нет разумеется, нужды излагать лишний раз эту классическую конституцию; но следует представить те ее понятия и те элементы ее основоустройства, которые необходимы для реконструкции антропологического дискурса в критической философии.
Конституция чистого познания («априорного синтеза», «онтологического синтеза» и т. п.), осуществляемая в «Критике чистого разума», – крупномасштабное построение с редкостным, уникальным уровнем эвристики: как пресловутый самолет, который в полете изготовляет и выпускает из себя другой, более совершенный самолет, мысль Канта, двигаясь по сложным путям, одновременно и непрестанно вырабатывает новый, а затем снова еще новый концептуальный аппарат, изменяющий ее собственную природу, – и при этом неуклонно выдерживает направление основного продвижения, безошибочно приближаясь к поставленной изначально цели. Чтобы сжато описать этот уникальный tour de force чистого разума, мы воспользуемся его реконструкцией у Хайдеггера, где специально выделен нужный нам онтологический аспект. Хайдеггер разделяет процесс на следующие пять стадий.
1. Идентификация сущностных элементов чистого познания: по отдельности, вне их связей. Таковыми элементами признаются чистое созерцание и чистое мышление, в свою очередь, представляемое как набор понятий чистого разума (Notions).
2. Предварительное исследование сущностного единства чистого познания. Поскольку конституция равносильна установлению сущностного единства конституируемого, то это, в известном смысле, ключевая стадия; на ней выявляются средства и намечается стратегия решения стоящей проблемы. Выясняется, что орудием и средством осуществления единства, т. е. синтеза чистого созерцания и чистого мышления, может служить способность воображения (Einbildungskraft): «Синтез, как мы в дальнейшем увидим, есть простое действие способности воображения, слепой, хотя и неотъемлемой функции души, без которой мы не могли бы иметь нигде и никакого познания, но которую мы лишь редко осознаем»[115]115
Ib. S. 148.
[Закрыть]. Само же единство полной сущности чистого познания включает три компоненты: «Первое, что должно быть нам дано для цели познания любых предметов априори, есть множественность чистого созерцания; синтез этой множественности с помощью способности воображения есть второе, однако это еще не дает познания. Понятия, которые доставляют единство этому чистому синтезу и состоят попросту в представлении этого необходимо синтетического единства, являются третьим [, что нужно] для познания соответствующего предмета, и имеют основу в разуме»[116]116
Ib. S. 149. (Курсив Канта).
[Закрыть]. Ввиду участия здесь «понятий (чистого) разума», к данной стадии принадлежит и аналитика этих понятий, представляющая и исследующая их как «онтологические предикаты», или, что то же, категории (трактовка которых у Канта не совпадает с аристотелевской).
3. Трансцендентальная дедукция. Рассмотрение единства чистого познания на предшествующей стадии еще не было полным осуществлением кантова методологического принципа вопрошания об основаниях. Это единство анализировалось как предположительно существующее, и еще не ставился вопрос о собственных его основаниях, его внутренней возможности. Данный вопрос составляет содержание очередной стадии онтологического синтеза, задачу которой Хайдеггер формулирует так: «В чистом синтезе должны мочь встретиться чистое созерцание и чистое мышление априори. Чем и как должен быть сам чистый синтез, чтобы быть достаточным для заданий подобного единения?.. Прослеживание изначального само-формирования (Sich-bilden) сущностного единства онтологического познания есть смысл и задача того, что Кант называет “трансцендентальной дедукцией категорий”»[117]117
М. Heidegger. Op. cit. S. 68.
[Закрыть]. (При этом, понятие дедукции Кант употребляет в значении, принятом в сфере права, вместо обычного логико-философского значения). Данная стадия отличается тонкостью и запутанностью; ее трактовка заметно менялась самим Кантом во втором издании «Критики чистого разума» сравнительно с первым. К тому есть весомые причины: именно на этой стадии выявляется, что чистое познание есть в существенном трансцендирование: обращенность, исхождение, исступление познающего вовне, от себя, из себя – к сущему; и лишь с появлением концепции трансцендирования в центре, в фокусе онтологического синтеза, получает освещение и оправдание само кантовское определение своего метода, специфического характера его понятий – как «трансцендентального», соотносящего с трансцендированием. Трансцендентальная дедукция должна раскрыть всю в целом структуру чистого синтеза таким образом, чтобы эта структура выступила как основоустройство трансцендирования. Одним из важных результатов ее является уточнение: совершающей силой чистого синтеза служит трансцендентальная, или же «чистая продуктивная» способность воображения, поле которой не ограничивается содержаниями, почерпнутыми из опыта. Именно эта способность оказывается тем необходимым посредством, срединной инстанцией в икономии чистого познания, которая может свести вместе, сопрячь чистую апперцепцию и чистое созерцание.
4. Трансцендентальный схематизм. После стратегически ключевой второй стадии и концептуально решающей и центральной третьей, конституция входит в завершающие фазы. Как выяснено на третьей стадии, критическую важность для всей конституции в целом имеет активность трансцендентальной способности воображения, обеспечивающая единство чистого познания и выступающая как конститутивный элемент трансцендирования. Кант находит, однако, что при рассмотрении трансцендентальной дедукции специфический механизм, каким эта способность осуществляет свою единящую и трансцендирующую функцию, еще остается темным; и для изведения этого темного механизма в прозрачность выстраивается очередной круг новых идей и понятий. В трансцендировании как исхождении к сущему, к чувственной реальности, созерцание выступает как восприятие, оно должно облечься в чувственное; то же должно произойти и с другой компонентой чистого познания, апперцепцией: ее содержания, чистые понятия, также должны совершить это исхождение и облечение («очувствливание», Versinnlichung). «Горизонт трансцендирования может формироваться (sich bilden) лишь в очувствливании… трансцендирование формируется в очувствливании чистых понятий… [причем] это очувствливание также должно быть чистым»[118]118
Ib. S. 87–88.
[Закрыть]. Именно это чистое очувствливание чистых понятий, входящее в сущность трансцендирования, Кант выражает понятием «трансцендентальный схематизм», или же схемообразование, совершаемое чистой способностью воображения.
Введение новых терминов не слишком содействует прозрачности; основное продвижение к ней достигается в скрупулезном анализе понятий «схема», «образ», «чистый образ» (связанный с чистым созерцанием, каковое, по Канту, есть время), «схемообразование». Эта аналитика раскрывает двойственную, сопрягающую природу всех специфических понятий стадии схематизма. Само же понятие схемы обнаруживает такую природу сразу в нескольких отношениях. Прежде всего, схема осуществляет связь чистого созерцания с чистым понятием и апперцепцией: она сопоставляется чистому понятию таким путем, что в схемообразовании она одновременно связуется с чистым образом, лежащим в поле чистого созерцания; и, как явствует отсюда, схемообразование именно и есть тот механизм, посредством которого трансцендентальная способность воображения осуществляет свою единящую и трансцендирующую миссию. Далее, схема делает возможным «приложение категорий к явлениям», причем для передачи способа и характера этого приложения Кант вводит еще новое понятие «подчиненности» (Subsumtion), заимствуемое на сей раз из логики, и говорит о «подчиненности эмпирических (вообще, чувственных) созерцаний понятиям чистого разума». И наконец, в качестве почти тавтологической, но отнюдь не лишней, вариации последнего свойства, можно заметить, что, осуществляя посредствующую функцию между явлениями и понятиями чистого разума, кантова схема есть бинарный объект, соединяющий в себе чувственную и интеллигибельную стороны: «Это посредствующее представление должно быть чистым (без всякого эмпирического элемента) и, однако, с одной стороны, интеллектуальным, с другой же чувственным. Таковым представлением и является трансцендентальная схема»[119]119
I. Kant. Op. cit. S.214.
[Закрыть]. Идея подобного бинарного «умно-чувственного» предмета очень вскоре будет развита Шеллингом в его концепцию символа, а затем станет ядром целой особой ветви «символической» философии и эстетики; и в свете теснейшей включенности кантовой «схемы» в его концепцию трансцендирования, нам открывается здесь нить, связующая трансцендирование у Канта с идеей символа.








