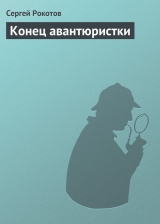
Текст книги "Конец авантюристки"
Автор книги: Сергей Рокотов
Жанр:
Крутой детектив
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
9.
– Ты уж извини меня за ночной звонок, Эдуард Григорьевич, – приветливо улыбался Иляс, сидя в черном костюме за шикарным столом в своем рабочем кабинете. Напротив него сверкал роговыми очками довольный произошедшим Верещагин. – События-то, сам понимаешь, какие творятся. Я погорячился, честно говорю, погорячился, и все. Сам посуди, будят меня, говорят – похитили солдата, выстрелы слышны. Охранник избитый валяется. Черт знает, что. Я спросонья и вспомнил про давешний инцидент в твоей резиденции, даже не подумал, зачем тебе это могло понадобиться, такая попадаловка… Правда, до сих пор не могу понять, кому он все-таки мог понадобиться, загадочная какая-то история. Но, впрочем, нам сейчас с тобой не до солдата. А нам до комбината. Врать не стану, дела надвигаются грозные, Эдуард Григорьевич, события нарастают, словно снежный ком, и мне доложили надежные люди из Москвы, что в самые ближайшие дни грядет проверка из Генеральной прокуратуры. Как был приватизирован комбинат, прекрасно знаешь сам, знаю и я. Тебе светит очень серьезная статья, Эдик. Друзья твои, с которыми ты так славно развлекался в Амстердаме, теперь, сам знаешь, не у власти, помочь тебе они не могут, да и если бы могли, не захотели бы. Такие никому не помогают. А помочь тебе можем только мы – губернатор Лузгин и я. Мы покупаем у тебя акции комбината, все, что у тебя есть. Разумеется, по очень льготной цене. Комбината ты лишаешься, выправляешь себе фальшивый паспорт и катишься отсюда чем дальше, тем лучше. А вот акт продажи акций соответствующему лицу будет оформлен надлежащим образом, к этому не придерется никакая комиссия, никакая Генеральная прокуратура. Короче, остальное наш проблемы. Твои проблемы мы с тебя снимаем, Эдик. Ты получаешь кругленькую сумму, оформляешь акт продажи и… становишься гражданином мира. Для тебя это очень хороший вариант и раздумывать тут, практически, не о чем…
– Я не могу сказать, что это очень хороший вариант, Иляс Джумаевич, – возражал Верещагин. – Я не вижу никаких оснований для того, чтобы мне бежать отсюда, как заяц. Да, определенные нарушения при приватизации были, но у кого их не было в те бурные послекоммунистические годы? Тут дело в другом, против меня ополчились вы с губернатором, вы больше не хотите помогать мне, и я не понимаю, почему такая немилость? Я честно делился с вами…
– Ты делился, шакал? – сразу помрачнел Иляс, привставая с места. – Ты называешь это делиться? Ты считаешь нас с губернатором за полных идиотов? Понимаю, понимаю, ты – инженер с высшим образованием, твоя жена – интеллектуалка и меценатка, а мы с Семеном Петровичем заурядные уголовники, у него восемь классов образования, у меня ни одного, врать не буду, моя нога ни разу не ступала на школьный порог. Но считать до определенной суммы меня научила эта поганая жизнь, в которой каждый за самого себя. Хочешь, я тебе назову номер одного очень интересного счета в швейцарском банке? Хочешь, я назову сумму этого счета? Хочешь, я назову имя обладателя столь пухлого счета? Вернее, обладательницы. Что-то ты взбледнул с лица, Эдуард Григорьевич… Может быть позвать к тебе врача из травматологического отделения, чтобы ты скорее отмучился?
– Ты опять про это? – прошептал помертвелыми губами Верещагин.
– Да ладно. Об этом не будем, все это сущие мелочи, я уже сказал, Эдик. Ты думай о другом, например, о счете в швейцарском банке, на котором лежит триста двадцать три миллиона долларов на имя некой…
– Не надо!!! – закрыл ладонями уши Верещагин. – Не надо, нас могут услышать! Я на все согласен, только… только…
– Полагаю, ты хочешь спросить, сколько мы тебе дадим денег за твои акции? Не так ли?
– Так…, – выдохнул мэр.
– Мне поручено предложить тебе сумму в один миллион долларов.
– Да ты с ума сошел! За мои акции? Миллион долларов? Да ты знаешь, сколько они стоят?
– Значит, счет почти в треть миллиарда ты в расчет не берешь? Ох, и жаден ты, над тобой маячит тюремная параша, а ты цепляешься за жалкие деньги. Там у тебя будут другие критерии, я тебя уверяю, исходя из собственного опыта. Кусок хлеба, глоток воздуха, а самое главное – отношение сокамерников. А уж если ты туда попадешь, я о тебе побеспокоюсь. Я позабочусь о том, чтобы твое существование стало совершенно невыносимым. Ты ответишь за то, что обманывал нас с губернатором, нас, которые все время поддерживали тебя, несмотря на то, что вы со своей женой презирали нас, как каких-то недочеловеков.
– А ты знаешь, – вдруг побледнел ещё сильнее Верещагин, впиваясь пальцами в подлокотники кресла. – Кто… Ну… На кого открыт счет?
– Счет-то? Да на какую-то немку, – равнодушно ответил Иляс. – Фамилию забыл, на Шелленберг похоже… Какая разница, на кого он открыт, найти подставную фигуру нетрудно, знаю по личному опыту. Факт, что там лежат деньги, которые ты выкачал из комбината, а нам с Семеном Петровичем отстегивал жалкие крохи.
Очки Верещагина вдруг сверкнули мгновенной радостью, но Иляс ни на секунду не обнаружил того, что эту радость заметил.
– Ну, откуда мы все это узнали, это наши дела, – продолжал Иляс, быстро уводя разговор в нужном ему направлении. – Главное, что ты должен понять – при варианте, предложенном нами, все остаются при своих интересах, ты продаешь нам акции на миллион долларов, катишься в свою Швейцарию и жируешь там до потери сознания. А комбинат остается нам. Все по закону, все по уму, все довольны, все смеются. А уж кто посмеется последним, об этом ведает лишь всемогущий Аллах.
– Я согласен, – твердо объявил Верещагин.
– Ну и славно. Теперь важно, как нам оформить акт купли-продажи акций. Афишировать все это нам ни в коем случае не на руку, и в принципе, можно все оформить тайно, без шума, но совершенно законным образом. И это уже наши проблемы, мы заинтересованы, мы все и устроим. Сейчас поедем в одно официальное, но вполне надежное место, где нас ждут с нетерпением, ибо опять же материально заинтересованы в этой сделке, там все и оформим. А последствия пусть тебя не беспокоят. Ты беспокойся о себе.
… Продажа пакета акций заняла не так уж много времени. Акции были в руках Иляса, а Верещагин получил от него чемоданчик с миллионом долларов в банковских упаковках.
… – Неужели ты не понимаешь, что все это опять же совершенно противозаконно?! – кричал Семен Петрович Лузгин, держа в руках документы, которые принес ему Иляс. – Все тайком, без участия совладельцев, без собрания акционеров! Да любая проверка разметелит нас в пух и прах!
– А и не будет никакой проверки, – пожал плечами Иляс. – Я в Москву тоже не прохлаждаться езжу и не так скуп и глуп, как господин Верещагин, с кем надо связи налажены, в соответствующих органах тоже, будь спокоен. Но даже если и будет проверка, мы-то с тобой причем тут? Совладельцем комбината отныне является подставное лицо, я подобрал прекрасную кандидатуру. Этот не продаст, он весь состоит из сплошных проблем, из неладов с законом, из неладов с братками. Не вывернется и пасть свою не разинет. Не боись, Семен Петрович, езжай себе спокойненько в Москву и заседай там в Совете Федерации. Влупи им там по первое число, чтоб знали…
– Вот именно, – нахмурил бровки Лузгин. – Я тут совершенно не при чем. А, соответственно, и мои советники, и помощники. Как бы только этот Верещагин опять не подгадил, это такая, должен тебе сказать, скользкая тварь, из любой ситуации вывернется…
– Из этой не вывернется, – заверил его Иляс. – Я всего тебе не рассказываю, ты занят важными государственными делами, насущными проблемами области, и кое-какие проблемы я с твоего позволения решу сам. Счетец его в швейцарском банке в самое ближайшее время пойдет на благо родины… И её преданных слуг, разумеется, – загадочно улыбнулся он. – А против мэра у меня есть такое, чего он никак не ожидает… Короче, все козыри у меня на руках. А Верещагин будет идти как щенок по тому лабиринту, который я для него подстроил. И все в соответствии с законом.
– Вот это хорошо, это очень хорошо, – важным голосом одобрил его слова раздобревший губернатор. – Все должно быть в соответствии с законом. Не надо нам никакой уголовщины. Не потерплю!!! – привстал он и стукнул кулаком по столу, подражая одному известному деятелю. – А все же, – снова присел он на свое мягкое кресло, – неплохо было бы, чтобы комбинат был в наших руках…
– Ох и жаден ты, Семен Петрович, – вздохнул Иляс. – Да он и так в наших руках, хотя у нас с тобой и без него денег выше крыши. Вспомни, как мы с тобой на нарах бычок пополам делили, нам бы тогда блок или хоть пачку «Примы» или бутылку настоящей водки, или палочку свиного шашлычка… Вот каков был у нас предел мечтаний, дорогой блатырь… А теперь тебе все мало… Ох, нехорошо…
– Тебе, как будто, деньги не нужны? – буркнул недовольный неприятными воспоминаниями Лузгин. – Можно подумать, ты святым духом живешь или утренним намазом…
– Не совершаю я, Семен Петрович, намаз. Грешен. Не мусульманин я, и не православный. И не католик, и не буддист. Не знаю я своей национальности, понимаешь, не знаю. Помню себя, как шлепал босиком по грязи, подбирал брошенные куски хлеба и ел их, не очищая от грязи, помню, как мне семилетнему выбивали зубы за украденную булку или огурец, а вот насчет национальности не у кого было спросить. Сколько помню себя, был Илясом, фамилию дали в детдоме, где я чалился несколько месяцев. А так один черт знает, кто я такой… Глаза раскосые, а борода растет, как у грузина, два раза в день приходится бриться. Грудь волосатая, ноги… Узнать бы, кто я на самом деле, кто мои родители… Впрочем, незачем это, – махнул он рукой. – А деньги – прах, Лузга! Прах! Главное – борьба, главное – игра. И ещё мне тут сказали какое-то странное словечко – с п р а в е д л и в о с т ь… Не слышал?
– Дурака валяешь? – помрачнел Лузгин. – Горбатого лепишь?
– Отвыкай от блатного жаргона, Лузга, то есть, многоуважаемый Семен Петрович. А деньги эти проклятые мне, разумеется, тоже нужны. Для того, чтобы чувствовать свою независимость, чтобы не пресмыкаться ни перед кем. Но не так уж мне их много нужно, как тебе… Кажется…, – добавил он, смягчая свою мысль.
Смягчился и Лузгин, он встал из-за стола и начал вальяжно расхаживать по длинному кабинету в своем светлом, безукоризненно выглаженном костюме, заложив руки за спину.
– Молодец ты, – похвалил он Иляса. – Просто молодец! Что бы я без тебя делал?
– Что ты, что ты, Семен Петрович, свято место пусто не бывает, не я, так другие бы тебе помогали. Ты у нас птица высокого полета, такой губернией управляешь. Она в несколько раз больше какой-нибудь там Бельгии или Швейцарии, чувствуешь масштабы?!
– Лучше одна Бельгия, чем двадцать заснеженных пустынь, населенных уголовниками, – буркнул Лузгин, однако слегка выпятив от гордости живот и громко щелкнув подтяжками.
Иляс расхохотался.
– Двое из этих уголовников находятся здесь, так что не надо о присутствующих, – попросил он, продолжая смеяться. – А дело мерзкого мэра я доведу до конца. Тут могут быть и нюансы, особенно, что касается его счета на круглую сумму. Объект ещё не доведен до необходимой кондиции, он еще, так сказать, не дозрел, Семен Петрович…
… Объект же в это время ехал на своем белом «Мерседесе» в свою загородную резиденцию. На коленях он держал кейс с миллионом долларов, полагая, что сейчас он совершил правильный поступок, так как лучше потерять часть, чем все. Он сидел на мягком сидении и вспоминал историю, вспоминал, что во время революции выжили именно те, кто успел вовремя смыться из революционной России. А те, кто призадержались по тем или иным причинам, сгнили в бескрайних просторах ГУЛАГа.
«Завтра же, завтра же надо сматываться», – думал Верещагин. – «Ни секунды промедления. Прямо в Кобленц к Ленке, а потом снять деньги со счета и ту-ту… Куда-нибудь в бескрайние просторы Соединенных Штатов Америки, на покой, на отдых… Новые документы, новая жизнь… Вилла, море, красотки… А Верка пускай катится, куда хочет. Я её с собой в новую жизнь не возьму, попользовался её услугами, и все. Она тоже поимела немало. Пришла пора разбегаться. Так-то вот…»
«Мерседес» подкатил к четырехэтажному особняку. Из него, держа коричневый кейс в руке, вышел Верещагин, вполне довольный собой. Он направлялся к дому, сопровождаемый охранниками и слугами.
– Вера Георгиевна дома? – важно спросил мэр.
– Нет, она куда-то уехала, – сообщил охранник.
– По магазинам? – уточнил Верещагин.
– Да нет, она вышла из ворот с маленьким чемоданчиком в руке и просила, чтобы никто её не сопровождал. Я сказал, что так не положено, что ей полагается машина с шофером и охранником, так она на меня так закричит: «Пошел вон! Скоро вас всех отсюда разгонят! Кончилась лавочка! Бегите, пока не поздно, да прихватывайте с собой все, что плохо лежит. Такой кормушки у вас больше не будет!» Я даже оторопел, а она пошла по дорожке к трассе. И все, – сообщил охранник, пожимая плечами в недоумении и вопросительно глядя на хозяина.
– Так…, – прошептал Верещагин. – Значит, так…
Он прошел в дом, налил себе рюмку водки, и в это время прозвенел телефонный звонок. На проводе был Палый. Из Москвы.
– Задание выполнено, Эдуард Григорьевич, – мрачным голосом сообщил он. – Объект отбыл в Америку. Произведен контрольный…
– Заткнись, сволочь! – закричал Верещагин. – Думай, куда звонишь!
– Я хотел сказать, произведен контроль за посадкой, – поправился Палый.
– Хорошо, хорошо, приедешь – получишь необходимые бумаги, – пробубнил Верещагин и положил трубку.
Потом посидел немного, выпил ещё виски, а затем вскочил с места, словно ужаленный.
– Эй, вы! – завопил он. – Срочно в машину! Едем в аэропорт! Немедленно!!!
На бешеной скорости «Мерседес» с мигалкой мчался к аэропорту. Когда он с визгом подрулил к главному зданию, из лимузина почти на ходу выскочил мэр и бросился к справочному бюро. За ним еле поспевали телохранители.
– Куда в последние часы вылетали самолеты? – спросил он дежурную.
– Самолеты вылетели в Москву и Санкт-Петербург. Ожидается рейс на Владивосток.
Верещагин побежал в машину, взял мобильный телефон и стал звонить сначала в Москву, а затем в Санкт-Петербург надежным людям. Он просил немедленно ехать в аэропорты и встретить там Веру Георгиевну, которую надлежало задержать и сообщить об этом ему. Срочно. Причин для таких действий он не объяснял. Но их и не спрашивали. Те люди не задавали лишних вопросов. Надо, значит, надо…
… В это же время худенькая, бедно одетая женщина с потертым стареньким чемоданчиком ехала в плацкартном вагоне в сторону Москвы. Она заказала себе чаю и прихлебывала этот жиденький чаек из казенного стакана, заедая его сухой, как она сама, галетой. При этом завязался неторопливый разговор с соседями по вагону. Речь шла о произволе властей и бесправии и нищете народа. Женщина с чемоданчиком потрясала кулачками и грозила кому-то высокопоставленному страшными небесными карами. «Отольются им наши слезы!» – вопила она так, что её успокаивали соседи по вагону. Потом она задремала, подложив под голову чемоданчик. А вышла она в Самаре. Пожелала попутчикам счастливого пути, извинилась за свою горячность и растворилась в серой безликой толпе…
– Это фантастика, герр Шварценберг, – говорил Генриху седовласый врач в золоченых очках. – Такого я в своей практике не видел никогда… Во-первых, какое счастье, что не загорелась машина, во-вторых, какое счастье, что фрау Барбара была пристегнуты ремнем безопасности, а в-третьих, какое счастье, что есть всемогущий Господь Бог, который спас нашу добрую фрау Барбару. Разумеется, разумеется, драгоценный мой герр Шварценберг, фрау Барбара будет жить. У неё незначительные переломы, а главное – шок, сильный шок от потрясения. И никакой опасности за её жизнь. Вот, говорят, что касается вашей прекрасной машины…
– А черт с ней, с этой машиной! – грубо произнес Генрих, потом нервно расхохотался и хлопнул седовласого врача по плечу, от чего тот невольно покривился. Врач не любил подобной фамильярности и не терпел подобного даже от столь уважаемых людей, как герр Шварценберг. – К тому же она застрахована, – добавил он.
– Извините, герр Обердорф, – сказал, немного помолчав, Генрих. – Вы не представляете себе моего состояния. Вы просто ничего себе не можете представить… Моя Барбара рождается уже в третий раз, причем дважды за последние несколько дней.
Доктор покосился на Шварценберга, полагая, что он слегка тронулся умом от потрясения, но ничего не сказал, лишь широко улыбнулся великолепными вставными зубами.
– Могу ли я посмотреть на нее? – спросил разрешения Генрих.
– Только посмотреть, герр Шварценберг, только посмотреть. Я повторяю вам, главное, что может тревожить – это шок от потрясения. Она очень слаба, у неё может не выдержать сердце, хотя мы, разумеется, снабдим фрау Барбару всем необходимым. Вы поняли мою мысль, герр Шварценберг?
– О да, доктор, я буду делать только то, что вы мне позволите, – отвечал Генрих.
Его провели в палату, где лежала вся в белом Барбара. Она была подключена к капельнице, находилась без сознания. На лице были ссадины и кровоподтеки, левая рука была в гипсе. Генрих со слезами умиления глядел на жену.
– Дорогая моя, – прошептал он. – Дорогая моя…
Доктор Обердорф дал возможность Генриху поглядеть на жену ещё с минуту, а затем легонько дотронулся до его серого пиджака.
– Все, герр Шварценберг, все, она может прийти в себя, а ей совершенно противопоказаны любые волнения. Повторяю вам, опасность может исходить только от этого. Езжайте по своим делам, регулярно нам звоните и ни о чем не беспокойтесь. Единственный совет, который я могу себе позволить вам дать, дорогой герр Шварценберг, зайдите в храм и поблагодарите всемогущего Господа за то, что он спас фрау Барбару. Повторяю вам, судя по тому, что мне рассказали о произошедшем, шансов выжить у неё практически не было. А она, можно сказать, невредима, учитывая то, что машина на большой скорости съехала с дороги и перевернулась несколько раз. Такие переломы можно получить, упав в комнате со стула, герр Шварценберг. Господь Бог любит нашу фрау Барбару, вот в чем дело… Он хранит ее…
Счастливый, умиленный Генрих вышел из больницы, сел за руль «Мерседеса» и позволил себе выкурить сигару, что он делал только в случае крайнего волнения. Еще полтора часа назад, когда ему сообщили о произошедшей аварии, он проклинал себя за то, что оставил Барбару одну в этот день. «Как я мог, после того, что произошло несколько дней назад, поехать на службу и разрешить ей сесть за руль машины?! Я убил ее! Я убил ее! Что я натворил?! Как я теперь смогу жить?!» Шепча эти слова, он гнал машину к клинике и сам чуть не попал в аварию, в самый последний момент повернув руль направо и не врезавшись в стоящий на его пути «Фиат». Но благостная улыбка встречавшего его в дверях клиники доктора Обердорфа вывела его из состояния тревоги. Он сразу понял, что обошлось. Когда ему рассказали подробности аварии, ему стало плохо с сердцем, он понял, что только счастливая случайность спасла жизнь Барбаре. Минут двадцать доктор откачивал его в своем кабинете.
– У меня есть большие основания беспокоиться за ваше здоровье, герр Шварценберг, нежели за здоровье нашей доброй Барбары, – улыбался он.
Выкурив сигарку, Генрих отправился в церковь и долго молился в полупустом храме Господу Богу, снова спасшему жизнь его любимой жене. А затем он направился домой, потребовал себе легкий ланч со шнапсом и окончательно расслабился. Он периодически звонил в больницу, но доктор отвечал, что фрау Барбара ещё не пришла в сознание…
… Пришла она в сознание лишь на следующее утро, о чем своевременно сообщили Генриху. Он собирался немедленно ехать к жене, но доктор Обердорф предостерег его от этого шага.
– Нельзя, дорогой герр Шварценберг, – говорил доктор. – Именно сейчас фрау Барбара нуждается в полном, повторяю, абсолютно полном покое. У неё в ближайшие дни не должно быть никаких эмоций, ни отрицательных, ни положительных. Они для неё пагубны. Не беспокойтесь, мы сделаем все, что сочтем необходимым и в самое ближайшее время поставим фрау Барбару на ноги. Я надеюсь, вы не сомневаетесь в нашем профессионализме, герр Шварценберг? – нахмурив брови, строго спросил доктор.
– О, что вы, ни в коем случае, – взмахнул рукой Генрих. – Я буду делать так, как вы мне скажете. Я вам верю больше, чем себе.
Генрих положил трубку и поехал в офис.
… Так и прошло двое суток. А через два дня вечером Генриха ждал сюрприз.
– К вам гостья, герр Шварценберг, – доложил вышколенный охранник по местному телефону.
– Кто такая? Почему в такой поздний час? Насколько я понимаю, сейчас уже семь минут десятого. Я собирался уже идти спать. У меня завтра тяжелый день.
– Это немолодая дама, и она говорит, что у неё к вам очень срочное дело, не требующее отлагательства, – настаивал охранник.
– И не может терпеть до завтрашнего дня? – пытался избавиться от незваной гостьи недовольный Генрих.
– Утверждает, что не может. В принципе, она хотела бы повидаться с фрау Барбарой, – уточнил охранник. – Но я сказал, что её нет.
– Ах вот как? Ну в таком случае пригласите её в дом, – распорядился Генрих.
… Через несколько минут в гостиную Генриха в сопровождении охранника вошла дама лет пятидесяти пяти, сухощавая, невысокого роста, одетая в неброское, но, видимо, дорогое платье. В руках у неё была сумочка из крокодиловой кожи.
– Я вас слушаю, фрау, – сказал Генрих, поднимаясь навстречу гостье и вглядываясь в её лицо. Черты показались знакомыми. Где-то он эти черты видел…
– Мне бы хотелось поговорить с фрау Барбарой фон Шварценберг, – тихо произнесла дама.
– Дело в том, что фрау фон Шварценберг больна и в данное время находится в клинике. А по какому вопросу вы к ней? – спросил Генрих и тут же понял, по какому она вопросу, и кто она такая. Он сделал легкое движение к ней и тут же остановился, как вкопанный.
– Оставьте нас наедине, – приказал он охраннику.
Охранник послушно вышел. А Генрих продолжал изучать лицо гостьи.
– Что с ней? – спросила дама.
– Я понял, кто вы, – не отвечая на вопрос, произнес Генрих. – Она похожа на вас.
– Так что же с ней? – вскрикнула дама.
– Она попала в автокатастрофу, фрау… Как мне прикажете вас называть?
– Называйте меня фрау Вера, – ответила дама. Она говорила по-немецки с заметным акцентом, но довольно прилично.
– Так чего бы вы хотели от своей дочери, фрау Вера? – чувствуя прилив какого-то бешенства, спрашивал Генрих.
– А разве я не имею права повидать родную дочь? – недоумевала дама.
– Я не имею никаких доказательств того, что вы приходитесь ей матерью, – заметил Генрих. – А мы, германцы, привыкли доверять только фактам, а не пустым словам.
– А разве я что-нибудь пытаюсь вам доказать, господин Шварценберг? – саркастически усмехнулась Вера Георгиевна. – Я сказала, что хочу повидать фрау Барбару, а вы сами сделали предположение, что она моя дочь.
– Я сделал лишь предположение, а вы это подтвердили. И теперь мне нужны доказательства ваших слов.
– Пусть она поглядит на меня и сама скажет, кто я такая, – спокойно произнесла Вера Георгиевна.
– Пока к ней не пускают даже меня, законного мужа. А уж вас-то тем более к ней не пустят. Так что, если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте их мне.
– Первый вопрос – как она себя чувствует? И что с ней, все-таки, произошло?
Теперь Генрих вдруг успокоился и пришел в себя. Он распорядился подать им чаю.
– Вы, очевидно, с дороги, фрау, – галантно произнес Генрих. – Перекусите чаем с печеньем. К сожалению, я уже поужинал и собирался лечь спать. Я ложусь очень рано, таковы мои привычки.
– Спасибо и на этом, – едва заметно усмехнулась дама, вспомнив плацкартный вагон, следующий в Самару и чай с галетами. Угощение Шварценберга было немногим лучше. Но она не хотела есть, ей было, на что поужинать. Ее занимали совершенно другие проблемы.
– Барбара несколько превысила скорость на трассе и попала в аварию, – сухо сообщил Генрих. – Но теперь ей лучше, серьезных повреждений нет.
– Как она вообще? – спросила дама, путаясь в немецких словах.
– Она вообще прекрасно. Мы живем душа в душу и очень любим друг друга, – строго произнес Генрих, глядя в глаза гостье. – Есть, правда, некоторые проблемы…, – нахмурился он, не зная, как приступить к главному. А высказаться ему очень хотелось, по возможности соблюдая правила приличия.
– Какие такие проблемы? – довольно развязно спросила дама, отхлебывая чай и жуя печенье. – На мой взгляд, вы живете очень зажиточно.
И это решило проблему начала разговора. Генрих вспомнил ту страшную ночь, Барбару, висевшую на крюке и хрипевшую от удушья с выпученными глазами и моментально взорвался, что вообще было не характерно для него, обычно выдержанного, сурового человека.
– Проблема в том, что она не имеет возможности встречаться со своей родной дочерью! – вскрикнул он.
– Зато другие проблемы у неё вполне решены, – цинично заметила дама, грызя печенье своими крепкими белыми зубами.
– Проблема в том, что её тяготят воспоминания, – уже спокойнее произнес Генрих. – А какие именно воспоминания, вы прекрасно знаете, фрау!
Вера Георгиевна нахмурилась. Она поняла, что Лена обо всем рассказала мужу.
– Я вижу, вы в курсе событий, происшедших с нами, тем лучше, господин Шварценберг. Я полагаю, вы даже в курсе её денежных дел?
Она была уверена, что разговор о гигантском банковском счете в Швейцарии решит вопрос. Немцы ведь так практичны…
– Я в курсе, что на её имя в одном из швейцарских банков открыт счет. Но я также знаю, что эти деньги получены противозаконным путем. И мы с Барбарой не собираемся воспользоваться преступными капиталами. У нас есть все, что нужно для полноценной жизни.
– Это вы знаете, господин Шварценберг, – покровительственно улыбнулась Вера Георгиевна, готовя зятю сокрушительный удар. – Только вы не представляете себе, о какой сумме идет речь.
– А меня не интересуют преступные деньги, даже если речь идет о миллионах долларов, – гордо произнес Генрих.
– Речь идет не о миллионах долларов, господин Шварценберг, – спокойно и медленно произнесла дама, глядя собеседнику прямо в глаза. – Речь идет о многих десятках миллионов долларов…
На сей раз строгое лицо Генриха чуть дрогнуло. Он внимательно поглядел на гостью.
– Так-то вот…, – с наслаждением произнесла она, видя, что произвела впечатление на сурового тевтона. – И эти деньги мы поделим с вами пополам. Я уверена, что при всей вашей зажиточности вы о таких суммах не можете даже и мечтать.
Генрих взял с тарелочки печенье, разломил пополам и начал тщательно жевать его.
– Вы, очевидно, так называемые «новые русские», о которых теперь пишут все западные газеты, – произнес он.
– Очевидно, да. Но это все слова, ярлыки, газетные штампы. Главное – дело. Эти деньги нужно перевести куда-нибудь в свободную зону, так как в России начинает подниматься громкий шум о всяких там заграничных счетах крупных российских чиновников. Этот шум нам с вам не нужен, не так ли, господин Шварценберг? Главное, все сделать быстро и аккуратно. Когда моя дочь сможет выйти из больницы и заняться этими важными делами? – уже чувствуя себя хозяйкой положения, спросила Вера Георгиевна.
– Я не могу ответить вам на этот вопрос, потому что сам не знаю на него ответ. Барбара очень слаба, у неё сильнейший стресс после автокатастрофы. Вы позволите, если я в вашем присутствии выкурю сигару, мадам?
– О конечно, какие могут быть церемонии? – окончательно почувствовала себя дома Вера Георгиевна.
Генрих закурил сигару, и комната наполнилась приятным сладковатым дымом. Воспоминания овладели им. Он вспомнил своего отца, отпрыска старинного германского рода. Он подозревался в участии в заговоре против Гитлера и, хотя вина его не была доказана, он угодил в концлагерь. На его счастье, война скоро закончилась, и отец вышел на свободу, больной, истощенный, но живой. За это время советской авиацией было разбомблено его родовое имение, а счета в банках были экспроприированы нацистской властью. Он остался совершенно нищим. После войны их семья бедствовала, отец так и не дожил до благополучия. А сам Генрих созидал свое будущее состояние с нуля, по крупицам. А ведь отец мог и не бороться с нацистской властью, и тогда бы на его счетах осталось немало денег. Он мог бы перевести эти средства в надежное место, у него была такая возможность. А он пошел против своей выгоды, его добрый, отважный красавец-отец. Он, оберштурмбанфюрер контрразведки, потомок старинного рода, ушел в концлагерь одним человеком, а вышел оттуда совершенно другим, больным, сломленным издевательствами. Генрих видел перед собой большие печальные глаза отца, глядящие на него из другого мира, он видел бледную, полубезумную мать, не знавшую, чем ей кормить в осажденном Берлине своих двух детей. Мать все отдавала им, ему, Генриху и младшему брату Вильгельму. Но Вильгельм умер в конце апреля сорок пятого года, подхватив какую-то инфекцию. Его слабенький организм был не в состоянии справиться с болезнью, хоть и не столь уж опасной. Когда он умер, ему было семь лет. Генрих помнит его прекрасные голубые глаза, с каким-то далеко не детским осуждением глядящие на остающихся на Земле мать и брата. Какие глаза, так похожие на глаза отца… Бедный добрый Вильгельм… Это был такой славный мальчуган, он любил волшебные сказки и катание с ледяных горок…
Глаза Генриха увлажнились, он докурил свою сигару и тихо произнес:
– Вы не могли бы оказать мне большую любезность, фрау Вера?
– Какую? – нагло глядела на него гостья. – Все, что угодно вашей душе, господин Шварценберг.
– Прекрасно. Тогда убирайтесь отсюда вон, – ещё тише сказал Генрих.
– Что? – округлила глаза дама.
– Вон отсюда!!! – Генрих вскочил с места и схватил со стола хрустальную пепельницу, намереваясь швырнуть её в лицо даме. Тут же в дверях появилось встревоженное шумом лицо охранника.
– Герр Шульц, – стараясь взять себя в руки и не желая распоясываться при охраннике, сказал Генрих. – Проводите эту даму, запомните её хорошенько и никогда больше сюда не пускайте. Вы поняли меня?
– Ты пожалеешь об этом, старый мудак, – прошипела по-русски незваная гостья. А по-немецки сказала громко: – Спасибо за радушный прием, господин Шварценберг. Передавайте привет своей жене.
– Непременно передам, – уже совершенно успокоившись и придя в себя, сказал Генрих. – Благодарите Бога, что я не сдаю вас в руки полиции.
– Но почему, герр Шварценберг? – нарушил правила этикета охранник. – Ведь она же угрожает вам. Я так полагаю, хоть и не понимаю языка, на который она иногда переходит.
– Нет, – твердо произнес Генрих. – Я не хочу пачкать свои руки. Пусть уходит восвояси.







