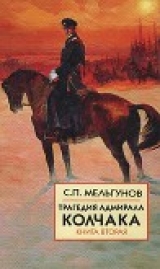
Текст книги "Трагедия адмирала Колчака. Книга 2"
Автор книги: Сергей Мельгунов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Польская власть в Москве создала двоевластие Минина и Пожарского. Не в силу отдаленности от нашего времени эпохи Смутного времени и разности социально-политических мотивов, а в силу разности внешних условий наши предки могли достигнуть того, чего не могли достигнуть мы.
И другая историческая параллель с событиями французской революции, внутренне чрезвычайно схожими с событиями, пережитыми нами, окажется несостоятельной. Там патриотический пафос тоже создан был интервенцией, которая превращала монтаньяров в защитников отечества от наступающего внешнего врага. Беспринципный демагог, каким был в действительности Дантон, сделался героем и вдохновителем защиты страны. Потомство поставило Конвенту – ему одному – памятник в Пантеоне, в парижской усыпальнице великих людей. Конвент олицетворил величие французской революции. А между тем Конвент эпохи монтаньяров – печальная страница французской революции, – страница насилий французского большевизма XVIII в., попрание всех принципов революционного сознания10. Если и был во французской революции пафос величия, то он принадлежал, конечно, только Учредительному Собранию. Европейская коалиция XVIII в. была коалицией против революции и носительницы ее принципов – Франции. Эта коалиция создала патриотический дух, перед которым отступил революционный дух монтаньярского разрушения – она породила благородных патриотов типа Гоша.
В нашу гражданскую войну пафос патриотизма был на стороне противобольшевицких сил. Но это был патриотизм квалифицированный, патриотизм отрешенного идеализма, далекого от эгоистических инстинктов, которые борьбу против нашествия Наполеона в 1812 г. превратили в Отечественную войну. Поднять стихии этот патриотизм не мог. Здесь в значительной степени прав был старый кооператор Сазонов, говоривший в своей владивостокской речи, что российские задачи убили местный сибирский патриотизм. Всероссийские задачи требовали чрезмерной жертвенности. Взывать к ней – пустое дело. Можно, возвращаясь ко времени Монтескье, говорить, что демократия и республика должны опираться на нравственность; можно вслед за Панкратовым повторить: «Не может быть социализма среди людей, если они сами плохи» (автограф в Уфе), – но это переносит вопрос в область отвлеченной общественной морали, которая не может служить лозунгом дня. Действовать приходится среди людей эпохи со всеми их недостатками, порожденными социальным строем и вековыми традициями. Колчак и Деникин возмущались российской «буржуазией», жертвовавшей гроши на противобольшевицкое движение накануне краха и легко отдававшей миллионы под угрозой чекистской расправы. Близорукая непредусмотрительность? Такова психология всего мира. Жертвенность порождается всегда узко понимаемым эгоизмом.
Пафос примитивного – пусть даже с оттенком зоологического – патриотизма могло создать только иностранное нашествие. Союзническая «интервенция» 1918-1919 гг. в России была, конечно, очень далека от раздражающей национальное чувство оккупации. Интервенция вначале вражды не встречала – наоборот, скорее полное и доброжелательное сочувствие. Большевицким историкам никогда не удастся доказать противное – все факты будут их опровергать. Как и все антибольшевицкое движение, так и интервенция не была направлена против революции как таковой. Одним словом, в интервенции 1918-1919 гг. не было признаков интервенции французской революции. Ее социальный смысл для России мог быть продуктивен, она могла бы содействовать установлению подлинной демократии наместо деспотической охлократии большевиков; она могла бы помочь преодолеть те трудности, которые возникали перед освободительным движением, начавшимся на периферии и двигавшимся к центру, захваченному удачливыми авантюристами. Бессистемность и двойственность интервенции свели ее на нет и, может быть, принесли скорее вред русскому делу, открыв путь для демагогии противников.
Говорят, что на стороне большевиков был социальный пафос. Не есть ли это мираж? Советские военные историки должны признать один знаменательный факт – добровольчество в Красной армии было крайне слабо. Под видом добровольчества собирались ненадежные деклассированные элементы [Какурин. I, с. 140]. При наличности социального пафоса картина должна быть иной11. Наряду с этим надлежит отметить и другой факт – добровольчество «белых» армий эти историки должны поставить высоко. Большевицкая разведка к 1 марта 1919 г. доброкачественность Добровольческой армии определяла в 98% (за исключением Донской армии). Надежность войск Восточного фронта исчислялась в 73% [там же. I, с. 163]. Это свидетельствует о том патриотическом пафосе, который был на антибольшевицкой стороне, и опровергает наблюдения В. Н. Львова, утверждавшего, напр., что гражданская война была «делом начальства» и что 3/4 офицеров в Сибири шли из-под палки.
Сила большевиков была в обладании центром. Мы увидим на примере Сибири, какие преимущества давало это коммунистической власти и в смысле технического вооружения, и в смысле административного аппарата и средств пропаганды. Русская провинция во всех отношениях слишком отставала от столичного обихода – и совсем позади была Сибирь, которой суждено было сделаться центром «Восточного фронта». С положением в центре совпало и другое огромное преимущество, которым обладали большевики и которое, может быть, главенствовало среди причин их внешнего успеха. Большевики – это партийный заговор, планомерно и умело осуществленный. Большевики показали себя хорошими партийными организаторами. Их единство, несмотря на разность взглядов, было удивительно в первые годы. Это прельщало толпу искателей авантюр и мишурных успехов. Это создавало силу и престиж власти в массе. Русская антибольшевицкая общественность представляла по сравнению с этой компактностью воли к действию рассыпанную храмину. Недаром Какурин специально отмечает «раздробленность антисоветской коалиции» как немаловажный актив в балансе советской власти [II, с. 397]. Большевики, с присущим им организаторском талантом, который шел у них всегда рука об руку с небывалым моральным цинизмом, не останавливающимся перед выбором средств и методов действия, учли с самого начала особенность гражданской войны. Они кричали: все на фронт; в действительности же 50% военной силы оставалось для господства в тылу. (Для июля—августа 1919 г. Какурин эти силы исчисляет в 180 тыс., причем 30 тыс. было одних войск ВЧК.) Это давало возможность легко и с жестокостью подавлять все сепаратные выступления. Большевицкая публицистика называет такую тактику «психологией революционеров». Большевики явили миру доказательство того, как можно, не стесняясь в выборе мер насилия, нивелировать общественные настроения. У их противников никогда не было нравственной смелости ввести насилие в систему. Эксцессы только порождают и усиливают оппозицию; система – подавляет протест. При наступлении белых население никогда не уходило – это лучшее доказательство того, что у белых не было «презрения» к тылу, которым отличалась советская власть.
Прирожденные демагоги, большевики учли роль, которую может играть демагогия. Это – фактор, к сожалению делающий историю. В этой области политика антибольшевицких правительств всегда была недостаточно гибка.
* * *
Эти общие соображения нужны были для оценки «стратегии» адм. Колчака, к которой подчас сурово относятся современники. Оценивать ее я, конечно, не чувствую себя компетентным. Но некоторые наиболее общие черты отметить необходимо.
Большевицкая военная историография пытается утверждать, что в техническом отношении между «Красной» армией и «белой» не было особо заметной разницы. Мало того, Какурин даже склонен признать, что первоначально Красная армия уступала своим противникам в отношениях «техническом и организационном». Это опровергается, однако, всеми данными, которые приводит тот же Какурин, и противоречит всем его утверждениям, которые он одновременно делает. Напр., он сам пишет: «Вначале в техническом отношении Кр. армия не только не уступала, а, пожалуй, превосходила силы внутренней контрреволюции» [I, с. 148]. Так и должно было быть, ибо «главным источником снабжения» Кр. армии, особенно в первый период гражданской войны, являлись «склады военного имущества старой армии». Вместе с тем Какурин должен признать, что «если Кр. армия в наследство от старой армии получила лишь остатки организационных боевых единиц..., то в отношении аппаратов центрального и местного управления дело обстояло иначе, так как они сохранились полностью» [с. 135]. «Белым» армиям все приходилось строить заново в условиях провинциального обихода. Хуже еще было дело снабжения. «Из изучения документов, относящихся к этому времени, – говорит Какурин, – можно прийти к выводу, что в отношении снабжения обмундированием и винтовками белая армия исключительно базировались на державах Антанты» [с. 184]. Наиболее плохо обстояло дело в армиях Колчака – оно было «крайне неудовлетворительно»12. К сожалению, я нигде не мог найти конкретных данных, в каком действительно размере колчаковские армии были снабжены иностранным обмундированием в момент официального начала «интервенции», т. е. прежде всего помощи русским борющимся силам13. Когда армией командовал еще ген. Болдырев, реальной помощи со стороны союзников не было оказано. Отсюда вытекали те горькие и подчас резкие замечания, с которыми мы постоянно встречаемся в дневнике Болдырева.
«Посетил, – записывает он 17 октября, – 2-й батальон 8-го кадрового полка. Картина потрясающая: люди босы, оборваны, спят на голых нарах, некоторые даже без горячей пищи, так как без сапог не могут пойти к кухням, а подвезти или поднести не на чем...
Солдаты сами по себе отличные, хорошо обучены и если не бунтуют, то это положительно чудо14.
Половина из тех, которых я видел в казарме, построились босыми, в одних исподних брюках, а на лицах ни тени злобы. Вечером те, которым удалось обуться, маршировали на площади; я слышал из вагона лихие песни сибирских стрелков» [с. 74].
Так было в Омске. А на фронте? Полк. Ц., специально командированный Болдыревым для ознакомления на местах с состоянием воинских частей, докладывал ему, что на Семиреченском фронте «масса людей без сапог» [с. 81]. «Половина солдат Пепеляева, одетых в лохмотья, с обмотанными тряпками ногами, – рассказывает Уорд [с. 79] при посещении в ноябре фронта, – ждут ружей от своих товарищей, которые могут быть убиты или замерзнут в снегу». «В Челябинске видел смотр и парад 41-го уральских горных стрелков полка, – вспоминает Сахаров про октябрь. – Спайка, хорошее знание боевой службы, но внешний вид очень жалкий: более чем у половины людей отсутствуют шинели и сапоги; на несколько человек одна пара сапог – по очереди ходят на учение и в столовую» [с. 22]. На военных раздражающе действовало то, что при такой бедности чехословацкие отряды выделялись своим довольством. «У чехов все есть», – замечает Болдырев. Союзники помогали только чехам и этим, по выражению Болдырева, искусственно создавали в отношении боевого снаряжения «унизительную зависимость русских войск» [с. 101]. Обеспеченность чехословаков объяснялась тем, что эти независимые части действовали самостоятельно, мало считаясь с общими нуждами. Эгоизм, может быть, и понятный, но затруднявший русское военное командование. «Был с докладом тов. мин. снабжения Молодых, – записывает Болдырев, – жалуется на своеволие чехов. Министерством заказаны 2000 полушубков по 80 р., чехи (из чужих средств) дают по 110, вообще распоряжаются вовсю» [с. 74].
В марте снабжение не улучшилось – «мы ничего не получали» [показания Колчака. С. 184]15. Если вслушаться в донесения с фронтов, то станет ясно, что вопрос о снабжении и позже оставался в катастрофическом положении. В мае на фронте «как будто бы не воинские части, а тысячи нищих, собранных с церковных папертей» [Сахаров. С. 102—103]. И тогда приходилось «винтовки отнимать у красных». Одно из солдатских перлюстрированных писем 1 июня 1919 г. говорит: «Теперь у нас раздор, половина за буржуев, половина за советскую власть». Причину этого раздора автор видит в том, что в армии «все босые и голые». Приходится «грабить крестьян». Отмечает автор и еще одно знаменательное явление – убеждения «левеют» от побывки в тылу. Оттуда приходят люди не с крепкими нервами и склонные к оппозиции16. В воспоминаниях ген. Иностранцева – мне пришлось с ними отчасти познакомиться в рукописи – указывается, что в 1919 г., благодаря деятельности Нокса (о ней мы скажем ниже), «по-видимому», снаряжения и обмундирования было уже достаточно и дело заключалось в плохом распределении. Повторяю, что конкретных данных никто не приводит17.
Нельзя отрицать и плохое распределение, которое объясняется, вероятно, не столько плохой организацией, сколько отсутствием транспортных средств. Единственная железная дорога была загружена часто не по вине русской администрации. Еще в ноябре 1918 г., по выражению Колчака, эвакуация чехов с Челябинского фронта «создала там ужасное положение»: «В Челябинске было забито несколько тысяч вагонов, так что всякое передвижение на этом фронте было чрезвычайно тяжело. Я думаю, что это оказало большое влияние на снабжение армии: не было предумышленного задерживания, но в это время почти ничего не могли подавать в Зап. армию благодаря забитости челябинского узла» [«Допрос». С. 189]. В июне Будберг пишет:
«...большие станции забиты чешскими эшелонами, что еще более затрудняет транспорт и не позволяет рассортировать задержанные составы и пропустить вперед наиболее для нас нужные; наш нищенский график сильно страдает еще и оттого, что хозяевами дороги являемся не мы, а многочисленные союзные опекуны, и в первую голову идут поезда чешские, польские, междусоюзные, а восточнее Байкала – японские и семеновские; нам же достаются одни только объедки» [XIV, с. 296].
Нарушала правильное снабжение и серия начавшихся восстаний вдоль железной дороги.
Мне кажется, можно вполне объективно сказать, что колчаковские армии со стороны технической были обслужены бесконечно хуже противника. Поэтому для успеха их требовалось гораздо больше волевого напряжения и готовности к жертве. Красная армия, вероятно, вся разбежалась бы, если бы ей приходилось сражаться «босиком», и не помогли бы те репрессивные меры, которые применил под Свияжском Троцкий, расстреляв даже 27 ответственных коммунистических работников18.
У активного меньшинства, переутомленного боями, жертвенность должна была иссякать19. И тогда, возможно, рождалась та психология, о которой говорит одна из большевицких разведывательных сводок: «Мобилизованное офицерство уверено в победе большевиков, боится фронта, стремится пристроиться в тылу» [Какурин. I, с. 163].
Это явление на фронте нельзя, однако, рассматривать изолированно. Оно тесно связано с общим планом войны, который зависел от других факторов, действовавших в Сибири – и прежде всего от «интервенционных» сил.
2. Чехословаки
Те, кто после 18 ноября сделались непримиримыми противниками Колчака, решительно утверждают, что омский переворот содействовал разложению фронта. И прежде всего перемена власти повела к оставлению фронта чехословацкими войсками. Это утверждение повторяют чехословацкие историки «легий» и некоторые русские историки (Милюков). «Колчаковский переворот, – пишет, например, Кратохвиль [с. 368], – сильно потряс боеспособность Сибирской армии и полностью отвратил от боев против советской власти чехословацкую армию».
Мы знаем, что Нац. Совет действительно пытался 18 ноября, минуя чешское военное начальство, отдать приказ об отходе войск с фронта, мотивируя его тем, что чехи не могут и не хотят поддерживать военную диктатуру. Нац. Совет не выполнил формально своего решения в силу протеста Пишона, указавшего, что такое решение выходит из компетенции Нац. Совета и не может быть принято в Челябинске в тот момент, когда в Сибирь прибыли уже ген. Жанен и ген. Штефанек [«М. S1.», 1925, И, р. 260]. Значение этого приказа по отношению к фронту имело более демонстративное значение. Гораздо более существенным был вопрос – вмешиваются ли чехи в омские дела или нет. На фронте чехов, в сущности, уже почти не было. 15 октября, т. е. за месяц до переворота, Болдырев сообщает: «Направление на Уфу почти открыто. Первая чешская дивизия оставила фронт и преспокойно застопорила своими эшелонами жел. дорогу» [с. 73]. Вот запись 2 ноября: «У чехов неладно. Со всего фронта они отведены в тыл для приведения в порядок. Фронт держится исключительно русскими войсками» [с. 90]. 3 ноября: «С чехами, по мнению Нокса, плохо. Они считают, что воевать за Россию довольно, пора ехать в свободную Чехию. Возникает вопрос об удержании их хотя бы в ближайшем тылу»20.
Едва ли кто станет теперь серьезно оспаривать, что к моменту острых внутренних событий в Сибири чехословацкое войско, потеряв, может быть, лучшие боевые силы и пополненное новыми сибирскими «добровольцами», роковым образом само переживало жесточайший кризис. Историко-публицистическая полемика, возникшая в чешской печати в связи с появлением драмы Медека, посвященной гибели героя чешского анабазиса полк. Швеца, и связанная, очевидно, с этой полемикой статья Богумилла Пршикрыла в журнале «Pritomnost», появившаяся в 1929 г. с дополнениями в отдельном издании [Сибирская драма], раскрывают довольно полно картину разложения чехословацких «легий». 25 октября начальник первой чешской дивизии полк. Швец, сообщив командиру фронта ген. Войцеховскому, что он не может выполнить боевого задания ввиду отказа солдат выступить на позиции, покончил с собой. Его предсмертная записка гласила: «Не могу пережить постигшего наше войско позора, виновником которого являются безответственные фанатики-демагоги, убившие в самих себе и в нас самое ценное – честь». Для Швеца это была моральная катастрофа, и он отдал свою жизнь как очистительную жертву. В книге Пршикрыла – автор отстаивает «левую» точку зрения – приведены протоколы следственной комиссии, учрежденной министром Штефанеком для расследования причин, повлекших самоубийство полк. Швеца. Материал следственной комиссии действительно говорит о «катастрофе» – о заразе, которая шла от роты к роте, от полка к полку, о постоянно растущем недостатке воли к военным действиям. Падает военная дисциплина, самовольно уходят с фронта целые части. Все стремятся на восток, подальше от фронта. Комиссия правильно устанавливает и причины такого настроения в армии: неудачи на фронте, новые, неустойчивые элементы «добровольцев», физическое и моральное утомление, отсутствие механической дисциплины, т. е. безоговорочного подчинения приказу, неисполнение обещаний союзниками, неимение общей, понятной всем идеи, за которую сражаются. На эту почву падала большевицкая организованная агитация, при общем настроении легко пожинавшая плоды. Чешские добровольцы и раньше были несколько затронуты пропагандой. Вначале она была незначительна21. К октябрю пропаганда значительно увеличилась. Напр., в письме сибирского партийного работника в Москву, от 29 октября, выдержка из которого приведена в «Хронике», определенно говорится: «Имеются у нас и чехи (до 3500 чел.), которые отказались идти на фронт и сидят в лагерях» [«Хр.». Прил. 122]22. Крепость чехословацких добровольцев базировалась как раз на том национальном чувстве, которое, как пытался я показать, является наиболее прочным ферментом при организации борьбы. Борьба против немцев соединила в одну революционно-национальную «когорту» добровольцев, среди которых в 1917 г. чуть ли не 60% причисляли себя к социалистам23. В этом как бы «инстинктивном» социализме, который, как мода, появляется в революционные эпохи, слишком много наносного и случайного. В период острой борьбы в первые месяцы выступления он был где-то на заднем плане. Над всем превалировал принцип национальной самозащиты. Конечно, на русской территории непосредственная германская опасность выдвигалась несколько искусственно. Союзники не приходили. Возникал естественный вопрос: если французы не идут, почему чехи должны сражаться? Без участия союзников чехословацкое войско не хотело сражаться [Пишон. – «М. S1.», 1925, II, р. 249]24. Не могла чехов удовлетворить та видимость участия союзников, которую пытались создать отправкою на фронт нескольких союзных солдат. «Чешские солдаты прекрасно сознавали, – говорит Пршикрыл, – что фронт, чем дальше, тем больше из противогерманского становился противосоветским, т. е. русским фронтом. Чешские легионеры, сами будучи революционерами, приходили к убеждению, что эта война не ихняя, война не против немцев, а против русской революции». Новое обоснование выступления чехословаков, данное сибирскими политиками, – помощь антибольшевицкой России – не могло удовлетворить некоторую часть легий, тем более что это обоснование так резко противоречило прежним официальным документам.
Теряя веру в союзников, чешский солдат начал чувствовать себя одиноким и покинутым25. Майское выступление произошло вопреки «Нац. Совету» – чешское войско через своих делегатов взяло судьбу эшелонов в свои руки. Это был, в сущности, «бунт» против официального представительства. Такой же бунт произошел в Аксакове 20 октября. На митинге, созванном делегатами полка, один из делегатов говорит: «Наступило то же, что было под Пензой, когда командование очутилось в тупике и когда только здоровый инстинкт сохранил наше войско. Солдаты должны, как и тогда, взять теперь власть в свои руки, так как теперешнее командование ведет лишь к гибели».
Отличие от майского положения заключалось в том, что было уже иное настроение. Бунт происходил во имя мира с большевиками, против русской акции и за возвращение на родину. Психологически это понятно (между прочим, таково было мнение Колчака). На митинге солдаты настаивали, чтобы им сообщали операционные планы, для выполнения которых требовалось их согласие. Начинается, другими словами, российская «совдепщина», опирающаяся на хорошо организованную подпольную агитацию. Знакомая картина!
С момента перемирия 11 ноября дилемма, о которой говорит Пршикрыл, должна была раскрыться во всей своей полноте. Война с Германией кончилась; оставался лишь противобольшевицкий фронт. Желания поддержать его – совершенно независимо от характера видоизменения власти в России – у Масарика не было. «Чехословаки добыли себе в Сибири, во Франции и Италии право на независимость», – сказал французский президент. За эту свободу было уже принесено 4500 жертв...
В самых верхах чешской политики начинается раздвоение, которое роковым образом должно было отражаться на состоянии войск, находящихся в Сибири. Если Крамарж убеждал «сибирские чешские войска принимать энергичное участие в подавлении большевизма в России, ибо этим самым помогается делу возрождения Чехии»26, то Бенеш телеграфировал другое: «Отечество не требует от вас больше жертв» [Жанен. – «М. S1.», 1924, XII, р. 233]. В свете документов можно отнестись спокойно к событиям, имевшим место в чехословацких легиях в Сибири. Совершенно ясно, что омский переворот, сам по себе по существу не внося ничего нового, дал лишь формальный повод завершить начавшийся отход чехословацких войск с фронта.
При обозначившемся в армии кризисе Нац. Совет лишь спешил отгородиться от омского переворота, боясь потерять свое влияние в армии. Вспоминали приказ Масарика 1 августа 1918 г.: «Наше войско демократическое и служит демократическим целям». Дальнейшее участие на фронте – помощь диктатору. «Возможна ли она, когда наши русские союзники, – пишет передающий психологию левых Пршикрыл, – находились в колчаковских тюрьмах, или организовывали восстания против Колчака, или переходили к большевикам, давая предпочтение «красной диктатуре против белой». Одно уже присутствие легий в Сибири поддерживало режим, который все «русские друзья» легий ненавидели».
Из изложенного можно видеть, сколь придумано позднейшее объяснение ген. Жанена, утверждающего в своем дневнике, что чехи «отказывались продолжать сражаться за русских, которые предпочитали веселиться в Омске, чем рисковать здоровьем и жизнью на больших фронтовых дорогах. Засевших в этом городе насчитывали около шести тысяч (например, 59 ч. в цензуре при главной квартире) [«М. S1.», 1925, IV, р. 22].
В критический момент в Сибирь с миссией ген. Жанена прибыл ген. Штефанек в качестве уже главы военного министерства нового Чехословацкого государства. Его задания были чрезвычайно сложны. Чехословацкое войско сражаться больше не хотело27, но формально оно составляло часть союзной армии, которая должна была помогать русской армии в ее антибольшевицкой борьбе28. С момента провозглашения чехословацкой независимости сибирские легии получили иное юридическое основание. Создавалось внутреннее противоречие между бытом и правовым статутом. Чеховойско в Сибири формально составилось из добровольцев, сражавшихся за свою национальную независимость. Она была достигнута. Как превратить этих добровольцев в регулярную национальную армию, дисциплинированную и подчиненную требованиям государства? Национально-революционная когорта до 28 октября организована была на началах как бы «братской» солидарности. Поэтому полковые делегаты имели такое большое значение в жизни войска. Это была особая дисциплина, которая покоилась на «сознании». Отпало это сознание, упала дисциплина, и «ценность нашего войска – признала комиссия, расследовавшая причины самоубийства Швеца, – спустилась ниже уровня средних регулярных войск вообще». Поднять дисциплину можно было только уничтожением «делегатчины», разлагавшей организм регулярной уже армии. Это было требование чешского военного командования.
То, что было в добровольческой когорте, не могло быть в армии29.
Штефанек, распустив комитеты и запретив созыв второго съезда делегатов, перевел добровольцев на положение регулярной армии. Институт полномочных, возглавляемый Нац. Сов., был заменен консулами и послами30. В отношении России Штефанек как будто был ближе к позиции Крамаржа, нежели Масарика и Бенеша. Подводя итоги изложения чешских мемуаристов и историков, Драгомирецкий пишет:
«По удостоверению многих писателей, ген. Штефанек горел желанием помочь русскому народу. Он жаждал освобождения России от большевизма и хотел, чтобы легионеры, следуя по этому пути, заслужили благодарность будущей России. Вместе с тем он был уверен, что без сильной России
Чехословацкая республика не будет могла (не сможет) мощно развиваться и выполнять роль славянского авангарда в средней Европе. Его манила возможность направить чехословацкие войска на родину через Европейскую Россию. Но, ознакомившись лично с состоянием войск, министр Штефанек пришел к заключению, что держать их дальше на фронте и заставлять сражаться представляется невозможным, и потому, по соглашению с Верх, правителем адм. Колчаком и союзниками, приказал стянуть всю армию в тыл и подготовлять ее к постепенной отправке на родину» [с. 89].
Кратохвиль приводит еще телеграммы, которыми обменялись Штефанек и Колчак. Они показательны для позиции безвременно погибшего первого чехословацкого военного министра. «Покидая землю великой России, – писал Штефанек, – посылаю вам пожелание всякого добра и надеюсь, что единение всех здравомыслящих людей при общем усилии вернет России ее престиж и даст возможность занять опять свое место среди славянства и целого мира» [с. 207]. Колчак ответил: «С радостью получил известие о благополучном проезде вашем до Харбина и счастлив, что все наши органы шли вам навстречу. Я очень тронут вашим горячим пожеланием и прошу принять выражение моего искреннего и глубочайшего пожелания успеха расцвета свободного чехословацкого народа, соединенного с русским народом узами дружбы и братства» (даю перевод).
В полном противоречии с тоном этих приветствий находится речь Штефанека 11 декабря делегации 8-го чехословацкого полка, приводимая Кратохвилем. В передаче последнего она производит довольно странное впечатление. Один из «братьев» спросил военного министра: «Брат-генерал, скажи нам наконец, в чем, собственно, нас упрекают?» Штефанек отвечал:
«Ставят вам в вину неучтивость к союзникам, над которыми вы насмехаетесь. Это подтверждается со многих сторон. Затем о войске в Сибири утверждают, что оно находится в состоянии разложения, что оно забывает основное положение, что война – одно дело, а политика – другое. Ставят в вину, что в войсках распространяется большевизм, что войско участвует в грабежах и убийствах, что ряды его недисциплинированны – не только единицы, но и целые части не повинуются приказам начальников. Ясно, что кое-кому не нравится и то, что развитие чехословацкого народа идет по направлению слишком демократическому»... «Я демонстрировал (в отношении Колчака), – говорил Штефанек, – более вразумительно. Когда приехал сюда, не заехал в Омск. А это говорит достаточно за себя, раз представитель государства, которое имеет здесь больше всего войска, минует только что провозглашенную власть»... «Не смотрите на омские события, – поучал военный министр, – односторонне. Переворот не был подготовлен только в Омске, главное решение было в Версале. Вы смотрите на вещи слишком радикально. Я вас извиняю, но я сам министр и потому не могу быть радикалом»31 [с. 249].
Эта речь, если содержание ее верно передано, является, бесспорно, продуктом демагогии. Метод воздействия ошибочный, но, по-видимому, у Штефанека были большие сомнения в возможности перебороть наступивший в чехословацкой армии кризис. Гинс рассказывает, что, когда члены Омского правительства выражали Штефанеку благодарность за помощь, оказанную чехами в начале борьбы, Штефанек сказал: «Я привык судить о заслугах только по окончании дела. Пока же ничего не сделано, и никто не знает, каков будет конец» [II, с. 523]. По словам Гинса же, из Шанхая Штефанек прислал на имя Павлу ободряющую телеграмму, которая заканчивалась словами: «Передайте им (соколам на фронте), чтобы они были верны себе, своему хорошему прошлому и чтобы они не забывали, что только по дороге чести они вернутся в свободную, счастливую и дорогую нашу родину» [II, с. 93].
* * *
Чехословацкие войска были отведены в тыл, и на них возложена была охрана Сибирской магистрали от Омска до Иркутска. Чехи сознавали, что вернуться на родину можно только через Владивосток и что возвращение это не может быть на другой день – пароходы во Владивостоке были еще проблематичны [Дюбарбье. С. 87]. Охранять железную дорогу было в интересах самого войска, судьбою занесенного в глубокую сибирскую тайгу и расположенного по линии магистрали32. «Охрана ее, – говорит Драгомирецкий, – представляла „крупную важность для стоявших на фронте русских добровольческих войск“». Это было бы несомненно так, если бы охранявшие магистраль иностранные войска не стали фактически распорядителями всего транспорта. При господствовавшем в чехословацком войске настроении здесь была и угроза. Ее предвидел Будберг и предлагал увести чехословаков в Приморскую область. Но Колчак лишь посмеялся над этой горячностью» [XIV, с. 290].








