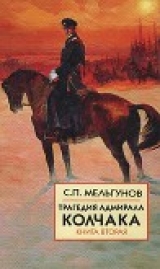
Текст книги "Трагедия адмирала Колчака. Книга 2"
Автор книги: Сергей Мельгунов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Колчак прежде всего «солдат». Он с гордостью чувствует себя офицером, который должен получать и отдавать приказания. Он с большим сочувствием отмечает слова одного японского деятеля: «Дисциплина есть основание свободы» – дисциплина истинное выражение свободы. Поэтому ему так трудно приказывать, не располагая силами для выполнения (Черном, флот в революционные дни). Это – «ужасное состояние».
Подобная концепция не случайна для Колчака. Она продумана им. Он вдумчиво и долго изучает вопрос. Метафизика для него не временное отвлечение от тяжелой действительности, не забава ума и воображения. Нет, вся система выработанных взглядов соответствует сущности его натуры. Мы узнаем, что полярный искатель, специалист в той отрасли науки, в которой как бы отсутствуют черты натурфилософии, тщательно читает Ф. Кемпийского и Тертуллиана. Это он делает во время поста. Уже в период первого своего плавания он занимается буддийской литературой и изучает философию Конфуция. Буддийские гностики соответствуют его душевным настроениям. В монашеских орденах воинствующего буддизма он находит ту дисциплину, которая одна укрепляет волю. И он вслед за буддийскими сектантами склонен видеть в дисциплине своего рода искусство, которое можно развить специальными приемами. Чтобы читать в подлиннике Конфуция – одного из «величайших мыслителей», Колчак изучает язык. Переводит Суна, которого считает одним из самых выдающихся военных мыслителей эпохи VI ст. до Р. X.
Мы видим, что все это несколько необычно для «узкого моряка».
«Мечтатель» об «общем благе» целиком погружается в свои мысли. Они его так захватывают, что свою практическую жизнь он строит в соответствии с догмой... В годы войны он почти фанатик идеи служения Родине. Только дикость Гойхбарга может говорить об «измене» России в момент поездки в Америку. Колчака чрезвычайно не удовлетворяют те взгляды на войну, с которыми он сталкивается в демократической стране.
Войну можно вести, только желая ее. Демократия войны не хочет. Америка ведет войну только со своей узкой национальной точки зрения. Такая психология в данный момент Колчаку кажется абсурдной «Мне нет места здесь, – записывает он. – Я оказался на положении, близком к кондотьеру, предложив чужой стране свой военный опыт, знания, а в случае надобности, голову и жизнь в придачу».
Интересы родины требуют, однако, действия. «Победа над Германией – единственный путь ко благу родины»... «Я считал, – говорит он в своих показаниях, – что то направление, которое приняла политика Правительства (Правительства чисто «захватного порядка»), которое начало с заключения Брестского договора и разрыва с союзниками, приведет нас к гибели. Уже один этот факт, обеспечивающий господство немцев над нами, говорил за то, что это Правительство действует в направлении нежелательном, отвечающем чаяниям немецких политических кругов» [«Допрос». С. 101]. Поэтому Колчак с «восторгом» принимает вновь предложение английского правительства ехать на Месопотамский фронт.
В записках Колчака, которыми мы пользуемся, имеется почти провиденциальная отметка по поводу одного сообщения о смерти от холеры: «Неважная смерть, но много лучше, чем от рук сознательного пролетариата, или красы и гордости революции». Этой судьбы не избежал Колчак. Слишком остро в нем было ощущение поруганной чести. «Испытал чувство, похожее на стыд, при виде порядка и удобства жизни», – говорит он о своем пребывании во время войны в Лондоне. Две войны и революция сделали нас инвалидами: «отцы социализма давно уже перевернулись бы в гробах при виде практического применения их учений». Колчак принимает гражданскую войну как неизбежное очистительное зло: нет другого пути возрождения нации. Для Колчака общество, не желающее бороться, не существует... Поэтому он сторонится беженцев в Японии и живет там одиноко. Все его помыслы направлены к отысканию путей служения стране.
Может быть, я невольно не всегда точно и ясно изложил чуждое мне миросозерцание Колчака. Для этих штрихов я заглянул в интимную переписку покойного «мечтателя»16.
* * *
Разрушение заложено в основание человека – так смотрел Колчак на революцию. Истерической толпой легко владеть. Но «я не создан быть демагогом». Поэтому и испытывает Колчак такое «отвращение» к политике. Но это «отвращение» вовсе не означает приверженности к старому дореволюционному режиму, о чем его с пристрастием допрашивала иркутская «следственная» комиссия. – Колчак ей ответил: «У вас под монархистом понимается человек, который считает, что только эта форма правления может существовать. Как я думаю, у нас (т. е. у офицеров) таких людей было мало... Для меня лично не было даже такого вопроса – может ли Россия существовать при другом образе правления. Конечно, я считал, что она могла бы существовать» [«Допрос». С. 101].
«Вы уклоняетесь от прямого ответа: были ли вы тогда монархистом или нет», – упрекнул Колчака председательствующий коммунист Попов.
Колчак. Я был монархистом и нисколько не уклоняюсь. Тогда этого вопроса: «Каковы у вас политические взгляды?» – никто не задавал. Я не могу сказать, что монархия – это единственная форма, которую я признаю. Я считал себя монархистом и не мог считать себя республиканцем, потому что тогда такового не существовало в природе. До революции 1917 г. я считал себя монархистом... Попов. Какова была ваша общая политическая позиция во время революции?..
Колчак. Когда совершился переворот, я получил извещение о событиях в Петрограде и о переходе власти к Госуд. Думе непосредственно от Родзянко, который телеграфировал мне об этом. Этот факт я приветствовал всецело. Для меня было ясно, как и раньше, что то Правительство, которое существовало предшествующие месяцы, – Протопопов и т. д. – не в состоянии справиться с задачей ведения войны, и я вначале приветствовал сам факт выступления Госуд. Думы как высшей правительственной власти... Я приветствовал перемену Правительства, считая, что власть будет принадлежать людям, в политической честности которых я не сомневался, которых знал, и потому мог отнестись только сочувственно к тому, что они приступили к власти. Затем, когда последовал факт отречения Государя, ясно было, что уже монархия наша пала и возвращения назад не будет... Присягу я принял по совести, считая это Правительство как единственное Правительство, которое необходимо было при тех обстоятельствах признать. Я считал себя совершенно свободным от всяких обязательств по отношению к монархии и после совершившегося переворота стал на точку зрения, на которой стоял всегда, – что я, в конце концов, служил не той или иной форме Правительства, а служу родине своей, которую ставлю выше всего... для меня было совершенно ясно уже ко времени этого переворота, что положение на фронте у нас становится все более угрожающим и тяжелым и что война находится в положении весьма не определенном в смысле исхода ее. Поэтому я приветствовал революцию как возможность рассчитывать на то, что она внесет энтузиазм – как это и было у меня в Черноморском флоте вначале – в народные массы и даст возможность закончить победоносно эту войну, которую я считал самым главным и самым важным делом, стоящим выше всего – и образа правления, и политических соображений...
... Я первый признал Временное правительство, считал, что как временная форма оно является при данных условиях желательным; его надо поддержать всеми силами; что всякое противодействие ему вызвало бы развал в стране, и думал, что сам народ должен установить в учредительном органе форму правления, и какую бы форму он ни выбрал, я бы подчинился. Я считал, что монархия будет, вероятно, совершенно уничтожена. Для меня было ясно, что восстановить прежнюю монархию невозможно, а новую династию в наше время уже не выбирают... Я думал, что, вероятно, будет установлен какой-нибудь республиканский образ правления, и этот республиканский образ правления я считал отвечающим потребностям страны»16.
Можно ли думать, что Колчак о республике упомянул только потому, что стоял перед «социалистическими» следователями? Нет, у людей такого типа страха не бывает. Да и нужды не было у Колчака рядиться в чужое одеяние – он был все равно обречен. Но люди этого типа действительно довольно равнодушны к формам правления – и не видят в них панацеи от всех общественных зол. «Я не могу сказать, – говорит Колчак на допросе, – чтобы я винил монархию и сам строй, создавший такой порядок. Я откровенно не могу сказать, что причиной была монархия» [с. 44]. Что же, здесь проявилась только элементарность натуры? Политическая недоразвитость? Как-то трудно с этим довольно элементарным публицистическим критерием «левых» политиков подойти к сложному и своеобразному облику Колчака. Мне кажется, что, во всяком случае, уже в период гражданской войны Колчак к вопросу подходил приблизительно так, как один из персонажей в «Трех разговорах»: «Если с меня кто-нибудь дерет шкуру, я ведь не стану обращаться к нему с вопросом, а какого вы, милостивый государь, исповедания?»
Вращавшемуся в сибирских эсеровских кругах майору Пишону казалось при беседе с Колчаком в Харбине 24 апреля (1918), что адмирал высказывал реакционные взгляды. В чем они проявлялись, Пишон не говорит. Свое суждение французский наблюдатель, в сущности, аннулирует добавлением, что Колчак высказывался «в духе, господствовавшем в Сибири» [«М. S1.», 1925, II, р. 259]. Конечно, Колчак не был демократом в том смысле, в котором расцениваются партийные люди, но в нем было чрезвычайно мало того, что давало бы повод говорить о реакционности взглядов. Помилуйте, он на допросе заявил, что надо «в плюс» поставить большевикам разгон Учр. Собр. 1917 г., но в то же время признал, что только «воля У. С. или Земского Собора» может установить форму будущего правления и что «этому органу каждый должен будет подчиниться». Первая реплика неоднократно раздавалась в рядах эсеровской публицистики. Следует, однако, прежде всего помнить, что «стенографическая» запись показаний Колчаком, конечно, не просмотрена. Стенограммы – и особенно большевицкие – часто выкидывают изумительные кунтюшки17.
Но согласимся, что Колчак все это действительно говорил, и признаем употребленную им терминологию в высшей степени неудачной. Смысл его речи все же ясен. Он говорил: «Со стороны большинства лиц, с которыми я сталкивался, это У. С. вызывало «отрицательное отношение» – оно было искусственно и партийно» [«Допрос». С. 104]. К тогдашним отзывам об У. С. 1917 г. всегда примешивается призрак того «охвостья», угроза восстановления которого стояла и которое фракция эсеров склонна была выдавать за подлинное У. С. Многие ли к этому относились сочувственно? «Только немногие об этом думают», – писал еще из Москвы в Париж один из авторитетных французских наблюдателей русской общественной жизни 1918 г., имевший широкие и довольно разнообразные связи в либеральных и демократических кругах. Идея эта мертворожденна – заключал он подробное письмо, копия с которого имеется в моем распоряжении. В позиции Колчака – допустим, даже ошибочной – ничего специфически реакционного, по существу, не было18.
Нет основания предполагать, что многократные утверждения Верховного правителя о передаче власти при установлении нормальных условий Учр. Собранию того или иного наименования являются тактической мимикрией, позой перед Европой и Америкой. Порукой была та «кристальная честность», которой отмечен характер омского «диктатора» [см., напр., у Грондижа. С. 522]. Колчак говорил о созыве Представительного Собрания в первом же интервью с представителями печати, он определенно подчеркнул это в речи 23 февраля на объединенном заседании Гор. Думы и земства в Екатеринбурге. Эта речь даже на Кроля произвела «прекрасное впечатление» – другие назвали ее «струей свежего воздуха в спертую и удушливую атмосферу тыловой жизни».
«...Население ждет от власти ответа, – говорил Верховный правитель, – и задача власти открыто сказать, куда и какими путями она идет и какими идеалами одухотворена борьба с большевизмом, – борьба, не допускающая никаких колебаний и никаких соглашений. Вот первая задача и цель Правительства, которое я возглавляю. Вопрос должен быть решен только одним способом – оружием и истреблением большевиков. Эта задача и эта цель определяют характер власти, которая стоит во главе освобожденной России, – власти единоличной и военной. Вторая задача Правительства, мною возглавляемого, – есть установление законности и порядка в стране. Большевизм слева и справа как отрицание морали и долга перед родиной и общественной дисциплины, справа базирующийся на монархических принципах, но, в сущности, имеющий с монархизмом столько же общего, сколько имеет общего с демократизмом большевизм, характеризующийся для своих адептов свободой преступления и подрывающий государственные основы страны, большевизм, который еще много времени после этого потребует упорной борьбы с собой. Законность и порядок поэтому должны составить фундамент будущей великой, свободной, демократической России. Я не мыслю будущего ее строя иначе, как демократическим, – не может он быть иным, и теперь, быть может, только суровые военные задачи заставляют иногда поступаться и в условиях борьбы вынуждают к временным мероприятиям власти, отступающим от тех начал демократизма, которые последовательно проводит в своей деятельности Правительство».
Основные положения екатеринбургской речи повторялись не раз в выступлениях Верховного правителя на земско-городских собраниях в Челябинске, Перми, на заседании Казачьего Круга и т. д. В Челябинске, на обеде, организованном местным самоуправлением, Колчак подчеркнул, что ...«счастливейшей минутой его жизни будет та, когда в освобожденной от злых насильников России он сможет передать всю полноту власти национальному Учредительному Собранию, выражающему подлинную волю русского народа». И в то же время Колчак твердо был убежден, что во время войны власть не может быть в руках народа. Такая концепция исходила из всей совокупности взглядов Колчака на войну и отнюдь сама по себе не означала отрицания принципа народовластия.
...«Я смотрел на единоличную власть совершенно, может быть, не с той точки зрения, как вы предполагаете. Я считал прежде всего необходимою единоличную военную власть – общее единое командование, затем я считал, что всякая такая единоличная власть, единоличное верховное командование, в сущности говоря, может действовать с диктаторскими приемами и полномочиями только на театре военных действий и в течение определенного, очень короткого периода времени, когда можно действовать, основываясь на чисто военных законоположениях...
... Единоличная власть, как военная, должна непременно связываться еще с организованной властью гражданского типа, которая действует, подчиняясь военной власти, вне театра военных действий. Это делается для того, чтобы объединиться в одной цели ведения войны» [«Допрос». С. 150].
«Знаете, – говорил адмирал Гинсу в октябре, – я безнадежно смотрю на все ваши гражданские законы и оттого бываю иногда резок, когда вы меня ими заваливаете. Я поставил себе высокую цель: сломить Красную армию. Я главнокомандующий и никакими реформами не задаюсь. Пишите только те законы, которые нужны моменту, остальное пусть делают в Учр. Собрании» [II, с. 345]. Гинс логически отвечал: «Но жизнь требует ответа на все вопросы»... В этом трагизм всякой временной власти. Подчас получался заколдованный круг. На гражданской войне тыл был не менее важным фактором, чем те или иные стратегические успехи на фронте. И в то же время успех на фронте определял настроения и тактику тыла. Выработать правильное взаимодействие между тылом и фронтом ни одна власть в период гражданской войны не сумела. Оттого ли, что у нее не хватало «государственного ума»? Чайковскому19 казалось, что Северное правительство нашло правильную форму взаимодействия военной и гражданской власти. Но, конечно, это только казалось так – Гинс, напр., находил «много ненормального» в конструкции Архангельского правительства.
Может быть, «военная идея» несколько поглощала внимание Колчака. Но она поглощала в те годы весь мир. Все шли в той или другой степени по пути милитаризации гражданской власти. «Даже в Америке, – отмечает Масарик [II, с. 124], – установилась особого вида диктатура». Демократия ограничивала «словоговорения», нарушала законы и права человека, «по всем умственным ценностям был объявлен мораторий», по образному выражению Алданова20. В атмосфере апокалипсических событий войны это кажется естественным, как казалось оно естественным и якобинской демократии XVIII в.: «Во время войны можно набрасывать покрывало на статую Свободы» (слова Геро де Сешеля). Но вопрос делался еще более сложным при полной государственной разрухе и при обостренных общественных и социальных отношениях. На упрек в «милитаризации», в распространении на тыл военного положения Колчак отвечал Гинсу: «Но вы поймите, что от этого нельзя избавиться. Гражданская война должна быть беспощадной» [II, с. 346]. «Если я сниму военное положение, вас немедленно переарестуют большевики или эсеры». Думаю, что Колчак был более чем прав21.
Для Колчака диктатура, во всяком случае, не была чем-то самодовлеющим. Он не держался за власть из-за личных побуждений. Он не был «самодержцем», как доказывал Гойхбарг в своем обвинительном заключении22. Он не стремился решать все сам (как склонен утверждать Милюков). Поэтому так раздражали Колчака «бесконечные разговоры» о необходимости чистой диктатуры, на которой настаивали недовольные двойственным олицетворением верховной власти, – той «конституционной диктатуры», которая появилась в Сибири в результате государственного переворота 18 ноября: Верховный правитель и Совет министров. Идеологами чистой диктатуры как раз были многие из членов партии народной свободы23.
Бывали у диктатора минуты отчаяния. С «потухшим взглядом» сидел он на заседаниях, когда вскрывалась интрига. «Мы строим на недоброкачественном материале. Все гниет. Я поражаюсь, как все испоганились», – говорил он Гинсу в октябрьскую поездку в Тобольск. «Нечего спасать Россию, когда 99 из 100 этого не хотят», – гласила одна из оппозиционных прокламаций, выпущенных от имени офицеров. Мог ли Колчак, по своей натуре, на это реагировать иначе, как «бурным протестом против происходящего»? Спасать Россию все-таки надо. «Знаете, не кажется ли вам, что диктатура должна быть действительно диктатурой?» – спрашивает он Пепеляева в одну из минут такого отчаяния.
«Маргариновый диктатор», – с презрительным сожалением скажут большевики, давшие миру образец еще небывалой деспотии. Колчак и не был диктатором в общепринятом смысле слова. Но не служит ли это и лучшим ответом на обвинение в диктаторском самодержавии?24 Своеобразный «самодержец», который казался англичанину проф. Пёрсу «насквозь демократом»; бескорыстным патриотом без малейшего честолюбия (беседа с Саблиным в Лондоне по возвращении из Сибири). И как-то даже странно читать в «дневнике» ген. Жанена утверждение, что Колчак был одержим манией величия [«М. S1.», 1925, III, р. 354].
«Важности никакой, – отмечает Будберг при первом же свидании. – Наоборот, озабоченность и подавленность ответственностью» [XIV, с. 226]. «Мании величия» просто не могло быть у того, кто сам готов был «взять винтовку и драться наряду с солдатами». «Я уверен, – записывает Будберг, – что он проклинает омскую работу, которая мешает ему устремиться на фронт» [XV, с. 278]. Колчак постоянно рискует при поездках на фронт – опасность и смерть ему не страшны. Он слишком привык к борьбе с суровой природой Севера, на каждом шагу грозящей гибелью смелому путешественнику. Для Колчака здесь нет рисовки – это обыденное; не была рисовкой и его «совершенно простая солдатская шинель с защитными погонами». «Он прекрасный солдат, но у него нет "государственного ума"», – скажет Дюбарбье [с. 74]. К сожалению, никто из иностранцев не определил содержания этого «государственного ума»25. По-видимому, «государственный ум» эти наблюдатели склонны приписывать только тем, которые преуспевают в гражданской войне. Не величайшая ли это ошибка плохого исторического прогноза? Философию истории, впрочем, мы можем оставить в стороне. Нас прежде всего интересуют факты. Непонятно, как люди, бывшие в Сибири, могли потом писать, что Колчак, одержимый манией величия, окружил себя помпой, почти царской. Вслед за Жаненом об этом говорит и ген. Рукероль. Последний, как очевидец, рассказывает французскому читателю уже подлинные сказки:
«Все эти люди, знавшие императорский двор, поспешили организовать в Омске такой же этикет вокруг диктатора, тщеславию которого льстило проявление почтения, которым была окружена его особа. Он причащался на Страстной неделе, и в газетах об этом было больше подробностей, чем бывало о Николае II» [с. 55].
Простота в быте и обхождении была отличительной чертой омского диктатора26. Гинс рассказывает, какое неприятное впечатление произвел на адмирала инцидент, имевший место во время поездки – после беседы Колчака с воткинцами.
«Они окружили его кольцом, и Колчак сказал им: «Воткинцы! Я должен сказать вам откровенно, что в последнее время ваша былая слава померкла. Я давно не слыхал о вашем участии в боях. Между тем ижевцы, ваши родные братья, за последнее время участвовали в ряде боев и показали такую доблесть, что я везу им георгиевское знамя. Я хотел бы, чтобы и вы не отставали от них».
Воткинцы кричали: «Ура!» Один пожилой мужичок упал на колени, выражая восторг, что видит Верховного правителя. Адмиралу это очень не понравилось, он насупился и поспешил уйти, сказав: «Встаньте, я такой же человек, как и вы»27 [Гинс. II, с. 364].
Этот человек не любил лести и «в действительности был чужд «наклонностей автократа» (интервью Вологодского в «Заре»), В нем была та своего рода «величественность», которая не достигается никаким внешним блеском одеяния и поз»28
И еще одну черту надо отметить для характеристики «кровавого» диктатора. По-видимому, по натуре это был удивительно мягкий человек, умевший нисходить к недостаткам других и всегда боявшийся быть жестоким по отношению к людям. Возможно, что сентиментальность вообще не подходила к суровому времени. Недаром большевики, вышедшие из недр интеллигенции и опровергшие всем своим существованием былой тезис «Вех» о неспособности интеллигенции держаться за власть, оказались в период гражданской войны победителями: они показали, каких внешних результатов можно достигнуть последовательным и циничным насилием. Для всех будущих диктаторов они дали показательный урок. Сибирская «деспотия» носила иной характер. И при ней были эксцессы. Пожалуй, слишком много. Повторяющиеся эксцессы становятся, конечно, системой. Но сам диктатор, более чем кто-либо, морально страдал от того, что давала сибирская жизнь – он так же «бурно» ненавидел и насилие. С горечью он сознавал, что это насилие творится все же его именем. У Гинса приведены показательные иллюстрации того, как самые благожелательные распоряжения Верховного правителя, преломляясь в призме сибирской действительности, отражались в своего рода кривом зеркале [с. 354—356].
Я не имею возможности с большими деталями остановиться на характеристике образа адмирала Колчака – этого, по мнению Гинса, «рокового человека», несшего с собой несчастье. Еще придет его биограф, который, опираясь на проверенные уже факты, нарисует незаурядный облик «мечтателя об общем благе».
«Колчак – хороший человек, патриот... К сожалению, ему приходится бороться с саранчой справа и слева», – писал один солдат с фронта 19 июня. Это наивно-грубое выражение неизвестного нам солдата дает, в свою очередь, ответ тем политическим противникам Верховного правителя, которые пытаются его сделать как бы символом «самой мрачной реакции»29.
2. Декабрьская драма
9 декабря на георгиевском параде адмирал, объезжая войска в своей обычной солдатской шинели30, простудился и заболел воспалением легких. «Этот случай, – говорит он в показаниях, – в дальнейшем в значительной степени повлиял на мою работу». Несмотря на простуду, Колчак первое время оставался на ногах – болеть он «не мог».
Наконец консилиум врачей уложил его в постель: у него обнаружилась «запущенная тяжелая форма пневмонии». Колчак проболел более шести недель. Насилуя себя, он вставал, одевался и, приняв кого нужно, вновь ложился в постель. Два раза в день Колчак продолжал принимать доклады о фронте. «За исключением нескольких дней, – говорит он, – когда у меня была такая высокая температура и такие боли, что я дышать не мог» [с. 197]. Естественно, что в период своей болезни Верховный правитель «не был вполне в курсе всех дел» – вернее, Правительство самостоятельно действовало от его имени. Поразительно, что обвинители Колчака никогда ни одним словом не обмолвились о том тяжелом положении, в котором находился Верховный правитель в дни декабрьских событий, разыгравшихся вновь на арене омской жизни.
Началось с восстания, организованного в ночь на 22 декабря большевиками. Оно было неудачно. Контрразведка своевременно получила сведения о готовящемся выступлении. В Омске находилось «достаточное количество войска», «гарнизон был надежен». Город заранее разбили на районы, составили расписание для войск на случай тревоги. Особых указаний не требовалось – «все делалось автоматически». Накануне выступления был арестован большевицкий штаб.
Большевицкий историк Парфенов пытается представить «восстание как горячий, необдуманный, неорганизованный порыв молодых солдат нескольких рот омского гарнизона, доведенных происходящим террористическим разгулом до крайнего физического и духовного раздражения» [с. 75]. В данном случае большевицкие «историки» не сговорились. Комментатор опубликованных в «Кр. Арх.» [т. VII] материалов под заглавием «Омские события при Колчаке», Константинов, прямо пишет в предисловии:
«Омское восстание, вспыхнувшее через месяц после колчаковского переворота, не было вызвано, как это изображали в свое время эсеры (имеется в виду, очевидно, Колосов), возмущением только против Колчака – оно назревало значительно ранее 18 ноября... Если это восстание вспыхнуло бы при Директории, оно тоже было бы потоплено в крови, как это сделали колчаковцы... Омское восстание, по предположению его руководителей, должно было начаться в рабочих районах г. Омска и по другую сторону Иртыша, на ж.-д. станции Куломзино, верстах в 6—7 от Омска. Затем оно должно было переброситься в некоторые части омского гарнизона и в лагеря, где содержалось очень много красноармейцев, военнопленных гражданской войны. О подготовке этого восстания была осведомлена колчаковская контрразведка, которая заблаговременно приняла меры к его ослаблению и ликвидации. 21 декабря начались массовые обыски и аресты, была арестована группа большевиков-рабочих в 42 человека. Это внесло дезорганизацию в восстание. Последнее было отменено, но провести эту отмену полностью помешали аресты, вследствие чего в некоторых районах восстание вспыхнуло и проходило разрозненно, частично. Куломзинские рабочие выступили, но оказались изолированными от Омска и потерпели поражение» [с. 202].
Другой сибирский деятель И. Смирнов в статье «На другой день после падения советов» [сб. «Борьба за Урал»] рассказывает об условной телеграмме, которую в декабре разослал Сибирский областной комитет по коммунистическим организациям о подготовке декабрьского восстания в Омске. «На местах, – добавляет он, – получили вслед за этим подтверждение этого решения от специально приехавших из Омска товарищей» [с. 198].
Нет, конечно, никаких сомнений в том, что попытка восстания входила в разработанный большевиками систематический план борьбы за захват власти. В статье «Большевицкое подполье при Колчаке» Вегман рассказывает подробно, как были организованы коммунистические силы по системе пятерок и десяток, как сносились они через курьеров с Москвой и как Свердлов снабжал их деньгами. Еще в августе в Томске была созвана сибирская областная конференция большевиков; 23 ноября состоялась вторая конференция, на которой было решено приступить к организации ряда планомерных «сепаратных» восстаний с целью расстроить «весь контрреволюционный тыл». Конференция постановила «бросить силы партии на помощь возникавшему тогда крестьянскому движению». Так как центр власти находился в Омске, то на этот город подпольная организация «обратила свое главное внимание» [«Хроника». Прил. 151].
Омская попытка восстания не была одинока. Надо сказать, что коммунистическая молодежь, к сожалению, упорно и фанатически боролась за советскую власть в Сибири. Она героически отдавала свою жизнь и гибла при подпольной работе.
Принимали ли какое-либо участие в организации восстания сибирские эсеры? Проф. Легра, подчеркивая, что он хорошо осведомлен о сибирских делах, считает омское восстание – восстанием эсеровским. Конечно, это было не так. Прямых связей с коммунистическими организациями у сибирских эсеров, по-видимому, еще не было – они появились позже. Отдельные агитаторы, естественно, сливались в своей подпольной работе с коммунистическими пропагандистами.
В ночь на 22 декабря в Омске, после неудачной попытки освободить красноармейцев из концентрационного лагеря, большевицкий отряд перешел на ст. Куломзино, где находилась вооруженная дружина железнодорожных рабочих. Восстание было, по словам Колчака, легко подавлено казачьими частями и чехословацким отрядом, причем в дело была пущена артиллерия31.
Своеобразный спор произошел на иркутском «следствии» между адмиралом и председателем комиссии Поповым по поводу куломзинских событий.
Попов. ...фактически в Куломзине никакого боя не было, ибо, только вооруженные рабочие стали выходить на улицу, они уже хватались и расстреливались...
Колчак. Эта точка зрения является для меня новой, потому что были раненые и убитые в моих войсках, и были убиты даже чехи, семьям которых я выдавал пособия. Как же вы говорите, что не было боя?
Попов. Боев не было, могли быть лишь какие-нибудь стычки.
Колчак. То, что вы сообщаете, было мне неизвестно. Я лично там не мог быть, но верю тому, что мне докладывалось. Мне докладывался список убитых и раненых. Эта точка зрения является для меня совершенно новой.
Попов. Это не точка зрения, а это факт.
Колчак. Вы там были?
Попов. Нет, я сидел в тюрьме и не был там точно так же, как и вы, но я говорю со слов участников этого дела.








