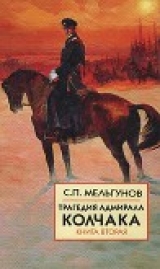
Текст книги "Трагедия адмирала Колчака. Книга 2"
Автор книги: Сергей Мельгунов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Annotation
Заключительная часть книги С. П. Мельгунова «Трагедия адмирала Колчака» посвящена анализу тех причин, которые привели армию Колчака к поражению в противостоянии антигосударственным силам. Прямой и безукоризненно честный Адмирал, взявший на себя бремя Верховного правителя и мечтавший о восстановлении Великой России, столкнулся не только с явным противником в лице большевиков, но и с двурушнической политикой командования союзников, личными амбициями сибирских атаманов, не желавших признавать конституционного диктатора, действиями международных авантюристов, жировавших в условиях русской беды, и прямым предательством партийных функционеров, пошедших на сговор с большевиками.
История последних дней Адмирала Колчака – это история подлости и предательства национальных интересов России, о которой должны знать наши современники.
Часть III . Том 1
ОТ АВТОРА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1. Черты для характеристики
2. Декабрьская драма
Примечания к первой главе :
ГЛАВА ВТОРАЯ
1. Гражданская война
2. Чехословаки
3. Миссия Жанена и Нокса
4. План кампании
5. Соперники
Примечания ко второй главе :
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1. Элементы движения
2. Большевики и стихия
3. Восстания
4. Борьба с партизанством
Примечания к третьей главе:
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1. Анненков, Калмыков и Семенов
Примечания к главе четвёртой:
ГЛАВА ПЯТАЯ
1. Совет министров
2. Теория и практика
3. «Звездная палата»
Примечания к главе пятой:
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1. Настроения и группировки
2. Подпольщики
3. Народное представительство
Примечания к шестой главе:
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1. В ожидании признания
2. «Политическая недобросовестность»
3. Международная ориентация
Примечания к седьмой главе:
Часть III. Том 2.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1. Эсеры и Гайда
2. Владивостокский «фарс»
3. Эвакуация Омска
4. Чешский меморандум
Примечания к первой главе :
ГЛАВА ВТОРАЯ
1. Реорганизация Правительства
2. У Верховного правителя
3. Восстания
Примечания ко второй главе :
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1. Под лозунгом мира
2. Иркутские бои
3. Переговоры
4. «Волею народа»
Примечания к главе третьей:
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1. Выдача
2. Предательство или бессилие?
3. «В плену»
4. Отступающая армия
5. В предсмертный час
Примечания к главе четвёртой:
Эпилог
Примечания к эпилогу:
ЛИТЕРАТУРА
I. ЗАРУБЕЖНЫЕ ИЗДАНИЯ
а) Книги
б)Статьи
II. СОВЕТСКИЕ ИЗДАНИЯ
III. ИНОСТРАННЫЕ ИЗДАНИЯ
УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН



С.П. МЕЛЬГУНОВ
ТРАГЕДИЯ АДМИРАЛА
КОЛЧАКА
ИЗ ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ВОЛГЕ, УРАЛЕ И В СИБИРИ
Часть III. Том 1
КОСТИТУЦИОННАЯ ДИКТАТУРА
Часть III. Том 2
КАТАСТРОФА

УДК 94(47) ББК 63.3(2)611 М48
Оформление А. М. Драгового
В оформлении книги использован фрагмент картины В. В. Владимировой «А. В. Колчак – последний хозяин Сибири»
Мельгунов С. П.
М48 Трагедия адмирала Колчака: В 2 книгах. – Книга вторая: Часть III. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 496 с. + вклейка 8 с. – (Белая Россия).
ISBN5-8112-0547-3 (Кн. 2)
ISBN5-8112-0548-1
Заключительная часть книги С. П. Мельгунова «Трагедия адмирала Колчака» посвящена анализу тех причин, которые привели армию Колчака к поражению в противостоянии антигосударственным силам. Прямой и безукоризненно честный Адмирал, взявший на себя бремя Верховного правителя и мечтавший о восстановлении Великой России, столкнулся не только с явным противником в лице большевиков, но и с двурушнической политикой командования союзников, личными амбициями сибирских атаманов, не желавших признавать конституционного диктатора, действиями международных авантюристов, жировавших в условиях русской беды, и прямым предательством партийных функционеров, пошедших на сговор с большевиками.
История последних дней Адмирала Колчака – это история подлости и предательства национальных интересов России, о которой должны знать наши современники.
ББК 63.3(2)611 УДК 94(47)
ISBN5-8112-0547-3 (Кн. 2) ISBN5-8112-0548-1
© Указатель, оформление, Айрис-пресс, 2004
Часть III . Том 1
КОНСТИТУЦИОННАЯ ДИКТАТУРА
ОТ АВТОРА
Третья часть (тома I и II) является основой моей работы. Перед читателями пройдут факты, которые для многих из них будут неожиданны. И мне хотелось бы, чтобы те, кто будут критиковать «Трагедию адмирала Колчака», свои возражения основали на фактах и фактам, приводимым мною, противопоставляли факты другие. Я пытался, насколько возможно, быть объективным, подразумевая под объективизмом то, что я никогда сознательно не скрывал фактов, мне известных и противоречащих устанавливаемым концепциям. Политику никогда не следует забывать о «слабости человеческого ума, который судит тем свободнее, чем меньше он связан знанием фактов». Эти слова В. А. Маклакова в письме из Парижа к членам Нац. Центра на Юг (2 мая 1919 г.) относятся к суждениям иностранцев, которые «не умеют молчать тогда, когда не понимают» [«Кр. Арх.». XXXVI, с. 22]. Я мог бы до некоторой степени их повторить по поводу пристрастной критики М. В. Вишняка (о первой части моей работы), напечатанной им в «Поел. Нов.» под своеобразным заголовком «Трагедия С. П. Мельгунова». Не сомневаюсь, что, если бы я осветил самарскую эпопею в том духе, как это сделал в «Современных Записках» мой критик, моя работа, с его точки зрения, носила бы характер и объективный и научный. Но это противоречило бы фактам, с которыми подчас весьма мало считается публицист, историк и политик эсеровского лагеря. В своей критике моей работы он не противопоставил одним фактам другие*. Он поступил проще. Он пытается аннулировать значение приводимых мною фактов голословным их отрицанием, ссылаясь на прекарность [от франц. ргесаіге – ненадежный. — Прим. ред.] моих источников: все это-де показания большевиков и ренегатов. Он нашел даже «нимфу Эгерию», которая меня вдохновила. Критику нет дела до того, что я всегда сопоставляю источники разного происхождения; каждый мало-мальски объективный читатель легко увидит, что у меня нет никакой особой приверженности к «показаниям всевозможных предателей и „ренегатов“». Для Вишняка это публицистический прием в целях подорвать доверие читателей к фактам, которые не могут быть приятны демократу, но которые тем не менее в действительности были.
Из песни слова не выкинешь. Негодуя на мою неопровержимую «тенденциозность», М. В. Вишняк не счел нужным отметить для читателей «Поел. Нов.» ту оговорку, которая красной нитью проходит через все мое изложение. Я не делаю ответственными самарских политических деятелей за те эксцессы, которые происходили на территории Правительства Комитета У. С. Не могу я также делать за аналогичное ответственным и Сибирское правительство. Вернее, если говорить об ответственности, то ответственность должна быть одинаковой. Регистрация этих эксцессов при «демократической» власти возбуждает наибольшее негодование моего критика. Почему? С М. В. Вишняком у меня был уже курьезный литературный спор в начале дней моей эмиграции – в 1924 г. Вишняк на столбцах «Дней» негодовал на умаление мною авторитета б. Учр. Собрания и считал такую критику (в области истории) несвоевременной, ибо ею могут воспользоваться политические противники. На столбцах «Поел. Нов.» я отвечал Вишняку в статье «Когда можно писать правду»? (20 марта). То же, в сущности, повторилось, когда я попытался «несвоевременно» реабилитировать память адм. Колчака в историческом экскурсе. Догма требует признания «диктатуры» Колчака реакционной, а Правительство Комуча par ехеіепсе демократическим. Это подход политический, а не исторический. Я старался в своем изложении держаться методов исторических. И здесь приходится уже руководствоваться принципом Герцена: «Когда бываешь принужден печатать только часть правды, есть всегда риск сказать неправду»...
Пока М. В. Вишняк сделал одно только фактическое возражение. Ему представляется «вымышленной» и «абсурдной» моя схема, вернее, попутно отмеченная мною несогласованность в действиях русских политических организаций, выдвигавших создание так называемого Восточного фронта. Я указывал, что Самарский фронт, созданный искусственно и преждевременно, возник, скорее, в противовес планам «Союза Возр.» и «Национального Центра». Этот центральный пункт «обвинения» – как утверждает Вишняк – «висит в воздухе», ни одним фактом не подтвержден, да и не может быть подтвержден. Нет, фактов у меня приведено достаточно. Но, в сущности, повод для спора почти исчезает, если мое «обвинение» формулировать словами самого Вишняка: «Чисто хронологически можно утверждать... что комбинация «С. В.» и «Н. Ц.» возникла в противовес и направлялась вразрез плану создания фронта У. С.». Я готов согласиться: партийному плану, выдвинутому, в сущности, еще в записке Чернова, представленной французской миссии в Москве, был действительно противопоставлен план общественный – план общенациональный. Те, кто создавали Правительство Комуча, не сочувствовали общественному договору и поэтому форсировали выступление. То, что Вишняку кажется в моей схеме абсурдным, просто является несомненным... Если бы это было не так, то почему было ген. Болдыреву не остаться в Самаре? – между тем он уклонился от принятия поста военного министра в Правительстве Колчака (ген. Болдырев в силу полученной информации иностранцами рассматривался как «эсеровский генерал» – так Гренар мне его и называл). Правильность моей схемы может быть доказана многочисленными свидетельствами, и Вишняк проявил лишь чрезмерную смелость в литературных суждениях, назвав мои утверждения «абсурдными». Косвенно я сам был одним из действующих лиц и мог бы рассказать о своих московских спорах и отношениях, установившихся с эсерами ориентации большинства ЦК, с момента, когда после Уф. Совещания была наконец установлена центральная власть и Комуч отошел формально в прошлое...
Убедить партийных политиков я все же не берусь, ибо знаю, что «человеку очень мудрено втолковать что-нибудь, о чем этот человек думает иначе». Это вновь в свое время отметил еще Герцен. В третьей и четвертой части своей работы мне приходится затрагивать очень острые общественные вопросы. Я хотел бы слышать возражения, основанные на фактах, а не на теоретических рассуждениях, которые исходят притом исключительно только из традиционных догм и предрассудков. Много спорного и неясного имеется еще в истории гражданской войны. Полемика, ведущаяся в области фактов, может способствовать прояснению загадочного и недоговоренного. Такую критику и такую полемику можно только приветствовать и не бояться, что подлинная история может помешать сплочению «антибольшевицкой демократии» и созданию некоего средостояния между правым и левым флангами русской общественности. Хуже всего вуалированное прошлое.
Надо думать, что мои суждения о деятельности партии с.-р. в период колчаковской «диктатуры» вызовут еще более острую критику. В четвертой части, озаглавленной «Катастрофа», мне приходится много говорить об этой партии. Это естественно: сибирские эсеры были главнейшими противниками власти Верховного правителя, и их дезорганизаторская работа в тылу армии, которая сражалась с большевиками, являлась едва ли не основной причиной крушения того дела, которому служил Колчак. «Революционная» работа сибирских эсеров, как мы увидим, шла рука об руку с антиправительственной деятельностью внутренних большевиков. Здесь и нужна оговорка для того, чтобы автора не обвиняли в сознательном искажении исторической перспективы. Конечно, партия эсеров, как и вся русская социалистическая демократия, не была единой в своих настроениях – это уже много раз подчеркивалось в тексте. Напр., группа парижских лидеров с.-р. отнюдь не солидаризировалась с той тенденцией, которая отмечалась в Москве и Сибири. «Нам чужда, – писали парижане своему ЦК, – ваша все растущая терпимость к советской власти, ваша готовность идти с нею единым фронтом для борьбы с антибольшевицкой коалицией». Но «оппозиция» в партии, пытаясь даже организационно существовать самостоятельно, никогда, кажется, публично не протестовала против тактики, установленной Советом партии, – тактики, выдвинувшей лозунг прекращения гражданской войны и идейной борьбы с коммунистами. К тому же она сама существенно разнилась во взглядах. Отсюда и проистекает трудность формулировки оттенков партийной мысли. Мнения в разные хронологические даты были отличны и противоречивы. Таким образом, неизбежно, говоря о деятельности партии с.-р. в Сибири, приходится руководствоваться официальной тактикой, которой держались партийные органы. Читатель заранее должен принять во внимание эту оговорку в тех случаях, когда он в тексте встретится с обобщающей характеристикой.
В заключение еще несколько слов благодарности тем, кого мне так часто приходилось беспокоить в процессе работы, – в частности Н. Д. Авксентьеву, А. И. Деникину, В. В. Чернавину, б. московскому консулу г. Гренару, заведующему русским отделом библиотеки Musee de la guerre г. Лера и представителям Тургеневской библиотеки в Париже.
20 июля [1930 г.]
_______________________________
* Критика его полна искажений моего текста и собственных ошибок, на которых я не могу здесь останавливаться, равно как на политических заключениях и личных характеристиках, к которым г. Вишняк счел уместным прибегнуть в критике исторической работы.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Диктатор
1. Черты для характеристики
Для биографа всегда целесообразнее дать общую характеристику личности после того, как перед читателем пройдет вся жизнь человека, жизнеописанию которого он посвящает свой труд. Но я не пишу биографии Колчака. Присущие его образу индивидуальные черты нужны мне лишь для обрисовки эпохи, нужны постольку, поскольку эти черты характера Верховного правителя накладывали свой отпечаток на текущие события. Вникнув в психологию того, кому суждено было принять на себя бразды правления, выпадавшие из ослабевших рук общественных группировок, пожалуй, отчетливее представишь себе и сам омский переворот 18 ноября.
Какими побуждениями руководился Колчак в своей сибирской деятельности?
Ярко и образно отвечает на этот вопрос бар. Будберг, сам подведший в дневнике итоги тех наблюдений и суждений, иногда резких и односторонне субъективных, которыми переполнены его записи о личности и деятельности Верховного правителя.
Оставив пост управляющего военным министерством и возвращаясь в Харбин «с разбитыми вдребезги иллюзиями о возможности скорого избавления России от навалившейся на нее красной погани и ее белой разновидности – атаманщины всех видов и калибров» [XV, с. 325], Будберг в записи дневника 26 31 октября 1919 г. дает такую общую характеристику Колчака1:
«Характер и душа адмирала настолько налицо, что довольно какой-нибудь недели общения с ним для того, чтобы знать его наизусть.
Это большой и больной ребенок, чистый идеалист, убежденный раб долга и служения идее и России; несомненный неврастеник, быстро вспыхивающий, чрезвычайно бурный и не сдержанный в проявлении своего неудовольствия и гнева... ради этой идеи его можно уговорить и подвигнуть на все, что угодно; личного интереса, личного честолюбия у него нет, и в этом отношении он кристально чист. Он бурно ненавидит всякое беззаконие и произвол, но по несдержанности и порывистости характера сам иногда неумышленно выходит из рамок закона, и при этом преимущественно при попытках поддержать этот самый закон и всегда под чьим-нибудь посторонним влиянием. Жизни в ее суровом, практическом осуществлении он не знает и живет миражами и навязанными идеями. Своих планов, своей системы, своей воли у него нет, и в этом отношении он мягкий воск, из которого советники и приближенные лепят что угодно, пользуясь тем, что достаточно облечь что-нибудь в форму необходимости, вызываемой благом России и пользой дела, чтобы иметь обеспеченное согласие адмирала... Тяжело смотреть на адмирала, когда неожиданно он наталкивается на коллизию разных мнений и ему надо принять решение; видно, что он боится не ответственности решения, а принятия неверного, вредного для всепоглощающей его идеи решения...
Он... болезненно реагирует на все, что становится на пути осуществления главной задачи спасения и восстановления России, причем, как и во всем, тут нет ничего личного, эгоистического, честолюбивого...
Попав на высший пост военного командования, адмирал, со свойственной ему подвижнической добросовестностью, пытался получить не приобретенные раньше знания, но попал на очень скверных и недобросовестных учителей, давших ему то, что нужно было для наставления адмирала в желательном для них духе...
На свой пост адмирал смотрит как на тяжелый крест и великий подвиг, посланный ему свыше, и мне думается, что едва ли есть еще на Руси другой человек, который так бескорыстно, искренно, убежденно, проникновенно и рыцарски служит идее восстановления единой, великой и неделимой России. Истинный рыцарь подвига, ничего себе не ищущий и готовый всем пожертвовать, безвольный, бессистемный и беспамятливый, детски и благородно доверчивый, вечно мятущийся в поисках лучших решений и спасительных средств; вечно обманывающийся и обманываемый, обуреваемый жаждой личного труда, примера и самопожертвования; непонимающий совершенно обстановки и неспособный в ней разобраться; далекий от того, что вокруг него и его именем совершается»... [с. 331—333].
Действительно, нельзя отказать автору дневников в образности изображения. Его зарисовка как бы фотографически запечатлевается в восприятии. Но насколько она соответствует действительности под пером человека, чрезмерно любящего аналитически «разглядывать жизнь» и слишком уверенного в познании истины?
Одна черта преобладает во всей этой характеристике. Будберг приехал в Омск с некоторым предубеждением против Колчака; по харбинским рассказам и впечатлениям других, он думал встретить скорее «самовластного и шалого самодура». «Совершенно ошибся», – записывает он после первого же свидания [XIV, с. 281]. И во всех последующих отзывах он подчеркивает исключительный идеализм, которым веяло от всей фигуры «полярного мечтателя». Не один Будберг выносит такое впечатление. Вернувшийся из Омска в Харбин ген. Флуг передает Будбергу, что адмирал «чище, честнее, идейнее всех» [XIII, с. 284]. Эти свойства не могли не очаровывать тех, которые подходили к Колчаку не с мерилом формальных и трафаретных политических оценок и которые искали, как, например, беллетрист Ауслендер, прежде всего «подлинной человечности»... Подобное очарование отнюдь не являлось результатом искусного приема, примененного опытным charmeur'oм2, – увлекала та простота, внимательность, отзывчивость и непосредственность, с которой Колчак, внешне замкнутый даже в отношении близких, обращался к новому лицу [Иностранцев. – «Белое Дело». I, с. 106].
По-видимому, сама внешность подкупала. «Этот человек одной наружностью внушает доверие», – пишет в июне 1919 г. один солдат, впервые увидавший адмирала. Нервный, порывистый, с правильными, волевыми чертами лица, с подвижными, умными глазами (впечатление проф. Легра), с какой-то горькой и странной складкой в губах3 – Колчак не мог не привлекать к себе внимания и симпатий.
Колчак был человек порыва4 и повышенной нервозности, которую он сам в таких словах охарактеризовал на допросе: «Я бываю очень сдержан, но в некоторых случаях я взрываюсь» [с. 121]. Он действительно был весь соткан из нервов. «Мне всегда казалось, – говорит Струве, – что у него слишком много нервов, слишком много того, что в научном физиологическом смысле называется чувствительностью» [«Возр.», № 252]. Другими словами, у Колчака был холерический темперамент. Он быстро переживал каждое свое ощущение и при отсутствии лукавства и скрытности бурно реагировал на события. Всякая неприятность отражалась на его внешности [Иностранцев]. «Жалко адмирала, когда ему приходится докладывать тяжелую и грозную правду: он то вспыхивает негодованием, гремит и требует действия, то как-то сереет и тухнет, то закипает и грозит всех расстрелять, то никнет и жалуется на отсутствие дельных людей, честных помощников» [Будберг. XIV, с. 260].
Все эти черты были бы пагубны для дела, если бы Колчак в эксцессах гнева терял чувство меры, принимая решения, диктуемые повышенностью восприятия – «рыцарь подвига» мог сделаться насадителем произвола и насилия. Этого не было. Колчак не только был отходчив, но с чрезвычайной легкостью признавал и свою неправоту (особенно если он нарушал своими действиями «закон») и шел на уступки, которые некоторые из окружавших склонны были приписывать исключительно слабости воли5. Ближайшие сотрудники адмирала, по-видимому, быстро приспособлялись к его неуравновешенности и не чувствовали моральной тяжести от бурных выходок своего шефа6. Он кромсал перочинным ножом ручки своего кресла, бурлил – «нахохлится, но терпеливо слушает», по выражению Будберга. Людей с таким характером легко можно полюбить – им охотно прощают излишнюю подчас резкость. Такие люди лести не любят, к интригам не склонны. Перед ними безбоязненно можно говорить откровенно. Будберг передает довольно характерный эпизод. Рассказан он им в целях показать «печальное воздействие старших военных начальников на адмирала», который принял орден Георгия III ст. за взятие Перми. «Я не знал этого пожалования, – рассказывает Будберг, – и, видя на адмирале шейного Георгия, думал, что он получил его во флоте в прошлую войну; поэтому, когда Лебедев в вагоне адмирала заговорил о пожаловании георгиевских крестов за какой-то бой, то я, не стесняясь в выражениях, высказал свой взгляд на позорность такого награждения во время гражданской войны. Только после, когда мне объяснили, в чем дело, я понял ошалевшие взгляды и отчаянные жесты присутствовавших, делаемые мне с соседнего с адмиральским стола» [XIV, с. 242]. Конечно, отношение адмирала к Будбергу не изменилось от невольной бестактности последнего.
Резкость адмирала шокировала иностранцев. Надо сказать, однако, тех из них, которые с самого начала встали в довольно враждебное отношение к Колчаку, как это было с представителями французской военной миссии во главе с ген. Жаненом7. Очевидно, здесь дело было не в экспансивности Верховного правителя, который не умел скрывать своих переживаний и с излишней откровенностью подчас их высказывал. Штефанек будто бы сказал: «Думал встретить диктатора, а нашел больного в 39-градусной горячке» [Драгомирецкий. С. 84]. Конечно, для руководителя высшей политикой это было минусом, ибо жизнь требовала часто уменья приспособляться к дипломатической фальши.
Нервность Колчака повышалась в связи с неудачами в Сибири. При его впечатлительности это было естественно. Колчак всего себя отдавал служению родине и готов был требовать такой же жертвенности и от других. Поистине Колчак душою болел о России. И не приходится издеваться над «расшатанными нервами» Верховного правителя, как это делает автор из «Чехосл. Дневника». Болезненность переживаний чрезвычайно усилилась к октябрю, когда началась сибирская катастрофа. Ген. Иностранцев, назначенный 19 мая генералом для поручений при Колчаке и отмечающий его «деловитость и понимание», в октябре уже не узнает адмирала – перед ним больной человек с воспаленными от бессонницы глазами. В дни эвакуации из Омска это «нравственно измученный человек» [Гинс. II, с. 112]. Почему? Это станет ясно, когда мы познакомимся с фактами, которыми отмечен первый год диктатуры Верховного правителя.
Ген. Жанен с легкостью утверждает, что Колчак был морфинистом [«М. S1.», 1924, XII, р. 238]8. Откуда получил он такие данные? Никто другой об этом не говорит. Все, кого я спрашивал, решительно отрицают это. Приходится думать, что шеф французской военной миссии вновь почерпнул информацию от одного из своих многочисленных «тайных агентов».
* * *
«Бедный и беспомощный идеалист»... Честный, искренний, прямой, этот человек – «мягкий воск», из которого можно лепить все, что угодно. «Сколько хорошего можно было бы сделать из этого вспыльчивого идеалиста, полярного мечтателя и жизненного младенца, если бы слабой волей руководил кто-нибудь сильный и талантливый, и руководил так же искренно и идейно, как искренен и предан идее служения России сам адмирал».
Будберг чрезвычайно субъективный наблюдатель с гипертрофией чувства критики. К его выводам надо относиться с большой осторожностью. Но уже то, что он так высоко ставил моральные качества характеризуемого лица, само по себе знаменательно. Слабоволие как-то не вяжется в моем представлении с образом Колчака. Это был человек, относившийся с большой доверчивостью к людям, увлекавшийся ими и, конечно, больно разочаровывавшийся в них. Доверчивость отнюдь не синоним слабости воли и податливости чужому влиянию9. Будберг старается провести параллель между Императором Николаем II и Колчаком. Между тем трудно себе представить более разные типы.
Другой наблюдатель, Гинс, имевший возможность близко подойти к интимным переживаниям адмирала в течение десятидневной совместной поездки в октябре в Тобольск, в конце концов, разочарованно замечает: «Человек корабельной каюты, не привыкший управлять живыми существами. Наивный в социальных и политических вопросах» [II, с. 369]. Да, это «редкий по искренности патриот, горячий, честный, не умеющий лукавить, умный по натуре, чуткий, темпераментный, но»... У Гинса, как было уже указано, особый подход – он отгораживается от того, что участвовал в проведении кандидатуры «неудачливого диктатора». Для политика Гинса Колчак как бы слишком примитивен. «Бонапарт не может появиться среди моряков», – устанавливает уже общий тезис мемуарист, – адмирал командует флотом из каюты, не чувствуя людей, играя кораблями» [с. 367]. Колчак был прежде всего моряк по привычке: «он добр и в то же время суров; отзывчив и в то же время стесняется человеческих чувств, скрывает мягкость души напускною суровостью. Он проявляет нетерпеливость, упрямство, выходит из себя, грозит – и потом остывает, делается уступчивым, разводит безнадежно руками. Он рвется к народу, к солдатам, а когда видит их, не знает, что им сказать».
Так ли это? Не придумана ли такая концепция? Колчак – прекрасный, по-видимому, оратор – не умел говорить с массами?.. А его выступления в Черноморском флоте в те тревожные дни, когда современник-очевидец записал: «Колчак один на высоте?» Колчак, поддержанный партией эсеров, усиленно выступает в ряде митингов. Предоставляю слово этому современнику10.
«Я помню один из колоссальных митингов в цирке, где собралось несколько тысяч матросов. Здесь в месте, где играл оркестр, собрался весь президиум Совета раб. и сол. депутатов. Цирк жужжал, как улей, когда раздался звук колокольчика и председатель Канторович отчетливо произнес: – Слово принадлежит командующему флотом товарищу адмиралу Колчаку...
Настала мертвая тишина, и когда во весь свой рост поднялся, опираясь на барьер ложи, адм. Колчак, то цирк разразился неистовыми аплодисментами, и не скоро адмирал мог начать свою речь.
В своей красиво построенной речи, понятным и простым языком адмирал нарисовал картину развала армии, нарисовал то печальное и позорное будущее, что ожидает страну при поражении... Он сказал, что, благодаря своей сознательности, во всей России только Черноморский флот сохранил свою мощь, свой дух, веру в революцию и преданность родине, и теперь – долг флота из своей среды выделить тех, кто сумеет увлечь за собой армию на подвиги, что «сказкой казарменной стали». Бесконечные аплодисменты раздались в ответ на слова адмирала. Был такой подъем, такой взрыв искреннего патриотизма, что снова поверилось в русский народ, снова казалось, что не все потеряно...
Тогда родилась «черноморская делегация», которая увлекла за собой полки на Галицийском фронте и в большинстве – погибла во главе этих полков»... 11
Достаточно указать, что даже такие пристрастные исследователи, как большевицкие историки, должны признать, что Колчаку удалось, благодаря личному влиянию, добиться «огромных успехов» в Севастополе12.
Мы часто склонны считать людей, которых мы не понимаем, и наивными и элементарными. Если запальчивость – отличительная черта моряков, то Колчак – типичный моряк. Но он далеко не морской волк изображения Станюковича; это не шаблонный тип, который создает бытовая специфическая обстановка. Это моряк совершенно незаурядный. Человек очень определенных и своеобразных взглядов. Взгляды его можно не разделять, можно оспаривать, но нельзя им отказать в большой оригинальности.
Психология и миросозерцание Колчака многим из нас будут чужды. Их, во всяком случае, не поймут те, которые мерят только по признанному трафарету. Для иных достаточно прочесть свидетельство Гинса, что Колчак с интересом читал «Протоколы сионских мудрецов»13 и был пропитан антимасонскими настроениями, – и облик адмирала безнадежно потускнеет в их представлении; достаточно им узнать, что адмирал высоко ставил старый устав о полевой службе – одно из «самых глубоких и самых обдуманных военных положений», считая его настоящим «кодексом диктатуры», т. е. кодексом чисто военного управления [«Допрос». С. 150], – и адмирал станет для них уже не только «политически наивным», а прямым реакционером в общепринятом смысле этого слова. Между тем назвать адмирала реакционером, по образному выражению Будберга, было бы «подлостью» [XV, с. 311].
Колчак был, несомненно, прогрессивный человек, чуждый, правда, трафаретной политики. Он ее не понимал, ею не интересовался, потому что на первом плане для него стояла «великая военная идея». И он строит себе особую социологию в духе «Трех разговоров» Вл. Соловьева: война для него – «великое честное и святое дело». Война очищает человека и уничтожает того зверя, который господствует над миром, над человеческой массой14. Идеология социализма бессильна побороть эти исторически сложившиеся силы. Война в этих условиях приобретает высший, религиозный и метафизический смысл – она выше «справедливости», выше личной жизни... Эта иррациональная – по собственным словам Колчака – основа делает войну началом как бы очистительным, несмотря на то что война сама по себе связана со многими отрицательными явлениями. Так смотрел Колчак и на мировую войну. Для него она была подлинно «великой». Она дала ему полную компенсацию, даже «счастье и радость». Может быть, это была одна из тех «диких фантазий», которыми он «иногда» руководствовался в жизни15.
Колчака охватывает какое-то мистическое одухотворение, когда он думает о «живой душе войны». В Японии он часами сидит перед камином и наблюдает за клинком кинжала, который в его сознании начинает оживать внутренней в нем скрытой силой, здесь скрыта как бы часть этой живой души войны. Колчак начинает понимать сокровенный смысл старинного японского культа «холодной стали».








