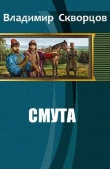Текст книги "Как стать оруженосцем (СИ)"
Автор книги: Сергей Тимофеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Как египетское божество Тот выполнял несколько функций. Он был богом Луны, и его символами считались рогатый месяц и серебро. Он играл роль психопомпа – то есть инициатора большинства тайных мистерий. Он служил проводником душ в загробный мир и стражем этого мира; в его власти было взвешивать души умерших, чтобы определить их посмертную судьбу. Ему приписывалось изобретение письменности, и его часто изображали – как в отрывке из Джойса – исписывающим табличку при помощи тростниковой палочки. Вследствие того, что письмо воспринималось как магия – как "слова бога", или "божественные слова", – Тот также считался богом магии, величайшим волшебником, который доверял секреты своего искусства своим последователям среди людей.
В определенных отношениях сфера деятельности Тота пересекалась с сферой деятельности греческого бога Гермеса. Поэтому во времена династии Птолемеев он был объединен с греческим божеством, имя которого было присоединено к его имени. Однако Тот-Гермес был более величественной фигурой, чем его греческий собрат. Папирус из Александрии
"представляет нового синкретического Гермеса как некую космическую силу, как творца неба и земли, всемогущего властелина мира. Управляя судьбой и справедливостью, он также является владыкой ночи, богом смерти и того таинственного, что за ней следует, – поэтому его часто связывают с Луной (Селеной) и Гекатой. Он знает "все, что происходит под небесным сводом и в недрах земли", и его почитают как того, кто посылает пророчества. Многие из магических заклинаний, адресованных Гермесу, предназначены для того, чтобы извлечь скрытую информацию, причем нередко с помощью бога, который должен явиться во сне".
Многочисленные работы, приписываемые Тоту-Гермесу или связанные с ним, часто отличаются туманностью и многословием. Многие из них заполнены материалом, взятым из разных источников. Многие пересекаются или совпадают с другими религиями, культами, философскими учениями и школами, характерными для александрийского синкретизма. Так, например, известны семнадцать основных диалогов под общим названием Corpus Hermeticum. До нас дошли около сорока отрывков и фрагментов, собранных вместе примерно в 500 году нашей эры и вошедших в "Агиологию" Джона Стобея. Известны также три текста, написанные на коптском языке на папирусе и найденные в 1945 году вместе с другими рукописями в египетской библиотеке Наг-Хаммади. Три других фрагмента дошли до наших дней только в виде цитат у первых христианских теологов. Сохранилось большое количество прикладных работ, например в области астрологии и алхимии. И наконец, есть еще два очень важных труда, написанных позднее. Один из них – это трактат по магии и астрологии "Пикатрикс". Другой, и, вероятно, более известный, называется Tabula snmragdina, или "Изумрудная скрижаль". Последний труд обычно считался наиболее сжатым и в то же время полным изложением герметической философии".
...Когда покидали замок хлебосольного сэра Мальбрука, душа Владимира пела голосом Олега Анофриева: "Нам дворцов заманчивые своды...", и далее по тексту. Сэр Ланселот шествовал мрачнее мрачного, но злоупотреблять долее гостеприимством не мог, поскольку свел на нет арсенал радушного хозяина. Время от времени он оглядывался, а иногда даже рука его тянулась к рукоятке меча, благоразумного не задействованного в поединках, а потому оставшегося целым. Рамус, позевывая, еле плелся, стараясь держаться от рыцаря на разумном расстоянии, поскольку того раздражало абсолютно все; он цеплялся к каждому слову, и это его настроение грозило обернуться какой-нибудь крупной неприятностью. Несколько раз Рамус порывался поведать что-нибудь развлекательное, вкупе с поучительным, но эти его попытки заканчивались, едва начавшись.
– Жил-был на белом свете рыцарь, отличавшийся любовью к чтению... – снова забормотал Рамус, не теряя надежды.
– Что за чушь! – тут же взметнулся сэр Ланселот. – Что ты несешь? Где рыцарь, и где чтение?!
– За что купил, за то и продаю, – спокойно ответил Рамус. – Лично мне, все равно, чем он там отличался, потому как речь пойдет совершенно не об этом. Дело в том, что рыцарь этот страшно не любил драконов и великанов, с каковыми поступал подобно тому, как крестьянин, обнаружив среди зарослей капусты в своем огороде козла, поступает с этим последним. Причем обладал он характером настолько занудным, требуя исполнения каждой буквы, – даже написанной по ошибке и зачеркнутой, в уложении о поединках между рыцарями и прочими, – что драконы и великаны, заслышав о его приближении, предпочитали позорное бегство длинным и унылым разбирательствам. Этим своим поведением он навлек на себя гнев прочих рыцарей, лишившихся, по его милости, достойных противников, вступать же с ним в поединок никто не отваживался, по причине уже упомянутого мною занудства. Так вот, сей рыцарь, возомнив о себе невесть что, путешествовал по стране, в поисках поединщиков, а если быть точнее, ответчиков, ибо, благодаря его усилиям, судейских в королевстве развелось больше, чем военных. При его приближении прятались даже змеи и ящерицы, что было совершенно излишне, поскольку наш рыцарь с возрастом значительно ослабел зрением. И совершенно неудивительно, что через какое-то время он стал видеть окружающие его предметы в несколько ином свете, нежели те из себя представляли. В частности, ветряные мельницы с их крыльями, он воспринимал за великанов, вызывающих его на бой, а поскольку храбрости ему было не занимать, то с некоторых пор он просто хватал копье наперевес и бросался в атаку. Сколько мельниц он переломал этим своим копьем – не счесть, однако и тут ему никто не мог помешать. Мельница, – она не Прекрасная Дама, а потому никто из рыцарей встать на ее защиту не мог, не зародив подозрения в ясности своего ума. Мельники же, не будучи в возможности оказывать вооруженное сопротивление, должны были обращаться в заведомо проигрышный суд, ибо судейские прекрасно помнили, кому обязаны своим процветанием. В общем, ожидал королевство полный развал зарождающейся промышленности и разруха, если бы кто-то не предложил простой выход – заменить ветряные мельницы водяными. Одну, правда, оставили, специально для нашего рыцаря. Ее поставили поближе к его замку, чтобы он мог, особо себя не утруждая, каждый день совершать подвиг.
Сэру Ланселоту эта байка вовсе не показалась забавной. Более того, он счел ее оскорбительной для рыцарства. Где рыцари, и где судейские? Что это за безумные поступки с мельницами? Он собирался уже было устроить Рамусу хорошенькую трепку, но последний, по счастью, споткнулся и шлепнулся в лужу. Сочтя последнее достаточным наказанием, тем более, что оно последовало незамедлительно и как бы в назидание, сэр Ланселот этим и ограничился. То есть, поначалу он собирался окунуть Рамуса в лужу вторично, но тот, прочитав этот замысел на его лице, упал сам, на самый краешек, после чего совершенно удовлетворенный рыцарь снизошел до того, что задал "допущенному тайнам" вопрос об альраунах. Вопрос этот имел под собой практическое основание, а вовсе не являлся праздным любопытством и стремлением расширить свой кругозор. Дело в том, что, согласно слухам, альраун водился где-то неподалеку, на каком-то поле, и они отправлялись на их – поля и альрауна – поиски. Примета для поисков, сообщенная Рамусу алхимиком, была очень проста. Кто-то по ночам оставлял на поле необычные следы, в виде примятых и перепутанных колосьев, составлявших некий узор, рассмотреть который с земли было невозможно, только с какого-нибудь высокого дерева, желательно, на холме.
– Альрауны, они такие... – Рамус изобразил некое волнообразное движение.
– В форме змеи? – уточнил сэр Ланселот.
– Нет... Они в форме человека, но... В общем, есть такое растение, называемое мандрагорой, корень которой напоминает человечка. Вот колдуны и повадились из него себе помощников делать, по части сокровищ всяких. Найти, там, сберечь... А поскольку подходящее растение найти не так-то просто, их со временем начали делать, из чего придется: из репы, свеклы, наконец, просто из дерева... Только такие альрауны совершенно бестолковыми получались, они не то чтоб найти и сберечь, у хозяев тащили... Врать научились; ну да с людьми поживешь, еще и не такому научишься. Прет, рассказывали, посреди ночи по коридору мешок со столовым серебром, грохот стоит, будто от привидения. Поймают, спрашивают, что да как, а он вытянется в струнку, в глаза смотрит и отвечает: "Сам удивляюсь, ваше сиятельство, откуда тут мешок взялся. Я вот буквально только что, как вам заявиться, здесь оказался". А у самого еще что-нибудь ценное из-за пояса торчит. Блюдо там, или набор из сорока предметов. Стали их за подобные проделки гнать отовсюду, так им и горя мало. Селятся поблизости от жилищ, одичали немного, а повадки старыми остались.
Правду сказать, я бы от всех этих фейри держался подальше. Нет от них никакой пользы, кроме вреда. Не бывало еще такого на белом свете, чтобы их помощь боком не вышла. Рассказывали мне об одном лепреконе, – этот тоже по драгоценному делу специалист. Был он страшно скуп, а потому одежда его и башмаки часто приходили в уныние, иногда просто разваливаясь. Он и приспособился – выходить на дорогу и плакаться в жилетку первому встречному на свою нелегкую жизнь. Нельзя сказать, чтобы истории его отличались разнообразием, поскольку он подслушивал их возле хижин бедняков. Зато действовали безотказно. Жалостливый человек давал ему что-нибудь, или чинил его обноски, за что тот каждый раз предлагал исполнить три желания. При этом он раскрывал свое инкогнито и сообщал о зарытом неподалеку котле с золотом. Знание же человеческой натуры ограничивало его посул исполнением всего лишь одного, поскольку, усышав о котле с золотом, прохожий, как правило восклицал что-нибудь вроде: "чтоб мне лопнуть", "провалиться мне на этом самом месте" или "разрази меня гром". Каковое восклицание считалось желанием и честно исполнялось. Правда, иногда лепрекону приходилось туго. Особенно доставалось ему от матросов, которые, хоть и являются самыми вежливыми людьми, набираясь хороших манер при посещении других стран и впитывая их подобно губке, тем не менее, благодаря своей романтичной профессии, обладают богатой фантазией в высказывании пожеланий. Сухопутной мыши трудно даже предположить, что якорь, к примеру, может использоваться не только для удержания корабля на месте. Тем более, если их, скажем, сто. Или даже тысяча. А ведь на кораблях имеются еще и мачты, и бушприт...
В конце концов, об исчезновении некоторого количества подданных стало известно королю, он дознался причины и велел устроить облаву, окончившуюся ничем. Лепрекон затаился, а может быть, откупился. Пересидев репрессии, он изменил тактику и начал действовать согласно плану, разработанному им в укрытии. Теперь он, вместо того, чтобы исполнять три желания, вел путника к месту, где был зарыт котел; как правило, это было поле с обилием цветов. Поскольку копать путнику было нечем, лепрекон подсказывал простое решение – обвязать случайно оказавшейся у него ленточкой тот цветок, под которым находилось золото. Пока путник будет бегать за киркой и лопатой, он не только что не будет прикасаться к повязанной ленточке, но даже с места не сойдет. Будет сидеть и ждать. В чем дает самую страшную клятву, какую только от него потребуют. Он клялся, давал совет, каким именно узлом лучше всего завязать ленточку, – например, двойным морским, – после чего садился и с невинным видом принимался считать ворон, разглядывать облака – в общем, выбирал себе самое невинное занятие.
Следует отметить, клятву свою он и в самом деле сдерживал. Но когда запыхавшийся человек прибегал обратно с орудиями труда, то оказывалось, что его грубо надули, поскольку все цветы на поле оказывались перевязаны точно такими же ленточками и точно такими же узлами. Поймать лепрекона за руку оказывалось невозможно, поскольку тот от всего отпирался и плел небылицы; мол, как только человек убегал, на поле тут же появлялись его, лепрекона, злые сородичи, которые, в отличие от него самого, были готовы на любое преступление даже за ржавый гвоздь, чего уж говорить о золоте. Они, собственно говоря, и устраивали то безобразие, свидетелем которому он в настоящий момент и является. Прогнать же сородичей он никак не мог, поскольку, во-первых, дал обещание не сходить с места, а во-вторых, они легко могли ему накостылять, воспользовавшись численным перевесом.
Время шло, и лепрекон распоясался вконец. Теперь он не гнушался выпрашивать что угодно, от корочки хлеба до мелкой монетки, все пускал в дело, и, как результат, его стало не узнать. Он превратился в толстого неповоротливого увальня, к которому совершенно не подходили бессовестные рассказы о бедности, в каковой он пребывает. Тогда он пошел дальше, и начал за небольшую мзду указывать место нахождения клада, используя прежнюю уловку. Когда же слава о нем распространилась далеко за пределы округи, и поле стали обходить стороной за десятки миль, он принялся выходить на дорогу с алебардой...
В общем, неизвестно, чем бы все кончилось, если бы на этого хитреца не нашелся простак. А простота, она, как известно, пуще воровства. Попались на удочку лепреконову двое путников. Один, как водится, за инструментом побежал, а второй, тот самый простак, стеречь остался. Лепрекон ему глаза завязал, спиной к себе поставил, и занялся своим обычным делом, то есть надувательством. К тому времени, как первый вернулся, поле пришло в свое обычное состояние, то есть – все в ленточках. Так он этим самым инструментом поначалу лепрекона, с его песней о злых сородичах, прибить хотел, а потом, поскольку с того взятки гладки, на своего товарища набросился. Ты-то, мол, чего здесь стоишь, рот раззявил, из-за таких вот как ты по миру идти приходится, ну, в таком духе. Тот только руками развел – как же я, мол, с завязанными глазами, да услежу? А первый убивается, что, мол, теперь вся жизнь прахом пошла, ежели в таком деле удачу упустить, так где ж ее вообще искать. Лепрекон глядит на него, только похохатывает. Второй же никак не поймет, чего убиваться-то? Инструмент принес, так и копай себе. Разве кто мешает? Тут первый об него лопату все-таки сломал.
– Где копать? – кричит. – Коли была одна ленточка на одном цветочке, а теперь вон их сколько...
А второй ему:
– Так мы ж с этим самым с места не сходили, как уговорено было. Здесь и копай, где стоим...
Первый на него глаза вылупил, а лепрекон рот раскрыл, от удивления. Вот так они его и наказали, за жадность и обман постоянный.
Рамус замолчал.
– Ну, и много золота выкопали? – спросил спустя время сэр Ланселот.
– Да где там... И котел этот самый дырявым оказался, и из золота всего одна монета, да и та фальшивая... Забрали они ее, так лепрекон за ними увязался. Ныл, стонал, что ограбили его подчистую, что на чужом горе все одно счастья не построишь, монету свою обратно требовал. Так надоел, что не только вернули, еще и приплатили, чтоб отстал...
Поле они в конце концов отыскали, причем только под вечер. Оно ничем не отличалось от всех, прежде осмотренных, но Рамус, вопреки очевидному, утверждал, что это именно то, которое они ищут. Никаких рисунков и примятой травы на нем не имелось, но "доступный тайнам" напомнил, что они видны только сверху, после чего взялся наколдовать крылья любому сомневающемуся, чтобы тот, воспарив над землей на необходимую высоту, мог сам в этом убедиться. Ему самому крылья не нужны, поскольку он не слепой. Его аргументы не убедили никого; тем не менее, дневная усталость давала себя знать, необходимо было устраиваться на ночлег, а на том ли поле, или на этом – не имело особого значения. Что же касается крыльев, проворчал сэр Ланселот, то пусть Рамус приделает их себе, поскольку он, сэр Ланселот, давно не практиковался в стрельбе из лука. И хотя для благородного рыцаря брать таковое оружие в руки без особой необходимости считается зазорным, нынешняя ситуация вполне извинительна.
После нехитрого ужина, – единственное, что иногда могло заставить Рамуса замолчать, – он заявил, что не доверяет всяким там хранителям кладов, да и вообще, от них одни неприятности. Вот, к примеру, случай, который рассказал ему один студент, когда он поступил в университет... Падуанский, кажется, но, впрочем, это не имеет никакого значения. У студента этого бы дальний родственник, которого звали то ли Гарпагон, то ли Дартаньян, Рамус запамятовал. Был этот самый родственник скуп настолько, что имя его стало притчей во языцех, несмотря на свое рыцарское звание. Тут Рамус, каким-то шестым чувством ощутив возмущение, уже готовое было прорваться со стороны сэра Ланселота рукоприкладством, хлопнул себя по лбу и вскричал: "Да нет же, это я все напутал!.. Это история не про рыцаря, а про ученого!.." Ликвидировав, таким образом, опасность, он продолжал, каждый раз запинаясь на слове "ученый". Этот самый ученый, по слухам, обладал несметными сокровищами, которые частью достались ему от предков, а частью он раздобыл сам, по большинству в походах против сарацин, стараясь взять в плен самых богатых с целью получения за них выкупа.
– То есть, конечно, дело обстояло не совсем так, – спохватился Рамус. – Если быть честным, то этот ученый обманул одного очень достойного рыцаря и поступил к тому в оруженосцы, после чего бессовестно пользовался щедростью последнего. Ну, там, еще, в мирное время, приторговывал билетами на турниры, в которых принимал участие его господин, сувенирами, которые якобы привозил с Востока, принимал мзду от кузнецов, боровшихся за право чинить рыцарские доспехи после турниров и походов, по мелочам чего...
Кстати сказать, у этого самого ученого был сын, тоже рыцарь, то есть, ученый. Ученым, как известно, для обретения известности и ее поддержания требуется участие в диспутах, каковые его сын старался не пропускать. Как известно, диспуты, во имя рождения истины, частенько заканчиваются дракой, и вот однажды, собираясь на очередной, сын ученого обнаружил, что у него сильно порвана ученая мантия, прямо по самой большой заплате, из которых, собственно, и состояла за неимением средств, так что починить ее не представляется возможным. Призванный на помощь слуга пришел в ужас от состояния мантии, однако попытался утешить своего господина тем, что и его обидчику, мол, досталось на орехи. И зря он, молодой господин, отказался взять мантию побежденного противника, как того требовал обычай. На что тот резонно возразил, что, во-первых, истинному ученому такое поведение не к лицу, а во-вторых, брать там все равно было нечего, поскольку он, видя плачевное состояние своего одеяния, пришел в такое негодование, что изодрал мантию своего противника в мелкие клочья, вместе с исподним... Зрители, что рядом стояли, тоже одеждой пострадали... В общем, в этом случае говорить о любви к истине как-то не приходится. Тем не менее, мантия все равно нужна, так что, не наведается ли слуга к ростовщику, может, тот согласится выдать несколько монет в обмен на какую-нибудь житейскую мудрость. Богатство, например, лучше бедности. Или: лучше хорошо ехать, чем плохо идти. А то вдруг ему глянется рецепт размягчения мрамора, тогда из него чего хочешь отлить можно, например, бюст в полный рост, или греческую нереиду с веслом... А то ему предстоит перед королем дискутировать, а его в таком виде и на подъемный мост не пустят.
Тут слуга был вынужден его сильно огорчить. Поскольку ростовщик этот самый, отчаявшись получить обратно хоть что-нибудь из прежде одолженного, требует теперь, чтобы, рыцарь, то есть ученый, приложил свою руку к грамоте, в которой обещается, при невыплате долга в срок, отдать ему, ростовщику, и оружие, и доспехи, и замок, и... то есть библиотеку со всеми содержащимися в ней рукописями.
– А больше ему ничего не надо? – вскричал рыцарь. – Если угодно, могу дать ему в ухо!.. Рыцарской рукой!.. Забесплатно!..
Рамус осекся, поскольку в данном случае заменить рыцаря на ученого не представлялось возможным, ибо, озвучивая произнесенные тем слова, он слишком хорошо вошел в роль, но сэр Ланселот только благодушно кивнул. Поведение рыцаря в данном случае соответствовало его убеждениям, а потому он не обратил внимания на небольшую нестыковку в повествовании.
Это услышал пришедший кстати или некстати ростовщик. Он кинулся наутек, но был остановлен дверной балкой, каковую едва не вышиб лбом. Будучи захвачен в плен, он, тем не менее, выказал необыкновенную стойкость, утверждая, что совершенно разорен, что сам пришел просить в долг, после чего, с места в карьер, намекнул открытым текстом об имеющейся у него универсальной отмычке. Вот если бы сын ученого согласился ею воспользоваться, – исключительно в качестве научного эксперимента, – и добраться до батюшкиных сундуков, ситуация могла бы измениться в лучшую для всех сторону.
– Так ты подталкиваешь меня на воровство? – с негодованием вскричал благородный... э-э-э... ученый, и попытался прибить ростовщика, но тот вывернулся, заявил, что его неправильно поняли, и что виной его словам – напавшая на него только что притолока, чему все присутствующие были свидетелями.
Ученый широким жестом выгнал его вон, однако, стоило ростовщику исчезнуть, как он, вспомнив о слове "эксперимент", повелел слуге вернуть того обратно. Действительно, ради экспериментов многие ученые рискуют жизнью, причем, даже не зная заранее их результатов, в данном же случае результат был предсказуем теоретически, а практическое подтверждение теории практикой – о-о-о, оно многого стоило! С какой стороны ни посмотреть.
Ростовщика вернули, объяснили ситуацию, но выяснилось, что универсальную отмычку он где-то в суматохе потерял. Поиски ничего не дали, а потому, получив затрещину, он с позором удалился, поставив своим некрасивым поведением крест на научном изыскании.
Делать было нечего, и ученый сын ученого отправился прямиком к королю, чтобы с глазу на глаз пожаловаться на судьбу, а заодно и скупердяя-отца. Он выбрал счастливый момент. Король только накануне ввел своим указом просвещение, и сидел на троне, окрыленный, в ожидании скорых результатов.
Видя вместо результатов ученого в лохмотьях, он оказался перед дилеммой: выдать пришедшему новое платье или казнить, и уже было склонился ко второму, когда тот припал к монаршим ногам с челобитной, в которой просил повлиять на своего отца, чтобы тот впредь выделял сыну достаточно средств. Большую часть которых обещался лично передавать в королевскую казну для реализации пресловутого просвещения.
Грамотно поданная челобитная возымела должное действие, король приказал позвать ученого-отца, а пока того доставляли, пришел в совершенную милость по отношению к ученому-сыну, выговорив передачи девяти монет из каждого полученного десятка в казну. Так что когда отец явился в королевский замок, дело уже было, собственно говоря, решено, и король с ученым-сыном расхаживали по залу, мирно беседуя о погоде и видах на урожай.
Когда вызванный прибыл, король попросил сына постоять немного за колонной, объявив, что уладит все сам. Монарх не стал тратить время понапрасну, и после традиционного: "как жена, как дети, сердчишко не пошаливает?..", сообщил, что в связи с грядущей перестройкой жизни в королевстве, требует ко двору его сына с причитающемуся тому содержанием. Ученый разумно возразил, что ежели сына забирают ко двору, то пусть двор о нем и заботится, а во-вторых, он готов служить господину мечом и пером, то есть, только пером, положить за него голову на любом диспуте, но в настоящий момент, равно как и во все предыдущие, беден как корабельная крыса. И все то золото, какое у него имеется, это золото заката и восхода, каковые он может наблюдать со стен своего разваливающегося замка, поскольку деньгами на ремонт не обладает. По вполне понятным причинам, он оделить этим золотом кого бы то ни было не в состоянии. А кроме того, даже если бы у него и имелась кое-какая заначка, то сын все равно не имел бы на нее никаких прав, поскольку замыслил на него недоброе. В поисках мифических сокровищ, якобы имеющихся у отца, он неоднократно вызывал его на диспуты устами всяких невежд, а сам, пользуясь его отсутствием, разобрал замок буквально по кирпичику, неаккуратно помещая их обратно, откуда, собственно, и проистекает имеющаяся в наличии разруха.
Видя, что король подпал влиянию отца, сын покинул свое убежище, и немедленно вступил с отцом в дискуссию. Король, отойдя подальше, с интересом наблюдал за потасовкой, пока отец, как более опытный ученый, не размазал менее ученого сына по полу...
Рамус, говоривший без передышки невесть сколько времени, пересох ртом и припал к флаге, что дало возможность сэру Ланселоту осведомиться, кончились ли на этом неприятности с сокровищами, которых не было, и вообще, какое отношение вся эта история имеет непосредственно к ним.
– К этому и веду, – не моргнув глазом, заявил Рамус. – Дело в том, что от избытка переживаний победитель тот же и преставился. Денег на похороны не было, поэтому его уложили на копья и понесли на ближайшее кладбище. Поскольку подобные вести разносятся быстро, к немногочисленной похоронной процессии присоединился ростовщик, время от времени дергавший ученого-сына за остатки мантии, и как-то по-особому ему подмигивая, одновременно стараясь как можно незаметнее избавиться от остававшихся в руках клочках материи.
Когда они добрались до места назначения, могильщики еще не справились со своей работой, поскольку им пришлось гонять от ямы какого-то странного типа с черепом в руках, пристававшего к ним с вопросом: «Йорик, мол, это, или не Йорик». Отчаявшись прогнать, ему было заявлено, что это Йорик, после чего тот, наконец, удалился, вручив череп ближайшему могильщику с уверением, что он, мол, в этом и не сомневался, и нечего было морочить ему голову столько времени.
Принялись копать дальше, но едва пару раз ткнули лопатой, как послышался звон. Обнаружился закопанный клад – котел с золотыми монетами. Возникшее недоразумение, по поводу того, кому именно должна принадлежать находка, быстро переросла в драку, в которой принял участие даже ученый-отец, поскольку, как оказалось, во-первых, он вовсе не умер, а впал в кратковременный летаргический сон, а во-вторых, нимало не смущаясь этим обстоятельством, заявил, что, поскольку могила предназначалась для него, следовательно, ему должен принадлежать и найденный клад. Будучи искушенными в диспутах, отец с сыном через некоторое время одержали полную победу, после чего, на радостях, помирились, облобызались, но воспользоваться богатством им так и не пришлось.
Как известно, вести разносятся быстро, и едва они достали из ямы котел, как заявился король, в сопровождении войска, со свежеизданным указом о незамедлительном, с момента подписания, вводе в королевстве, помимо просвещения, еще и культуры. Указ содержал примечание, гласившее, что виновные в драке на кладбище лишаются имущества, равно движимого и недвижимого, каковое наказание вступает в силу немедленно по обнаружении нарушения. Король и рад был бы пойти отцу и сыну навстречу, но указ есть указ, и его нельзя отменить вот так запросто. Конечно, если бы он знал, что так все случится, то непременно обождал бы с его подписанием, но что сделано, то сделано. Чтобы хоть как-то компенсировать ученым потерю всего, кроме доброго имени, король немедленно выделил им корабль для путешествия в иные страны, с целью нести туземцам культуру и просвещение. Починка корабля и набор команды осуществлялись, понятно, за счет владельцев...
Поскольку Рамус упомянул об университете, кстати, не в первый раз, позволим себе короткое отступление и ознакомимся с царившими там нравами. Правда это, или нет, пусть любознательный читатель решит сам, а мы откроем плутовской роман Франциско де Кеведо "История жизни пройдохи по имени Дон Паблос, пример бродяг и зерцало мошенников" (издание Л.: Художественная литература, 1980), где, в частности, так описывается поступление в вышеупомянутое учебное заведение хозяина главного действующего лица.
"Барина моего сразу взяли под свое покровительство несколько
стипендиатов, знакомых его отца, и он отправился в свою аудиторию, а я,
вынужденный начать свое учение на другом курсе и почувствовав себя одиноким,
начал дрожать от страха. Вошел я во двор и не успел еще сделать первый шаг,
как все студенты заметили меня и закричали: "Вот новичок!" Дабы скрыть свое
смущение, я стал смеяться, но это не помогло, ибо человек десять студентов
подошли ко мне и тоже начали смеяться. Тут мне пришлось – дай бог, чтобы это
было в первый и последний раз! – покраснеть, ибо один из студентов, стоявший
рядом со мной, вдруг зажал себе нос и, удаляясь, воскликнул:
– Видно, это Лазарь и собирается воскреснуть, так от него воняет!
Тогда все стали от меня отходить, затыкая себе носы. Я, думая спасти
свою шкуру, также зажал себе рукою нос и заметил:
– Ваши милости правы: здесь очень скверно пахнет.
Это их весьма рассмешило, и они, отойдя от меня, собрались числом чуть
не до сотни. Они заметно наглели и, видимо, готовились к атаке. По тому, как
они харкали, открывали и закрывали рты, я понял, что это готовятся мне
плевки.
Тут какой-то простуженный ламанчец атаковал меня страшнейшим плевком,
присовокупив:
– Начинаю!
Видя свою погибель, я воскликнул: "Клянусь богом, у..." Не успел я
произнести: "...бью!", как на меня посыпался такой дождь, что слов моих я не
мог докончить. Плевки у иных были так полновесны, что можно было подумать,
будто они извергают на меня свою склизкую требуху; когда же у других во рту
иссякала влага, они прибегали к займу у своих ноздрей и так обстреливали
меня, что плащ мой гремел, как барабан. Я закрыл лицо плащом, и он вскоре
стал белым, как яблоко на мишени; в него они и метили, и надо было видеть, с
какой ловкостью попадали в цель. Меня словно снегом облепило, но тут один
пакостник, заметив, что лицо мое было защищено и еще не успело пострадать,
подскочил ко мне, восклицая с великим гневом:
– Довольно плевать! Не убейте его!
Я и сам опасался этого и освободил из-под плаща голову, чтобы
осмотреться. В тот же миг злодей, припасший в утробе своей добрый снаряд,
обернулся ко мне тылом и залепил его прямо мне в глаза. Судите же теперь о